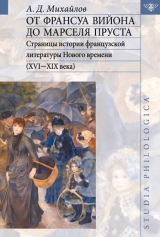
Текст книги "От Франсуа Вийона до Марселя Пруста. Страницы истории французской литературы Нового времени (XVI-XIX века). Том I"
Автор книги: Андрей Михайлов
Жанры:
Языкознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Если петрарковское влияние легко уловимо, если оно, так сказать, «лежит на поверхности», то воздействие поэтической стихии Данте менее заметно, но достаточно значительно. Если «Божественная Комедия» и не стала предметом ученых штудий, как произведения античных авторов, если она и не была настольной книгой всех без исключения образованных людей эпохи, как «Книга песен» Петрарки, то она, несомненно, входила в круг обязательного чтения гуманистов.
Не менее значительным и характерным было создание четырех переводов «Комедии» на французский язык. Та настойчивость, с которой четыре разных переводчика стремились проникнуть в сложную поэтическую мысль Данте, говорит о достаточно широком интересе к итальянскому поэту во французских литературных кругах. Еще одно свидетельство этого интереса – многочисленные лионские издания «Комедии» на языке оригинала: ведь вряд ли типографы из Лиона стали бы издавать книги, не пользующиеся спросом.
Но в возрожденческой Франции были люди, действительно читавшие или любившие Данте. Правда, для многих из них он был прежде всего мудрым историком, трезвым политиком и лишь в последнюю очередь – замечательным поэтом. Ближе всего приблизились к Данте, глубже всего его поняли те писатели Франции, для которых не были чужды ни его религиозные сомнения, ни его политические страсти, ни его библейская символика. Таковы были Маргарита Наваррская в первой половине века, поэты-протестанты во главе с Агриппой д’Обинье – в его конце.
РАННИЙ ГУМАНИЗМ И ФРАНСУА РАБЛЕ
1Гуманистические тенденции наметились во французской культуре уже на пороге XIV в. – в «Романе о Розе», особенно в его части, написанной Жаном де Меном, в «Сокровище» Брунетто Латини, книге, созданной итальянцем, но написанной по-французски, в трудах Сигера Брабантского, в споре о «Романе о Розе», в ходе которого впервые в истории культуры Франции было с определенностью сказано о земном предназначении человека, отдельной, конкретной, а не обобщенно абстрактной личности.
Тем не менее процесс «гуманизации» культуры протекал во Франции неравномерно и замедлился в XIV – XV вв. из-за Столетней войны, экономической отсталости, живучести средневековых установлений, и о гуманизме как широком общественно-культурном движении можно говорить лишь со второй половины ХV в.
Ранний французский гуманизм был узок по своим практическим целям, и этот прагматизм не был изжит в течение долгих лет. Помимо углублявшегося с каждым годом интереса к различным сферам научных знаний (что часто вызывалось запросами практической жизни), на развитие французского гуманизма оказал существенное воздействие быстрый прогресс эллинских штудий и внедрение книгопечатания. Оба эти события не могли свершиться без подготовки, они были показателем определенного уровня развития культуры и фактором ее дальнейшего движения (Итальянский гуманизм вначале ограничивался возрождением культуры Древнего Рима и не знал книгопечатания).
Эллинские штудии во Франции должны рассматриваться на фоне усиливавшихся культурных контактов с Италией. Первые греки, преподававшие во Франции, – и Георгий Гермоним из Спарты, и Иоанн Ласкарис, и Иероним Алеандр – попали во Францию через итальянские земли. Из Италии же вскоре прибыли во Францию первые «ренессансные» военчальники (Тривульци, Сан Севержво и др.), политики (Лодовико Каносса), банкиры (Антонио да Гонди), богословы и правоведы (Караччьоло), филологи (Бальби, Фаусто Андрелини, Скалигер), наконец, писатели (Габриэло Симеони, Луиджи Аламани и др.). Бурный рост эллинизма (первая греческая книга была напечатана во Франции в 1507 г. Франсуа Тиссаром) происходил в условиях того универсального интереса к филологическим знаниям, когда даже точные науки изучались в связи с посвященными им античными текстами. В этом, конечно, было нечто от Средневековья, но круг изучаемых античных памятников неимоверно расширился, а рядом с ними почетное место заняли произведения писателей ренессансной Италии.
Основателями первой парижской типографии (1470 г.) были профессора Сорбонны Жан де Ла Пьер и Гийом Фише; в их типографии печатались в основном латинские авторы, как древние (Цицерон, Саллюстий, Валерий Максим), так и новые (Гаспарино Барцицца, Лоренцо Валла).
К концу XV в. на территории Франции работали десятки типографий. Раннее французское книгопечатание характеризуется обращением к национальному наследию; в 1473 г. печатается «Роман о Розе», затем сборники «Сто новых новелл» (1485) и «Пятнадцать радостей брака» (до 1490), фарсы об адвокате Патлене (ок. 1486), сочинения Вийона (1489) и т. д. Весьма характерны и переложения рыцарских романов и произведений античности (например, французская обработка «Энеиды», 1483). Эти издания адресовались самому демократическому и многочисленному читателю, положив начало многовековой традиции «народных книг».
Французские гуманисты конца ХV в. были либо издателями, либо имели к издательскому делу прямое касательство, группируясь вокруг того или иного типографа, и их называют иногда «поколением книгопечатников».
В недрах этого «эдиционо-филологического» гуманизма зародилось движение, которое вскоре вылилось в Реформацию и повлияло на судьбу страны. Движение «евангелистов» было на первых порах чисто филологическим, ограничиваясь сопоставлением древнегреческих и древнееврейских текстов Писания и составлением лингвистических комментариев к ним. Но уже первый крупный французский «евангелист» Лефевр д’Этапль сделал отсюда необходимые политические выводы.
Жак Лефевр д’Этапль (1450 – 1536) был ученым богословом. Переворот в его философских взглядах совершился после путешествия в Италию (1492), где Лефевр познакомился со сторонником аристотелизма Эрмолао Барбаро и с неоплатониками Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола. По возвращении Лефевр не порвал с аристотелизмом, но, применив новые филологические методы, подготовил ряд изданий Аристотеля, снабдив их пространными комментариями, в которых сочеталась филологическая точность с изяществом стиля. Вскоре текстологические методы Лефевр применил к изучению религиозных книг. В 1509 г. он выпустил критическое издание «Псалмов», текст которых устанавливался по древнееврейским, греческим и латинским источникам. Пользуясь тем же методом, Лефевр напечатал в 1512 г. послания апостола Павла. Многолетний труд Лефевра по переводу на французский язык Библии завершился в 1530 г. ее изданием в Антверпене.
Работа Лефевра д’Этапля была, с точки зрения католической церкви, беспрецедентной «вульгаризацией» Священного писания, ибо церковь не отделяла суть католического учения от его «буквы», т. е. латинского текста Библии. К тому же изучение библейских текстов привело Лефевра к выводу, что пост, безбрачие духовенства, ряд компонентов литургии и т. п. – не находят подкрепления в первоисточниках и являются поздними церковными установлениями. Лефевр пришел к этим выводам задолго до окончания перевода. Вокруг Лефевра и его ученика и друга Гийома Бриссоне (1472 – 1534) возник кружок единомышленников, стремившихся претворить в жизнь идею истинного христианства, основываясь на изучении евангельских текстов. Лефевр д’Этапль и его последователи, оставаясь глубоко верующими, противопоставляли слепой «вере в авторитет» критический анализ, основанный на разуме и доброй воле. Католическая церковь обрушила на сторонников Лефевра град репрессий. Спасло их лишь заступничество Маргариты Наваррской, во многом разделившей «новые идеи», и самого Франциска I.
В начале ХVI в., особенно в первую половину царствования короля Франциска (1515 – 1547), гуманизм делает дальнейшие успехи. Во Франции появляется все больше итальянцев, ученых и художников. Бурно развивается издательская и переводческая деятельность. Сам Франциск следит за этим, до поры до времени поддерживая гуманистов. По совету короля Жак Амио (1513 – 1593) принялся за перевод Плутарха, а Никола Эрбере дез Эссар – за перевод романа об Амадисе.
Жофруа Тори (ок. 1480 – 1533) совершает переворот в издательском деле, отказавшись от готического шрифта, введя новые элементы оформления и, по сути дела, создав тип французской ренессансной книги, доведенный затем до совершенства Симоном де Колином и семейством Этьенов.
В ХVI в. интенсивно развивалось издание творений античности, расширялось и было приведено в стройную систему преподавание классической филологии, для чего, вне зависимости от Сорбонны, был создан в 1530 г. Коллеж де Франс. Здесь работали видные гуманисты: Жак Туссен (ум. 1547) занимался греческим, Франсуа Ватабль (ум. 1547) – древнееврейским, латынью – Бартелеми Ле Масон, математикой – Оронс Фине (1494 – 1555) и др.
Создание рассадника гуманизма – светской школы – было заветной мечтой замечательного ученого Гийома Бюде (1468 – 1540). В отличие от многих современников религиозные вопросы занимали Бюде мало, хотя одно время его подозревали в кальвинизме. Основной сферой интересов Бюде была филология. Он поднял эту науку на большую высоту, рассматривая ее в ренессансном духе – как путь к познанию античной культуры для совершенствования и духовного раскрепощения человека. Бюде был типичным представителем раннего этапа Возрождения со свойственными ему иллюзиями и слишком оптимистически смотрел на ход исторического процесса, слишком верил в любимую им филологию, несколько наивно полагая, что с ее помощью можно переделать внутреннюю природу человека, а следовательно, преобразовать и общество.
Велика была роль Бюде в распространении гуманистической культуры, в частности эллинских штудий. Ученый переписывался с гуманистами разных стран, его труды хорошо знал Эразм. Бюде превосходно владел классической латынью, о чем свидетельствует перевод Плутарха на этот язык, а также написанный им трактат о деньгах в древности («De Asse», 1508) и замечательный труд «Commentarii linguae graecae» (1529). Большое значение для пропаганды идей гуманизма имели пространные латинские письма Бюде. Адресованные тому или иному гуманисту, эти письма, как и письма Эразма, переписывались и размножались, получая тем самым большое распространение.
20-е и 30-е годы – это время расцвета французского латинизма. Классическая латынь изучалась во многих гуманистических кружках (например, в Фонтене ле Конт, где у А. Тирако получил начатки гуманистических знаний молодой Рабле) и в крупных центрах, например в Лионе, который стал одним из очагов ренессансного свободомыслия. Для гуманистов тех лет вопрос о выборе между национальным языком и латынью еще не стоял: все так были захвачены «возрождением классической древности», что языку античных писателей противостояла только обедненная латынь Средневековья.
С середины 30-х годов, вместе с широчайшим распространением гуманистических идей, происходит переориентировка французского гуманизма в религиозных вопросах. Евангелизм, Реформация становятся политической доктриной, собирая под свои знамена внушительные общественные силы. Перед лицом раскола гуманисты оказываются вынужденными сделать выбор в пользу той или иной партии. Таким образом, они попадают в оба враждующих лагеря. Вопросы веры, острота постановки которых была отличительной чертой именно французского гуманизма, приобретают политический характер, дав толчок расцвету гуманистической публицистики.
Но публицистичность стала одной из примет французского гуманизма и – шире – французской ренессансной литературы уже с 30-х гг. ХVI столетия, окрасив творчество крупнейших представителей литературы первой половины века – прежде всего Франсуа Рабле.
2Универсализм Рабле, поистине энциклопедический характер его знаний, необыкновенное идейное и художественное богатство его книг – все это сделало писателя центральной фигурой французского Ренессанса. В отличие от французских гуманистов, своих современников, и от писателей второй половины века, например поэтов «Плеяды», Рабле не порывает со Средневековьем как с системой художественного мышления, а подводит его итоги. Поэтому в творчестве Рабле чрезвычайно ощутимы его национальные корни. Свою книгу Рабле начинает в духе французских сказаний о веселых гигантах, приближенных легендарного короля Артура. Таким образом, Рабле стоит в конце давней литературной повествовательной традиции, истоки которой восходят к ХII в. Под пером писателя совершается великий прогрессивный переворот в литературе, происходит рождение новой прозы, литературного жанра романа нового времени. В этом не только узконациональное, но и общеевропейское значение творчества писателя. В создании жанра реалистического прозаического романа Франция, благодаря Рабле, обгоняет другие страны. У Рабле, конечно, были предшественники, например Антуан де Ла Саль, но именно Рабле первым создал роман мирового значения. Этот переворот в литературе происходит как бы на глазах, постепенно от книги к книге, даже в пределах одной и той же книги эпопеи Рабле. Поэтому у Рабле можно наблюдать не только квинтэссенцию Ренессанса в одном из его высших достижений, но и сам французский ренессансный процесс, исторические судьбы французского Возрождения. Обращение к творчеству Рабле приводит к разработке центральных проблем французского Ренессанса, а изучение гуманизма и Возрождения во Франции неизбежно заставляет рассматривать эти явления «в свете Рабле», пронизывающем французскую возрожденческую культуру. Современники Рабле и литераторы ближайших поколений, невольно подчиняясь всеобъемлющему влиянию его творчества, стремились определить свое отношение к автору «Гаргантюа и Пантагрюэля». Интерес к Рабле не пропадает и в следующие два столетия, хотя отношение к нему меняется: Вольтер, например, видел в Рабле «грубоватого, площадного сатирика». В XIX веке интерес к Рабле заметно возрастает, а с конца века «раблезистика» постепенно выделяется в самостоятельную науку со своими печатными органами, научными обществами, съездами, библиографией, огромной литературой[191]191
Из-за обилия специальной литературы, посвященной жизни и творчеству Рабле, отсылок на использованные работы мы не даем.
[Закрыть].
Не только книги писателя, но и сама его жизнь необычайно характерна, типична для своего времени. Личная судьба Рабле – это в какой-то мере вообще судьба французского гуманизма.
Как и о жизни Сервантеса или Шекспира, о жизни Рабле складывались легенды. Одной из самых распространенных и фантастических была легенда о медонском кюре, этаком брате Жане на покое, размышляющем в тиши своих виноградников. В действительности жизнь Рабле прошла среди опасностей, в преодолении трудностей, в борьбе. Как и все гуманисты его времени, он много путешествовал, изъездил Францию, побывал в Италии, Швейцарии и, очевидно, Германии, знал древние и новые языки, интересовался как гуманитарными, так и естественными науками, был не только писателем, но и врачом, принимал участие в политической жизни страны, выполняя дипломатические поручения, и т. д. Даже в науке, казалось бы далекой от политики, – в медицине – был политиком и борцом. К Рабле как нельзя лучше подходят слова Ф. Энгельса о титанах Возрождения, которые были чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными.
Точная дата и место рождения Рабле неизвестны. Путем всевозможных выкладок ученые (Абель Лефран) пришли к выводу, что родился Рабле в 1494 г., быть может 4 февраля, где-то около Шинона. Окрестности Шинона играют столь большую роль в книгах Рабле, описаны они так точно и с такой любовью, что можно заключить, что детские годы писатель провел на берегах Вьенны. Такое «сельское» детство, проведенное в тесном контакте с родной природой, среди полей и лугов, было характерно для Ронсара, для Дю Белле, для д’Обинье. Эти писатели, выдающиеся представители французского «высокого» Ренессанса, были родом из одной области – из долины Луары и ее притоков. Если вспомнить, что в этой долине сосредоточилось наибольшее число памятников французской ренессансной архитектуры, то оба эти факта покажутся в известной мере симптоматичными: долина Луары стала в некотором смысле колыбелью французского Возрождения.
В 1510 г. Рабле поступил послушником в монастырь ордена кордельеров недалеко от Анжера, затем девять лет провел в монастырях Ля Бометт и Фонтене-ле-Конт (с 1511 г.). Как и большинство его современников, писатель приобщился к гуманистической учености в монастырской келье. Рабле вместе со своим другом Пьером Ами изучает латинский, древнегреческий, древнееврейский языки, читает классиков вперемежку с сочинениями отцов церкви и столпов схоластики. Вскоре к Рабле и Ами присоединяются талантливый правовед Тирако и философ Амори Бушар. Кружок молодых гуманистов вступает в переписку с Гийомом Бюде, ободрившим и поддержавшим молодых людей. Гуманизм во Франции развился вот из таких небольших обособленных кружков, часто возникавших при провинциальных монастырях. Члены таких кружков вступали в переписку друг с другом, расширяя постепенно географию своих корреспондентов. Эти кружки и объединения прошли через увлечение идеями Реформации.
На известном этапе развития французского Ренессанса гуманизм и Реформация шли рука об руку. Для Рабле этот путь был именно таким: то есть от схоластического средневекового изучения Писания к изучению критическому, что способствовало сближению с реформационными идеями, затем к всеобъемлющему изучению всего культурного наследия прошлого во имя познания окружающего мира («открытие земли») и самого себя («открытие человека»). Отход от такого пути оборачивался творческим кризисом, обострением внутренних противоречий, как у Маргариты Наваррской. Почву антицерковной, антитеологической сатиры, памятником которой является книга Рабле, следует искать, однако, не в Реформации. Из Рабле не следует также делать последовательного атеиста, хотя в зрелом творчестве он поднялся над католицизмом и над протестантством.
«Еретические» занятия Рабле и его друзей навлекли на них подозрение церковных властей. За Рабле устанавливается слежка. В этом отношении он разделил судьбу большинства французских гуманистов ХVI в. Открытое столкновение с властями произошло в 1523 г.: в келье Рабле произвели обыск, греческие книги были конфискованы. Пьер Ами бежал из монастыря, Рабле остался и добился возвращения книг. Однако через два года, после нового обыска, Рабле расстается с монастырем и перебирается в Пуату, в Майезе, где сближается с настоятелем местного монастыря бенедиктинцев аббатом Жоффруа д’Эстиссаком, человеком просвещенным, не чуждым новых идей. Знакомство вскоре перерастает в дружбу, и д’Эстиссак, лицо весьма влиятельное в своих краях, на долгие годы становится покровителем Рабле. Став чем-то вроде секретаря д’Эстиссака, следующие несколько лет Рабле проводит в разъездах по Франции. Он посещает ряд университетов, в том числе такой передовой, как университет Пуатье. И в этом характерная черта раннего французского гуманизма – его связь с провинциальными университетами (столичный – Сорбонна – оставался средоточием мракобесия и схоластики). В 1530 г. Рабле совсем порывает с церковью, слагая с себя сан. Он обосновывается в Монпелье, где занимается медициной и вскоре объявляет собственный курс. Лекции Рабле, его методология обнаруживают в нем прежде всего гуманиста: Рабле публично комментировал анатомические сочинения Гиппократа и Галена, делая пояснения непосредственно на вскрытом трупе. И в этом он – подлинный сын Возрождения, положившего начало действительно научному изучению человека. Не будь Рабле великим писателем, он вошел бы в историю культуры как замечательный медик. Почему Рабле покинул Монпелье – не вполне ясно; быть может, жажда знаний гнала его дальше, в новые культурные центры, не исключено также, что новизна и смелость его научной методологии могла навлечь на Рабле подозрения и придирки властей. Так или иначе, гуманистические штудии приводят Рабле в Лион, оплот раннего гуманизма. Богатый город, пользовавшийся относительной самостоятельностью, Лион постепенно превращался в культурную столицу страны. В первой половине века лионские издатели и типографы заметно обгоняли парижских. С Лионом связана деятельность Маргариты Наваррской, Деперье, Этьена Доле, Мориса Сева и его школы. Первые книги Рабле не случайно были изданы именно в Лионе.
Пребывание Рабле в Лионе было плодотворным, он выступает сразу в нескольких ипостасях: работает врачом в городской больнице, как гуманист выпускает ряд научных изданий («Медицинские письма» Манарди, «Афоризмы» Гиппократа и др.), в Лионе происходит рождение Рабле-писателя: он пишет и издает «Пантагрюэля» (октябрь 1532), «Пантагрюэлевый прогностикон» и «Альманах на 1533 год» (оба в начале 1533), затем «Гаргантюа» (октябрь 1534). В Лионе же Рабле знакомится с политическим деятелем, автором известных мемуаров, кардиналом Жаном Дю Белле и поступает к нему на службу.
Реакция католических кругов на появление «Пантагрюэля» была быстрой: в 1533 г. теологи Сорбонны запрещают книгу. Ответом писателя стал «Гаргантюа», это подлинное произведение «торжествующего Ренессанса», сочетающее в себе его боевой наступательный дух с присущими ему утопическими мечтами и светлыми иллюзиями.
Но вскоре Рабле должен был распроститься с этими мечтами. В ночь на 18 октября 1534 г. разыгрывается знаменитое «дело об афишах». Королевская власть делает резкий поворот в сторону реакции, Франциск I, недавно еще бывший покровителем литературы и искусства, защитником гуманистов от нападок Сорбонны, ограничивает свободу слова. И Рабле скрывается из Лиона. В июне 1535 г. он оказывается в Риме, где добивается аудиенции у папы Павла III, отпускающего ему грехи. Рабле снова принимает сан и в 1536 г. получает должность каноника в монастыре Сен-Мор-ле-Фоссе. Но на этот раз он недолго остается в монастыре. Воспользовавшись покровительством влиятельного Дю Белле, Рабле получает разрешение на медицинскую практику и работает врачом и читает курсы анатомии в Монпелье, Париже, Лионе и других городах.
Не ясно, где был Рабле в 1538 – 1540 годах. Он то появляется ненадолго в том или ином городе, то исчезает на многие месяцы. Его медицинские способности признаны научным миром; он практикует в Метце, Париже, Турине. Книги Рабле переиздаются, появляются анонимные их переделки в духе «народных книг», популярность писателя растет. Желая оградить себя от нападок теологов, он переиздает в 1542 г. «Гаргантюа» и «Пантагрюэля», несколько смягчив наиболее острые пассажи. В июле 1543 г. Франциск I назначает Рабле докладчиком прошений при собственной особе. Но высокий пост и покровительство короля не спасают писателя от новых нападок Сорбонны. Рабле снова скрывается. След его теряется до 1545 г. Видимо, в это время где-то в провинции писатель создает свою «Третью книгу», которая выходит из печати в Париже в 1546 г. Теологи встретили книгу особенно яростно. Писателю не может помочь заступничество Маргариты Наваррской, сестры короля, и он вновь вынужден бежать из столицы. В 1547 г. мы находим его в Риме, куда он опять едет с Жаном Дю Белле. В январе 1548 г. выходят отдельным изданием первые одиннадцать глав «Четвертой книги». Ее полный текст появляется в 1552 г. В обстановке обостряющейся идеологической и политической борьбы, которая через десять лет приведет к религиозным войнам, от Рабле отворачиваются и былые друзья: Андре Тирако публично осуждает его сочинения. Парижский парламент приговаривает «Четвертую книгу» к сожжению. Травимый, но духовно не сломленный, Рабле готовит «Пятую и последнюю книгу героических деяний и подвигов доброго Пантагрюэля». Завершить ее и издать писателю не удалось – он умер в Париже 9 апреля 1553 г.
Непрерывные скитания, побеги, преследования властей и нападки богословов, кратковременные и случайные покровительства крупных феодалов, капризная благосклонность короля – через все это прошел Рабле, как бы явившись примером для многих современников, например для Маро и Деперье. Как и для них, для него характерны религиозные сомнения; он не порвал до конца с католицизмом, но зло высмеял весь его строй и догматы. В вопросах религии для Рабле на первом плане всегда оставалась этическая сторона. Как гуманист, он признавал за человеком неотъемлемое право свободного выбора; вся его жизнь была борьбой за духовную свободу. Последовательное отстаивание права на свободный выбор роднит Рабле с другими мыслителями французского Ренессанса, прежде всего с Монтенем.








