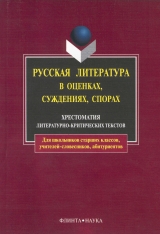
Текст книги "Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия литературно-критических текстов"
Автор книги: Андрей Есин
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
1Позитивный – реальный, в противоположность идеальному, духовному. Здесь и далее Мережковский употребляет это слово в отрицательном смысле, как нечто пошлое, приземленное, даже циничное.
2-2аЗдесь ошибка Мережковского: первая цитата принадлежит Чичикову, а вторая Собакевичу.
Творчество М.Ю. Лермонтова
Талант М.Ю. Лермонтова сразу привлек к себе внимание русской критики. Его рассматривали как младшего современника Пушкина, который как бы перенял эстафету у гения русской литературы. После смерти Пушкина и до появления в печати «Мертвых душ» Гоголя творчество Лермонтова – наиболее значительное явление русской литературы. Особое внимание критики привлек роман «Герой нашего времени», и особенно характер Печорина, относительно которого критики расходились во мнениях и оценках.
С.П. Шевырев, талантливый и тонкий критик, принадлежащий к партии славянофилов, высоко оценил талант Лермонтова, поставив его сразу вслед за Пушкиным. Но, разбирая роман «Герой нашего времени», критик сделал вывод о том, что Печорин – характер не столько национально-русский, сколько навеянный Западом с его холодностью, развращенностью, нравственным цинизмом и эгоизмом. В этом смысле Шевырев противопоставляет Печорину Максима Максимыча, в котором видит воплощение русского национального характера. Следует обратить внимание также на характеристику, которую дает Шевырев второстепенным героям романа.
В.Г. Белинский,напротив, считает Печорина порожденьем особых условий, в которые была поставлена Россия 30-х годов XIX века. Белинский рассматривает образ Печорина как своеобразное продолжение пушкинского Онегина – «эгоист поневоле», вынужденный растрачивать свои богатые силы по пустякам, поскольку социально-политическая обстановка в России его времени не дает возможности проявить эти силы с пользой для общества. Б этом смысле Печорин, как и Онегин– типический характер. Следует обратить. внимание на то, как Белинский понимает различия между Печориным и Онегиным и почему считает, что Печорин «выше Онегина по идее». Важным является также сопоставление лирики Лермонтова (в первую очередь стихотворения «Дума») с романом «Герой нашего времени».
Очень интересен отзыв императора Николая Iо романе Лермонтова: «Жалкая книга, показывающая большую испорченность автора». В сущности, это даже не отзыв, а приговор. Его суровость объясняется тем, что Николай I, как царь русский по преимуществу и высоко ценивший традиционные свойства русского народа (нравственную чистоту, православие, терпение и т. п.), увидел в романе и его герое влияние Запада с его нравственной развращенностью,
В дальнейшем русская критика не очень баловала Лермонтова своим вниманием. Интерес к нему снова пробудился лишь на рубеже XIX–XX вв., в критике и эстетике русского декадентства. Статья Д.С. Мережковского(поэта, критика и идеолога русского символизма) очень показательна для этого периода. Мережковский останавливает внимание прежде всего на том, чем Лермонтов отличается от других русских поэтов и писателей: его «несмирение», его порыв к вечному, «запредельному», внеземному; его бесстрашие, игра с судьбой и со смертью, неразличение добра и зла – вот, по мнению Мережковского, отличительные черты его творчества.
C.П. Шевырев «Герой нашего времени». Соч. М. Лермонтова
После смерти Пушкина ни одно новое имя, конечно, не блеснуло так ярко на небосклоне нашей словесности, как имя г. Лермонтова. Талант решительный и разнообразный, почти равно владеющий и стихом и прозою. Бывает обыкновенно, что поэты начинают лиризмом: их мечта сначала носится в этом неопределенном эфире поэзии, из которого потом иные выходят в живой и разнообразный мир эпоса, драмы и романа, другие же остаются в нем навсегда. Талант г-на Лермонтова обнаружился с самого начала и в том и в другом роде: он и одушевленный лирик, и замечательный повествователь. Оба мира поэзии, наш внутренний, душевный, и внешний, действительный, равно для него доступны. Редко бывает, чтобы в таком молодом таланте жизнь и искусство являлись в столь неразрывной и тесной дружбе. Почти всякое произведение г-на Лермонтова есть отголосок какой-нибудь сильно прожитой минуты. При самом начале поприща замечательны эта меткая наблюдательность, эта легкость, это уменье, с какими повествователь схватывает цельные характеры и воспроизводит их в искусстве. Опыт не может быть еще так силен и богат в эти годы; но в людях даровитых он заменяется каким-то предчувствием, которым они постигают заранее тайны жизни. Судьба, ударяя по такой душе, приявшей при своем рождении дар предугадания жизни, тотчас открывает в ней источник поэзии: так молния, случайно падая в скалу, таящую в себе источник воды живой, отверзает ему исход… и новый ключ бьет из открытого лона.
Верное чувство жизни дружно в новом поэте с верным чувством изящного. Его сила творческая легко покоряет себе образы, взятые из жизни, и дает им живую личность. На исполнении видна во всем печать строгого вкуса: нет никакой приторной выисканности, и с первого раза особенно поражают эта трезвость, эта полнота и краткость выражения, которые свойственны талантам более опытным, а в юности означают силу дара необыкновенного– В поэте, в стихотворце еще более, чем в повествователе, видим мы связь с его предшественниками, подмечаем их влияние, весьма понятное, ибо новое поколение должно начинать там, где другие кончили; в поэзии, при всей внезапности ее самых гениальных явлений, должна же быть память предания. Поэт, как бы ни был оригинален, а все имеет своих воспитателей. Но мы заметим с особенным удовольствием, что влияния, каким подвергался новый поэт, разнообразны, что нет у него исключительно какого-нибудь любимого учителя. Это само уже говорит в пользу его оригинальности. Но есть многие произведения, в которых и по стилю виден он сам, заметна яркая его особенность.
С особенным радушием готовы мы на первых страницах нашей критики приветствовать свежий талант, при его первом явлении, и охотно посвящаем подробный и искренний разбор «Герою нашего времени», как одному из замечательнейших произведений нашей современной словесности. <…>
Из побочных лиц первое место мы, конечно, должны отдать Максиму Максимовичу. Какой цельный характер коренного русского добряка, в которого не проникла тонкая зараза западного образования; который при мнимой наружной холодности воина, наглядевшегося на опасности, сохранил весь пыл, всю жизнь души; который любит природу внутренно, ею не восхищаясь, любит музыку пули, потому что сердце его бьется при этом сильнее… Как он ходит за больною Бэлой! Как утешает ее! С каким нетерпением ждет старого знакомца – Печорина, услышав о его возврате! Как грустно ему, что Бэла при смерти не вспоминала об нем! Как тяжко его сердцу, когда Печорин равнодушно протянул ему холодную руку! Как он верит еще в чувства любви и дружбы! Свежая, непочатая природа! Чистая, детская душа в старом воине! Вот тип этого характера, в котором отзывается наша древняя Русь! И как он высок своим христианским смирением, когда, отрицая все свои качества, говорит: «Что же я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью?» Давно, давно мы не встречались в литературе нашей с таким милым и живым характером, который тем приятнее для нас, что взят из коренного русского быта. Мы даже посетовали несколько на автора за то, что он как будто не разделяет благородного негодования с Максимом Максимовичем в ту минуту, как Печорин в рассеянности, или от другой причины протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею.
За Максимом Максимовичем следует Грушницкий. Его личность, конечно, не привлекательна. Это в полном смысле слова пустой малый. Он тщеславен. Не имея чем гордиться, он гордится своею серою юнкерскою шинелью. Он любит без любви. Он играет роль разочарованного – и вот почему он не нравится Печорину; сей последний не любит Грушницкого по тому же самому чувству, по какому нам свойственно не любить человека, который нас передразнивает и превращает то в пустую маску, что в нас есть живая существенность. В нем даже нет и того чувства, которым отличались прежние наши военные, чувства чести. Это какой-то выродок из их общества, способный к самому подлому и черному поступку. Автор примиряет нас несколько с этим созданием своим, незадолго перед его смертью, когда Грушницкий сам сознается в том, что презирает себя.
Доктор Вернер – материалист и скептик, как многие доктора нового поколения. Он должен был понравиться Печорину, потому что они оба понимают друг друга. <…>
Обратим внимание на женщин, особенно на двух героинь, которые обе достались в жертву герою. Бэла и княжна Мери образуют между собою две яркие противоположности, как те два общества, из которых каждая вышла, и принадлежат к числу замечательнейших созданий поэта, особенно первая. Бэла – это дикое, робкое дитя природы, в котором чувство любви развивается просто, естественно, и, развившись однажды, становится неизлечимою раною сердца. Не такова княжна – произведение общества искусственного, в которой фантазия была раскрыта прежде сердца, которая заранее вообразила себе героя романа и хочет насильно воплотить его в ком-нибудь из своих обожателей. Бэла очень просто полюбила того человека, который хотя и похитил ее из дому родительского, но сделал это по страсти к ней, как она думает: он сначала посвятил себя всего ей, он задарил дитя подарками, он услаждает все ее минуты; видя ее холодность, он притворяется отчаянным и готов на все… Не такова княжна: в ней все природные чувства подавлены какою-то вредною мечтательностью, каким-то искусственным воспитанием. Мы любим в ней то сердечное человеческое движение, которое заставило ее поднять стакан бедному Грушницкому, когда он, опираясь на свой костыль, тщетно хотел к нему наклониться; мы понимаем и то, что она в это время покраснела; – но нам досадно на нее, когда она оглядывается на галерею, боясь, чтобы мать не заметила ее прекрасного поступка. Мы совсем не сетуем за то на автора: напротив, мы отдаем всю справедливость его наблюдательности, которая искусно схватила черту предрассудка, не приносящего чести обществу, именующему себя христианским… Бэла своею ужасною смертью дорого искупила легкомыслие памяти своей об умершем отце. Но княжна своею участью только что получила заслуженное… Резкий урок всем княжнам, у которых природа чувства подавлена искусственным воспитанием и сердце испорчено фантазиею! – Как мила, как грациозна эта Бэла в ее простоте! Как приторна княжна в обществе мужчин, со всеми рассчитанными ее взглядами! Бэла поет и пляшет, потому что ей хочется петь и плясать и потому что она веселит тем своего друга. Княжна Мери поет для того, чтобы ее слушали, и досадует, когда не слушают. Если бы можно было слить Бэлу и Мери в одно лицо: вот был бы идеал женщины, в которой природа сохранилась бы во всей своей прелести, а светское образование явилось бы не одним наружным лоском, а чем-то более существенным в жизни.
Мы не считаем за нужное упоминать о Вере, которая есть лицо вставочное, не привлекательное ничем. Это одна из жертв героя повестей – и еще более жертва авторской необходимости, чтобы запутать интригу. Мы не обращаем также подробного внимания на два маленькие эскиза: «Тамань» и «Фаталист», при двух значительнейших. Они только служат дополнением к тому, чтобы развить более характер героя, особенно последняя повесть, где виден фатализм Печорина, согласный со всеми прочими его свойствами. <…>
Но все эти события, все характеры и подробности примыкают к герою повести, Печорину, как нити паутины, обремененной яркими крылатыми насекомыми, примыкают к огромному пауку, который опутал их своею сетью. Вникнем же подробно в характер героя повести – и в нем раскроем главную связь произведения с жизнию, равно и мысль автора.
Печорин 25-ти лет. С виду он еще мальчик; вы дали бы ему не более 23-х, но, вглядевшись пристальнее, вы, конечно, дадите ему и 30. Лицо его хотя бледно, но еще свежо; по долгом наблюдении вы заметите в нем следы морщин, пересекающих одна другую. Кожа его имеет женскую нежность; пальцы бледны и худы; во всех движениях тела признаки нервической слабости. Когда он сам смеется, глаза его не смеются… потому что в глазах горит душа, а душа в Печорине уже иссохла. Но что ж это за мертвец 25-летний, увядший прежде срока? Что за мальчик, покрытый морщинами старости? Какая причина такой чудесной метаморфозы? Где внутренний корень болезни, которая иссушила его душу и ослабила тело? – Но послушаем его самого. Вот что он сам говорит об своей юности.
В первой его молодости, с той минуты, когда он вышел из опеки родных, – он стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствия эти ему опротивели. Он пустился в большой свет: общество ему надоело; он влюблялся в светских красавиц, был любим, но их любовь раздражала только его воображение и самолюбие, а сердце оставалось пусто… Он стал учиться – и науки ему надоели. Тогда ему стало скучно: на Кавказе он хотел разогнать свою скуку чеченскими пулями, но ему стало еще скучнее. Его душа, говорит он, испорчена светом, воображение беспокойно, сердце ненасытно, ему все мало, а жизнь его становится пустее день ото дня… Есть болезнь физическая, которая носит в простонародии неопрятное название собачьей старости: это вечный голод тела, которое ничем насытиться не может. Этой болезни физической соответствует болезнь душевная – скука – вечный голод развратной души, которая ищет сильных ощущений и ими насытиться не может. Это самая высшая степень апатии в человеке, проистекающей от раннего разочарования, от убитой или промотанной юности. То, что бывает только апатиею в лицах, рожденных без энергии, восходит на степень голодной, ненасытной скуки в душах сильных, призванных к действию. Болезнь одна и та же, и по корню своему, и по характеру, но разнится только по тому темпераменту, на который нападает. Эта болезнь убивает все чувства человеческие, даже сострадание. Вспомним, как Печорин обрадовался было раз, когда заметил в себе это чувство после разлуки с Верою. Мы не верим тому, чтобы в этом живом мертвеце могла сохраниться любовь к природе, которую приписывает ему автор. Мы не верим, чтобы он мог забыться в ее картинах. В этом случае автор портит цельность характера – и едва ли своему герою не приписывает собственного своего чувства. Человек, который любит музыку только для пищеварения, может ли любить природу?
Евгений Онегин, участвовавший несколько в рождении Печорина, страдал тою же болезнию; но она в нем осталась на низшей степени апатии, потому что Евгений Онегин не был одарен энергиею душевной; он не страдал сверх апатии гордостью духа, жаждою власти, которою страдает новый герой. Печорин скучал в Петербурге, скучал на Кавказе, едет скучать в Персию; но эта скука его не проходит даром для тех, которые его окружают. Рядом с нею воспитана в нем неодолимая гордость духа, которая не знает никакой преграды и которая приносит в жертву все, что ни попадается на пути скучающему герою, лишь бы только было ему весело. Печорин захотел кабана во что бы то ни стало, он его достанет. У него врожденная страсть противоречить, как у всех людей, страдающих властолюбием духа. Он неспособен к дружбе, потому что дружба требует уступок, обидных для его самолюбия. Он смотрит на все случаи своей жизни, как на средства для того, чтобы найти какое-нибудь противоядие скуке, его снедающей. Высшее его веселье – разочаровывать других! Необъятное ему наслаждение – сорвать цветок, подышать им минуту и бросить его! Он сам сознается, что чувствует в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на его пути; он смотрит на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую его душевные силы. Честолюбие подавлено в нем обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, в жажде власти, в удовольствии подчинять своей воле все, что его окружает… Самое счастье, по его мнению, есть только насыщенная гордость… Первое страдание дает ему понятие об удовольствии мучить другого… Бывают минуты, что он понимает Вампира… Половина души его высохла, а осталась другая, живущая только затем, чтобы мертвить все окружающее… Мы слили в одно все черты этого ужасного портрета – и нам стало страшно при виде внутреннего портрета Печорина!
На кого же он напал в порывах своего неукротимого властолюбия? На ком испытывает непомерную гордость души своей? На бедных женщинах, которых презирает. Взгляд его на прекрасный пол обнаруживает материалиста, начитавшегося французских романов новой школы. Он замечает в женщинах породу, как в лошадях; все приметы, какие ему нравятся в них, касаются только свойств телесных; его занимают правильный нос, или бархатные глаза, или белые зубы, или какой-то тонкий аромат… По его мнению, первое прикосновение решает все дело в любви. Если женщина дает ему только почувствовать, что он должен на ней жениться – прости любовь! Его сердце превращается в камень… Одно препятствие только раздражает в нем мнимое чувство нежности… Вспомним, как при возможности потерять Веру, она стала ему дороже всего… Он бросился на коня и полетел к ней… Конь издох на пути – и он плакал как ребенок, потому только, что не мог достичь своей цели, потому что его неприкосновенная власть как будто была обижена… Но он с досадою припоминает эту минуту слабости и говорит, что всякий, взглянув на его слезы, отвернулся бы от него с презрением. – Как в этих словах слышна его непреклонная гордость!
Этому 25-летнему сластолюбцу попадалось на пути его много женщин, но особенно замечательны были две: Бэла и княжна Мери.
Первую он развратил чувственно– и сам увлекся чувствами. Вторую развратил душевно, потому что не мог развратить чувственно; он без любви шутил и играл любовью, он искал развлечения своей скуке, он забавлялся княжною, как сытая кошка забавляется мышью… и тут не избежал скуки, потому что, как человек опытный в делах любви, как знаток женского сердца, он предугадывал заранее всю драму, которую по прихоти своей разыгрывал… Раздражив мечту и сердце несчастной девушки, он кончил все тем, что сказал ей: я не люблю вас…
Извлечем же в нескольких словах все то, что мы сказали о характере героя. Апатия – следствие развращенной юности и всех пороков воспитания – породила в нем томительную скуку; скука же, сочетавшись с непомерною гордостью духа властолюбивого, произвела в Печорине злодея. Главный же корень всему злу – западное воспитание, чуждое всякого чувства веры. Печорин, как он сам говорит, убежден в одном только, что он в один прегадкий вечер родился, что хуже смерти будто бы ничего не случится, а смерти не минуешь. Эти слова ключ ко всем его подвигам: в них разгадка всей его жизни. А между тем это душа была сильная, душа, которая могла совершить что-то высокое… Он сам в одном месте своего журнала сознает в себе это призвание, говоря: «Зачем я жил? Для какой цели я родился?.. А верно она существовала, и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы… Из горнила страстей пустых и неблагодарных я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений…» Когда взглянешь на силу этой погибшей души, то становится жаль ее, как одной из жертв тяжкой болезни века…
Исследовав подробно характер героя повести, в котором сосредоточиваются все события, мы приходим к двум главным вопросам, разрешением которых заключим свое рассуждение: 1) как связан этот характер с современною жизнью? 2) возможен ли он в мире изящного искусства?
Но прежде чем разрешать эти два вопроса, обратимся к самому автору и спросим его: что он сам думает о Печорине? – Не даст ли нам он какого-нибудь намека на свою мысль и на ее связь с жизнию современною?
На 140-й странице 1-й части говорит автор:
«Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина. Мой ответ – заглавие этой книги. Да это злая ирония, скажут они. – Не знаю».
Итак, по мнению автора, Печорин есть герой нашего времени. В этом выражается и взгляд его на жизнь, нам современную, и основная мысль произведения.
Если это так, стало быть, век наш тяжко болен – и в чем же заключается главный недуг его? Если судить по тому больному, которым дебютирует фантазия нашего поэта, – то этот недуг века заключается в гордости духа и в низости пресыщенного тела! – И в самом деле, если обратимся мы на Запад, то найдем, что горькая ирония автора есть тяжкая правда. Век гордой философии, которая духом человеческим думает постигнуть все тайны мира, и век суетной промышленности, которая угождает на перерыв всем прихотям истощенного наслаждениями тела, – такой век этими двумя крайностями выражает сам собою недуг, его одолевающий. Не гордость ли человеческого духа видна в этих злоупотреблениях личной свободы воли и разума, какие заметны во Франции и Германии? Разврат нравов, унижающий тело, не есть ли зло, признанное необходимым у многих народов Запада и вошедшее в их обычаи? – Между этими двумя крайностями как не погибнуть, как не иссохнуть душе, без питательной любви, без веры и надежды, которыми только и может поддерживаться ее земное существование?
Но откуда же, из каких же данных у нас мог бы развиться тот же недуг, каким страдает Запад? Чем мы его заслужили? Если мы в нашем близком знакомстве с ним и могли заразиться чем-нибудь, – то, конечно, одним только недугом воображаемым, но не действительным. Выразимся примером: случается нам иногда, после долгих коротких сношений с опасно больным человеком, вообразить, что мы сами хвораем тою же самою болезнию. Вот, по нашему мнению, где заключается разгадка того характера, который мы разбираем.
Печорин, конечно, не имеет в себе ничего титанического; он и не может иметь его; он принадлежит к числу тех пигмеев зла, которыми так обильна теперь повествовательная и драматическая литература Запада. В этих словах ответ наш на второй из двух вопросов, предложенных выше, на вопрос эстетический. Но не в этом еще главный его недостаток. Печорин не имеет в себе ничего существенного, относительно к чисто русской жизни, которая из своего прошедшего не могла извергнуть такого характера. Печорин есть один только призрак, отброшенный на нас Западом, тень его недуга, мелькающая в фантазии наших поэтов. Там он герой мира действительного, у нас только герой фантазии – ив этом смысле герой нашего времени. <…> С тою же самою искренностию, с какою мы сначала приветствовали блистательный талант автора в создании многих цельных характеров, в описаниях, в даре рассказа, с тою же искренностию порицаем мы главную мысль создания, олицетворявшуюся в характере героя. – Да, и великолепный ландшафт Кавказа, и чудные очерки горской жизни, и грациознонаивная Бэла, и искусственная княжна, и фантастическая шалунья Тамани, и славный, добрый Максим Максимович, и даже пустой малый Грушницкий, и все тонкие черты светского общества России, все, все приковано в повестях к призраку главного характера, который из этой жизни не истекает, все принесено ему в жертву – и в этом главный и существенный недостаток изобретения.
Несмотря на то, произведение нового поэта, и в своем существенном недостатке, имеет глубокое значение в нашей русской жизни. Бытие наше делится, так сказать, на две резкие, почти противоположные половины, из которых одна пребывает в мире существенном, в мире русском, другая в каком-то отвлеченном мире призраков: мы живем на самом деле своею русскою жизнию, и думаем, мечтаем жить еще жизнию Запада, с которым не имеем никаких существенных соприкосновений в истории прошедшего. В нашей коренной, в нашей действительной русской жизни мы храним богатое зерно для будущего развития, которое, будучи удобрено одними только полезными плодами образования западного, без вредных его зелий, на нашей свежей почве может разрастись деревом великолепным; но в нашей мечтательной жизни, которую навевает на нас Запад, мы нервически, воображаемо страдаем его недугами и детски примериваем на лицо свое маску разочарования, у нас ни из чего не вытекающего. Потому-то мы во сне своем, в этом страшном кошмаре, которым душит нас Мефистофель – Запад, кажемся сами себе гораздо хуже, нежели мы на деле. Примените это к разбираемому произведению – и оно вам совершенно будет ясно. Все содержание повестей г-на Лермонтова, кроме Печорина, принадлежит нашей существенной русской жизни; но сам Печорин, за исключением одной его апатии, которая была только началом его нравственной болезни, принадлежит миру мечтательному, производимому в нас ложным отражением Запада. Это призрак, только в мире нашей фантазии имеющий существенность. <…>
и в этом отношении произведение г. Лермонтова носит в себе глубокую истину и даже нравственную важность. Он выдает нам этот призрак, принадлежащий не ему одному, а многим из поколений живущих, за что-то действительное, – и нам становится страшно, – и вот полезный эффект его ужасной картины. Поэты, получившие от природы такой дар предугадания жизни, как г. Лермонтов, могут быть изучаемы в своих произведениях с великою пользою, относительно к нравственному состоянию нашего общества. В таких поэтах, без их ведома, отражается жизнь им современная: они, как воздушная арфа, доносят своими звуками о тех тайных движениях атмосферы, которых наше тупое чувство и заметить не может. Употребим же с пользою урок, предлагаемый поэтом. Бывают в человеке болезни, которые начинаются воображением, и потом, мало-помалу, переходят в существенность. Предостережем себя, чтобы призрак недуга, сильно изображенный кистью свежего таланта, не перешел для нас из мира праздной мечты в мир тяжкой действительности.








