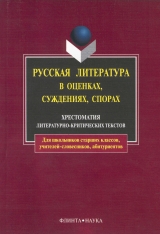
Текст книги "Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия литературно-критических текстов"
Автор книги: Андрей Есин
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Составитель А.Б. Есин
Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия литературно-критических текстов
Небольшое предисловие
О том, что такое критика и зачем она нужна
«Писатель пописывает, читатель почитывает», – так самый ехидный русский писатель М.Е. Салтыков-Щедрин определил взаимодействие между легковесной развлекательной беллетристикой и невзыскательным читателем. В этой ситуации критик, разумеется, не нужен, разве что для того, чтобы констатировать факт художественной несостоятельности произведения и как бы предупредить о ней читателя. Когда же речь заходит о произведениях поистине художественных – а такова, безусловно, вся русская классика, которой посвящены собранные здесь статьи, рецензии и высказывания, – тогда между писателем и читателем становится совершенно особая фигура: литературный критик. Почему, зачем, по какому, наконец, праву? Попробуем разобраться.
Слово «критик» в дословном переводе с древнегреческого означает «тот, кто оценивает». Этот смысл не изменился за два тысячелетия: действительно, первой задачей критики была и остается эстетическая оценка. Критика выносит свой «приговор» художественным созданиям, определяя, какое из них лучше, какое хуже, и стараясь объяснить и доказать свою точку зрения. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку критическая статья адресована и писателю, и литературной общественности, и широкой читающей публике. Голословные оценки здесь не приняты, да они и не могли бы выполнить основную задачу: повлиять на читателя критической статьи в нужном автору направлении. Кроме того, нередко бывает, что произведение выдающееся вызывает у разных критиков разные эстетические эмоции, а проще говоря, кому-то нравится, а кому-то нет. Тогда завязывается литературно-критическая полемика, и в ходе ее авторы статей и рецензий стараются быть наиболее убедительными и решить эстетический спор в свою пользу. Так, например, происходило с гоголевским «Ревизором», с романом Чернышевского «Что делать?», с рассказами и пьесами Чехова и др. В последнем случае критика обвиняла автора в отсутствии драматического конфликта, в неумении вести действие, в отсутствии авторского идеала и мировоззрения и во многом другом, что, как выяснилось в ходе критических дискуссий, составляло не художественный недостаток Чехова, а новаторство его поэтики. Критическая дискуссия, таким образом, помогла установить истинное достоинство произведений Чехова.
Итак, критик оценивает, но не то же ли самое делает каждый читатель, который не только «почитывает», но серьезно относится к литературе? Да, читатель в принципе занят тем же делом: какие-то произведения ему нравятся, а какие-то нет – это и есть вынесение читательско-критического «приговора» тому или иному литературному произведению. Тогда зачем же нам критик?
Во-первых, для того, чтобы было с кем «обсудить» прочитанное произведение. Можно, конечно, поговорить о нем с друзьями и знакомыми, но это все-таки не то. Ведь критиком обыкновенно становится человек с особенно острым эстетическим чутьем, к тому же он, как правило, умен и, наконец, он профессионал. Поэтому общение читателя с критиком бывает обыкновенно плодотворным. Если оценка критика в основном совпадает с оценкой читателя, то у последнего есть основания собой гордиться; к тому же критик часто обогащает читательскую оценку, дает новые аргументы, обращает внимание на что-то ускользнувшее от читателя и т. п.
А если мнения читателя и критика не совпадают? Тогда возникает вторая причина, по которой критик необходим. Он заставляет читателя еще раз прочитать произведение и по крайней мере задуматься над ним и над своей оценкой его эстетических достоинств. Я не имею в виду, что читатель под влиянием критики должен пересмотреть свою оценку – дело обстоит далеко не так просто. Пожалуй, в большинстве случаев этого не происходит – читатель остается верен своей оценке. Но критическая статья в этом случае – повод для углубленного чтения, более четкого уяснения для самого себя эстетического значения произведения. Выдающийся отечественный философ и литературовед В.Ф. Асмус определял чтение как «труд и творчество» – вот именно такому чтению учит литературная критика.
Критик, как правило, не только дает общую оценку произведения («хорошо – плохо»), но и разбирает внутренние художественные достоинства произведения, показывая, что в нем хуже, что лучше, что составляет специфику данного писателя, в чем он силен. Вот здесь читателю трудно тягаться с критиком-профессионалом, именно потому, что он профессионал, знает и умеет больше, чем простой читатель. Но польза критики и здесь несомненна, так как она не только подсказывает, на что обратить внимание но и воспитывает литературный вкус. Так, например, Чернышевский в своей статье о ранних произведениях Толстого («Севастопольские рассказы», «Детство», «Отрочество» и др.) выделил две наиболее важные черты таланта Толстого – «диалектику души» как принцип психологизма и «чистоту нравственного чувства» – и тем самым во многом подготовил восприятие новаторского стиля «Войны и мира». (Конечно, и здесь не все так гладко: критик хоть и профессионал, однако человек и не застрахован от ошибок: так, например, когда Белинский отрицательно оценил прозу Пушкина, он явно сослужил читателю плохую службу. Поэтому суждения даже самого авторитетного критика следует проверять собственным эстетическим опытом).
Однако эстетический разбор и оценка художественных произведений – не единственная задача критики. Ее другая функция – и, пожалуй, даже более важная – давать интерпретацию произведения и его героев. Интерпретация – это толкование смысла художественного произведения как в целом, так и в отдельных образах. Интерпретация осуществляет важнейшую задачу литературоведческой практики: она призвана дать понимание смысла художественного произведения, его проблемного, идейного, эмоционально-оценочного своеобразия. Истолкование произведения – задача, как правило, более сложная, чем его эстетическая оценка. Оценивая произведение, мы должны выбирать между «хорошо» и «плохо», опираясь при этом во многом на интуицию; интерпретация же требует более глубокого постижения художественного содержания, проникновения в авторский замысел, внимания к тексту, иногда в его мельчайших подробностях, и т. п. Интерпретация, следовательно, требует и весьма высокой литературоведческой квалификации, и здесь резко возрастает роль литературной критики. Однако это не значит, что читатель не может или не должен давать свою интерпретацию, свое понимание смысла произведения. Наоборот: читательская интерпретация первична и потому ничем не заменима. Да и как иначе читать литературное произведение – только постигая по мере сил его смысл, в противном случае чтение окажется пустой тратой времени, но не «трудом и творчеством». Надо подчеркнуть, что собственная, читательская (не профессиональная) интерпретация непременно должна быть сформирована после прочтения произведения и до чтения каких-либо статей, рецензий и т. п. К сожалению, школьное, а отчасти и вузовское преподавание не приучают к самостоятельной интерпретации, в результате чего читатель буквально не знает, что ему думать о произведении, и ждет, пока его смысл ему растолкуют. Впрочем, и в этом случае критика оказывается полезной.
С Интерпретацией художественного произведения (как с читательской, так и с литературно-критической) связаны довольно сложные проблемы. Начнем с того, что большинство литературных произведений могут интерпретироваться по-разному, и истолкование, например, смысла «Гамлета» Шекспира или «Евгения Онегина» Пушкина может иметь десятки вариантов. Почему это происходит? В основном по двум причинам. Во-первых, многие художественные образы сами по себе неоднозначны. Например, парус в одноименном стихотворении Лермонтова может трактоваться и как символ душевной неуспокоенности, и как образ самого поэта, и как образ мятежника и борца, и как образ романтической личности; возможны и другие интерпретации, не противоречащие смыслу лермонтовского образа. Много сложностей для интерпретатора создают герои, внутренне противоречивые и не получающие однозначной авторской оценки: таковы, например, лермонтовский Печорин, Раскольников в «Преступлении и наказании» Достоевского, Лопахин в чеховском «Вишневом саде» и т. п.
Вторая причина многообразия интерпретаций литературного произведения состоит в субъективности восприятия. Каждый читатель понимает произведение по-своему, что зависит от образования и воспитания, принадлежности к той или иной социальной среде, возраста и т. п. В результате один и тот же образ получает иногда различные толкования. Так, для славянофила Шевырева лермонтовский Печорин – это развращенный западным влиянием безбожник и циник; для демократа Белинского он «страдающий эгоист» и «лишний человек». Мировоззренческие позиции могут обусловливать и разную интерпретацию произведения в целом: так, те же Белинский и Шевырев резко разошлись в оценке смысла «Мертвых душ» Гоголя: Белинский видел в них прежде всего обличение социально-политических порядков в России, а Шевырев – поэму, отразившую русский дух, русский национальный характер. Примеров такого рода немало в истории литературы, в том числе и русской.
Очень сложная ситуация складывается тогда, когда на объективную неоднозначность литературного образа накладывается субъективность критиков; в этом случае, как правило, возникает острая идейно-эстетическая полемика. Наиболее выразительный пример такой ситуации – полемика вокруг романа Тургенева «Отцы и дети» и его главного героя Базарова. В романе Базаров, конечно, противоречив и в силу этого уже может интерпретироваться по-разному. Кроме того, Тургенев не дает своему герою однозначной оценки, что и дало авторам критических статей основание по-разному толковать художественный смысл «Отцов и детей». Интересно, что своим Базаровым Тургенев почти никому не угодил: «справа» его ругали дворяне-либералы, усмотревшие в романе преклонение перед Базаровым, а «слева» – разночинцы-демократы, увидевшие в Базарове злостную карикатуру на самих себя. Положительно оценил роман один лишь Писарев, потому что его мировоззрение (примитивный материализм) совпадало с мировоззрением Базарова.
Литературно-критические работы (статъи, рецензии, разборы) появляются обыкновенно «по горячим следам»: как только то или иное произведение увидело свет. В этом есть своя логика: в момент своего появления литературное произведение обыкновенно вызывает наибольшее количество споров и разногласий, его репутация еще не устоялась, и потому возможны различные оценки и истолкования. Однако не всегда критика на этом этапе видит все важное в произведении. Художественное создание гениального или даже просто талантливого писателя имеет способность жить в сознании многих поколений читателей, которые, естественно, будут иметь собственное суждение о его эстетической ценности и художественном смысле. Иногда по ходу исторического развития интерпретации существенно меняются: так, роман Достоевского «Бесы», который при своем появлении рассматривался почти исключительно как политический памфлет, постепенно стал восприниматься как философский роман; социальная трактовка творчества Лермонтова сменилась мистико-символической, потом опять социальной, потом общечеловеческой и т. п. Однако такая историческая подвижность вовсе не обязательна для интерпретаций: например, Гончаров рассматривает «Горе от ума» Грибоедова примерно так же, как понимали его современники Грибоедова; в суждениях Достоевского о характере пушкинской Татьяны много общего с пониманием этого характера Белинским и т. д.
Исторически меняющиеся или корректирующиеся интерпретации, как правило, интересны и сами по себе, но более важны для уяснения того факта, что и наше сегодняшнее восприятие литературного произведения может быть весьма относительным, а это значит, что произведение мало «знать», над ним надо думать и думать.
Возможно, читатель уже задает себе и мне вопрос: интерпретации интерпретациями, полемика полемикой, а кто же из спорящих все-таки прав? Вопрос законный, но вот ставить и тем более решать его следует с большой осторожностью, потому что в критике и литературоведении нередко бывает, что «правы и те, и другие», или что «никто до конца не прав». Чуть раньше мы видели это на примере лермонтовского «Паруса»; есть и множество других примеров, когда однозначная интерпретация невозможна. По-своему правы, скажем, и те, кто видит в «Бесах» Достоевского политическую проблематику, и те, кто акцентирует проблематику философскую. Трактовка пушкинской Татьяны и Белинским, и Достоевским недостаточно верна, несколько односторонна. Ленинское понимание творчества Толстого как «зеркала русской революции» в определенном отношении верно, но явно недостаточно для объяснения всех сторон творчества великого писателя. Примеров подобной «неполноценной» интерпретации можно привести еще немало;
Конечно, сказанное не означает, что художественное произведение можно интерпретировать как угодно, не считаясь с его объективным смыслом, который все-таки содержится в художественном создании. «Понимать по-своему не грех, – писал по этому поводу Чехов, – но понимать надо так, чтобы автор не был б обиде». В практике интерпретирования нередки и такие случаи, когда интерпретатор прямо нарушает авторскую художественную волю. Вот как, например, «видел» Вс. Мейерхольд образ Пимена из пушкинского «Бориса Годунова»: «Пимен – рыжий монах средних лет, худой, изможденный лихорадочной страстью к писанию истории; он весь в болячках и нарывах, на нем не ряса, а какое-то рубище, подпоясанное вервием; Пимен торопится, задыхаясь, он поднимается по лестнице в свою келью; теряя на ходу листы пергамента и подбирая их, он скороговоркой бормочет: “Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя”». Решительно ни одна черта здесь не принадлежит пушкинскому Пимену, все «с точностью до наоборот». Разумеется, интерпретации такого типа выходят за круг дозволенного, они некорректны, хотя иногда и поучительны в своем роде, так как показывают, какие атаки направлялись и направляются на классическую русскую культуру.
Однако сейчас нам важно подчеркнуть другое, а именно то, что вокруг смысла художественного произведения возможна полемика, что может существовать не одна корректная, допустимая интерпретация, а несколько. Почему я делаю акцент именно на этой особенности литературной критики? Прежде всего потому, что именно этого свободного и раскованного отношения к литературе в большинстве случаев недостает у школьников, студентов, учителей, преподавателей. Слишком долго вся система преподавания литературы строилась на том, что возможно только одно толкование произведения, а все остальные ошибочны. В соответствии с этим принципом отбирался и литературно-критический материал: по Пушкину – статьи Белинского (отсутствуют даже Гоголь и Достоевский), по Островскому– статья Добролюбова (Писарева нет), по Тургеневу – статьи Писарева (нет даже Антоновича, не говоря уж, например, о Каткове). Представляется принципиальным для преподавания литературы провести мысль о множественности корректных интерпретаций произведения, что должно стимулировать и собственную активность учащегося в этом направлении. Литература при этом будет выглядеть не окаменелостью, а живым делом, требующим и живого восприятия, и споров, и раскованности, и самостоятельного мышления, и даже ошибок – потому что литература не арифметика, в ней ошибка, добытая собственным опытом, нередко стоит дороже, чем правильный, но не пережитый личностно ответ. О литературном произведении можно и нужно спорить – на утверждение этой мысли и направлена хрестоматия.
А. Б. Есин
Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»
Пьеса Грибоедова была значительным событием в литературной жизни начала 20-х тт. XIX в. и продолжала сохранять популярность впоследствии.
Письмо Грибоедова П.А. Катенинураскрывает авторский замысел пьесы и ее основную идею: противопоставление ума Чацкого «25 глупцам#.
Отзыв А.С. Пушкина о комедии представляет собой сжатое и точное определение основных сторон пьесы: ее содержания («характеры и резкая картина нравов»), особенностей развития сюжета, отдельных типов, художественной речи и т. п. Чрезвычайно оригинален отзыв Пушкина об уме Чацкого и в связи с этим – постановка и решение центральной проблемы комедии – проблемы ума.
Статья И.А. Гончарова«Мильон терзаний» считается классическим и наиболее полным разбором комедии Грибоедова. В ней надо обратить внимание на характеристики действующих лиц, на анализ психологических мотивировок развития действия, а главное – на разбор характера Чацкого и его исторической роли: быть провозвестником нового и обличителем старого в «борьбе понятий, смене поколений». Интересным в этом отношении является постоянное сравнение героя Грибоедова с Онегиным и Печориным в пользу Чацкого, а также трактовка Гончаровым проблемы ума применительно к Чацкому.
А.С. Грибоедов Письмо П.А. Катенину
<…> [1]1
Здесь и далее знаком <…> обозначены купюры составителя.
[Закрыть]
Мне кажется, что он <план комедии> прост и ясен по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы ум у нас, грешных, был обыкновенен, нет! И в моей комедии 25 глупцов на одного
здравомыслящего человека), и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих, сначала он весел, и это порок: «Шутить и век шутить, как вас на это станет!» Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки неязвительны, покуда его не взбесить, но все-таки: «Не человек! змея!» А после, когда вмешивается личность «наших затронули», предается анафеме: «Унизить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!» Не терпит подлости: «Ах! Боже мой, он карбонарий». Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза и был таков. <…>
А.С. Пушкин Письмо А.А. Бестужеву
<…>
Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следственно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его– характеры и резкая картина нравов, В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. Софья начертана неясно: не то не то московская кузина. Молчалин не довольно резко подл; не нужно ли было сделать из него и труса? Старая пружина, но штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен. Le propos de bal [2]2
Бальная болтовня (фр.)
[Закрыть], сплетни, рассказ Репетилова о клобе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде принятый – вот черты истинно комического гения. – Теперь вопрос, В комедии «Горе от ума» кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий и благородный молодой человек и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он – очень умно. Но кому он говорит все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека – с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными. <…> Между мастерскими чертами этой прелестной комедии – недоверчивость Чацкого в любви Софьи к Молчалину – прелестна! – и как натуральна! Вот на чем должна была вертеться вся комедия, но Грибоедов, видно, не захотел – его воля. О стихах я не говорю, – половина – должны войти в пословицу.
И.А. Гончаров «Мильон терзаний» 1(Критический этюд)
Комедия «Горе от ума» держится каким-то особняком в литературе и отличается моложавостью, свежестью и более крепкой живучестью от других произведений слова. Она, как столетний старик, около которого все, отжив по очереди свою пору, умирают и валятся, а он ходит, бодрый и свежий, между могилами старых и колыбелями новых людей. И никому в голову не приходит, что настанет когда-нибудь и его черед. <…>
«Горе от ума» появилось раньше Онегина, Печорина, пережило их, прошло невредимо чрез гоголевский период, прожило эти полвека со времени своего появления и все живет своею нетленною жизнью, переживет и еще много эпох и все не утратит своей жизненности.
Отчего же это, и что такое вообще это «Горе от ума»? <…> Одни ценят в комедии картину московских нравов известной эпохи, создание живых типов и их искусную группировку. Вся пьеса представляется каким-то кругом знакомых читателю лиц, и притом таким определенным и замкнутым, как колода карт. Лица Фамусова, Молчалива, Скалозуба и другие врезались в память так же твердо, как короли, валеты и дамы в картах, и у всех сложилось более или менее согласное понятие о всех лицах, кроме одного – Чацкого. Так все они начертаны верно и строго и так примелькались всем. Только о Чацком многие недоумевают: что он такое? Он как будто пятьдесят третья какая-то загадочная карта в колоде. Если было мало разногласия в понимании других лиц, то о Чацком, напротив, разноречия не кончились до сих пор и, может быть, не кончатся еще долго.
Другие, отдавая справедливость картине нравов, верности типов, дорожат более эпиграмматической солью языка, живой сатирой – моралью, которою пьеса до сих пор, как неистощимый колодезь, снабжает всякого на каждый обиходный шаг жизни.
Но и те и другие ценители почти обходят молчанием самую «комедию», действие, и многие даже отказывают ей в условном сценическом движении.
Несмотря на то, всякий раз, однако, когда меняется персонал в ролях, и те и другие судьи идут в театр, и снова поднимаются оживленные толки об исполнении той или другой роли и о самых ролях, как будто в новой пьесе.
Все эти разнообразные впечатления и на них основанная своя точка зрения у всех и у каждого служат лучшим определением пьесы, то есть что комедия «Горе от ума» есть и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира, и вместе с тем и комедия, и скажем сами за себя – больше всего комедия – какая едва ли найдется в других литературах, если принять совокупность всех прочих высказанных условий. Как картина, она, без сомнения, громадна. Полотно ее захватывает длинный период русской жизни – от Екатерины до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и нравы. И это с такою художественною, объективною законченностью и определенностью, какая далась у нас только Пушкину и Гоголю.
В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука, – зритель и читатель чувствуют себя и теперь, в нашу эпоху, среди живых людей. И общее и детали, все это не сочинено, а так целиком взято из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену, со всей теплотой и со всем «особым отпечатком» Москвы, – от Фамусова до мелких штрихов, до князя Тугоуховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы неполна.
Однако для нас она еще не вполне законченная историческая картина: мы не отодвинулись от эпохи на достаточное расстояние, чтоб между ею и нашим временем легла непроходимая бездна. Колорит не сгладился совсем; век не отделился от нашего, как отрезанный ломоть: мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и прочие видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов. Резкие черты отжили, конечно: никакой Фамусов не станет теперь приглашать в шуты и ставить в пример Максима Петровича, по крайней мере так положительно и явно. Молчалин, даже перед горничной, втихомолку, не сознается теперь в тех заповедях, которые завещал ему отец; такой Скалозуб, такой Загорецкий невозможны даже в далеком захолустье. Но пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжден!я брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как стихии общественной жизни, – до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других, нужды нет, что с самой Москвы стерся тот «особый отпечаток», которым гордился Фамусов. <…>
Соль, эпиграмма, сатира, этот разговорный стих, кажется, никогда не умрут, как и сам рассыпанный в них острый и едкий, живой русский ум, который Грибоедов заключил, как волшебник духа какого-нибудь в свой замок, и он рассыпается там злобным смехом. Нельзя представить себе, чтоб могла явиться когда-нибудь другая, боле естественная, простая, более взятая из жизни речь. Проза и стих слились здесь во что-то нераздельное, затем, кажется, чтобы их легче было удержать в памяти и пустить опять в оборот весь собранный автором ум, юмор, шутку и злость русского ума и языка. Этот язык так же дался автору, как далась группа этих лиц, как дался главный смысл комедии, как далось все вместе, будто вылилось разом, и все образовало необыкновенную комедию – и в тесном смысле как сценическую пьесу, и в обширном – как комедию жизни. Другим ничем, как комедией, она и не могла бы быть. <…>
Давно привыкли говорить, что нет движения, то есть нет действия в пьесе. Как нет движения? Есть – живое, непрерывное, от первого появления Чацкого на сцене до последнего его слова: «Карету мне, карету!»
Это – тонкая, умная, изящная и страстная комедия в тесном, техническом смысле, – верная в мелких психологических деталях, – но для зрителя почти неуловимая, потому что она замаскирована типичными лицами героев, гениальной рисовкой, колоритом места, эпохи, прелестью языка, всеми поэтическими силами, так обильно разлитыми в пьесе. Действие, то есть собственно интрига в ней, перед этими капитальными сторонами кажется бледным, лишним, почти ненужным.
Только при разъезде в сенях зритель точно пробуждается при неожиданной катастрофе, разразившейся между главными лицами, и вдруг припоминает комедию-интригу. Но и то не надолго. Перед ним уже вырастает громадный, настоящий смысл комедии.
Главная роль, конечно, – роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов.
Сам Грибоедов приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме 2.
Можно бы было подумать, что Грибоедов, из отеческой любви к своему герою, польстил ему в заглавии, как будто предупредив читателя, что герой его умен, а все прочие около него не умны.
Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умен. Речь его кипит умом, остроумием. У него есть и сердце, и притом он безукоризненно честен. Словом – это человек не только умный, но и развитой, с чувством, или, как рекомендует его горничная Лиза, он «чувствителен и весел, и остер»-. Только личное его горе произошло не от одного ума, а более от других причин, где ум его играл страдательную роль, и это подало Пушкину повод отказать ему в уме. Между тем Чацкий, как личность, несравненно выше и умнее Онегина и лермонтовского Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те – паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь «ум».
И Онегин и Печорин оказались неспособны к делу, к активной роли, хотя оба смутно понимали, что около них все истлело. Они были даже «озлоблены», носили в себе и «недовольство» и бродили как тени с «тоскующею ленью». Но, презирая пустоту жизни, праздное барство, они поддавались ему и не подумали ни бороться с ним, ни бежать окончательно. Недовольство и озлобление не мешали Онегину франтить, «блестеть» и в театре, и на бале, и в модном ресторане, кокетничать с девицами и серьезно ухаживать за ними в замужестве, а Печорину блестеть интересной скукой и мыкать свою лень и озлобление между княжной Мери и Бэлой, а потом рисоваться равнодушием к ним перед тупым Максимом Максимычем: это равнодушие считалось квинтэссенцией донжуанства. Оба томились, задыхались в своей среде и не знали, чего хотеть. Онегин пробовал читать, но зевнул и бросил, потому что ему и Печорину была знакома одна наука «страсти нежной», а прочему всему они учились «чему-нибудь и как-нибудь» – и им нечего было делать.
Чацкий, как видно, напротив, готовился серьезно к деятельности. Он «славно пишет, переводит», говорит о нем Фамусов, и все твердят о его высоком уме. Он, конечно, путешествовал недаром, учился, читал, принимался, как видно, за труд, был в сношениях с министрами и разошелся – не трудно догадаться почему.
Служить бы рад, – прислуживаться тошно,
– намекает он сам. О «тоскующей лени, о праздной скуке» и помину нет, а еще менее о «страсти нежной», как о науке и о занятии. Он любит серьезно, видя в Софье будущую жену.
Между тем Чацкому досталось вылить до дна горькую чашу – не найдя ни в ком «сочувствия живого», и уехать, увозя с собой только «мильон терзаний».
Ни Онегин, ни Печорин не поступили бы так неумно вообще, в деле любви и сватовства особенно. Но зато они уже побледнели и обратились для нас в каменные статуи, а Чацкий остается и останется всегда и живых за эту свою «глупость».
Читатель помнит, конечно, все, что проделал Чацкий. Проследим слегка ход пьесы и постараемся выделить из нее драматический интерес комедии, то движение, которое идет через всю пьесу, как невидимая, но живая нить, связующая все части и лица комедии между собою.
Чацкий вбегает к Софье, прямо из дорожного экипажа, не заезжая к себе, горячо целует у ней руку, глядит ей в глаза, радуется свиданию, в надежде найти ответ прежнему чувству – и не находит. Его поразили две перемены: она необыкновенно похорошела и охладела к нему – тоже необыкновенно.
Это его и озадачило, и огорчило, и немного раздражило. Напрасно он старается посыпать солью юмора свой разговор, частию играя этой своей силой, чем, конечно, прежде нравился Софье, когда она его любила, – частию под влиянием досады и разочарования. Всем достается, всех перебрал он – от отца Софьи до Молчалина – и какими меткими чертами рисует он Москву – и сколько из этих стихов ушло в живую речь! Но все напрасно: нежные воспоминания, остроты – ничто не помогает. Он терпит от нее одни холодности, пока, едко задев Молчалина, он не задел за живое и ее. Она уже с скрытой злостью спрашивает его, случилось ли ему хоть нечаянно «добро о ком-нибудь сказать», и исчезает при входе отца, выдав последнему почти головой Чацкого, то есть объявив его героем рассказанного перед тем отцу сна.








