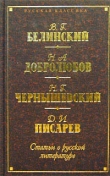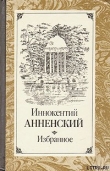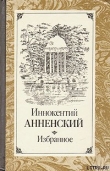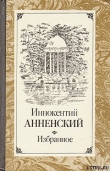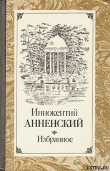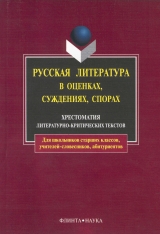
Текст книги "Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия литературно-критических текстов"
Автор книги: Андрей Есин
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
1Здесь и далее речь идет о комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».
Письмо В.А. Жуковскому<…>
Если совершу это творение <«Мертвые души»> так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем!
<…>
В.Г. Белинский О русской повести и повестях г. Гоголя («Арабески» и «Миргород»)
<…>
Отличительный характер повестей г. Гоголя составляют – простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевление, всегда побеждаемое глубоким чувством грусти и уныния. Причина всех этих качеств заключается в одном источнике: г. Гоголь – поэт, поэт жизни действительной
<…> Скажите, какое впечатление прежде всего производит на вас каждая повесть г. Гоголя? Не заставляет ли она вас говорить: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и вместе как оригинально и ново!» Не удивляетесь ли вы и тому, почему вам самим не пришла в голову та же самая идея, почему вы сами не могли выдумать этих же самых лиц, так обыкновенных, так знакомых вам, так часто виденных вами, и окружить их этими самыми обстоятельствами, так повседневными, так общими, так наскучившими вам в жизни действительной и так занимательными, очаровательными в поэтическом представлении? Вот первый признак истинно художественного произведения. Потом не знакомитесь ли вы с каждым персонажем его повести так коротко, как будто вы его давно знали, долго жили с ним вместе? Не дополняете ли вы своим воображением его портрета, и без того уже нарисованного автором во весь рост? Не в состоянии ли прибавить к нему новые черты, как будто забытые автором, не в состоянии ли вы рассказать об этом лице несколько анекдотов, как будто бы опущенных автором? Не верите ли вы на слово, не готовы ли вы побожиться, что все рассказанное автором есть сущая правда, без всякой примеси вымысла? Какая этому причина? Та, что эти создания ознаменованы печатаю истинного таланта, что они созданы по непреложным законам творчества. Эта простота вымысла, эта нагота действия, эта скудость драматизма, самая эта мелочность и обыкновенность описываемых автором происшествий суть верные, необманчивые признаки творчества; это поэзия реальная, поэзия жизни действительной, жизни, коротко знакомой нам <…> Когда посредственный талант берется рисовать сильные страсти, глубокие характеры, он может стать на дыбы, натянуться, наговорить громких монологов, насказать прекрасных вещей, обмануть читателя блестящею отделкою, красивыми формами, самым содержанием, мастерским рассказом, цветистою фразеологиею – плодами своей начитанности, ума, образованности, опыта жизни. Но возьмись он за изображение повседневных картин жизни, жизни обыкновенной, прозаической – о, поверьте, для него это будет истинным камнем преткновения, и его вялое, холодное и бездушное сочинение уморит вас зевотою. В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество – это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» – вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством; вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия! И возьмите почти все повести г. Гоголя: какой отличительный характер их? Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и оканчивается слезами и которая, наконец, называется жизнию.И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..
<…>
И.Ф. Анненский Художественный идеализм Гоголя
<…>
При первом впечатлении от гоголевского творчества нам кажется, что его главная сила заключается именно в полноте иллюзии жизни, т. е. совершенстве вещественной оболочки. Гоголя так и называют обыкновенно отцом русского реализма. И действительно, любая страница Гоголя поражает нас его стремлением не только к правдоподобию, но и к наглядности в передаче жизни, а кроме того, какою-то страстной чуткостью и хищной, если можно так выразиться, зоркостью наблюдателя. Посмотрите только на это лицо, на крючковатый, тонкий и характерно опущенный нос, пристальный взгляд, свесившуюся скобку волос… Письма Гоголя, особенно первые петербургские, полны просьбами о документах для творчества. Он собирает слова, песни, обычаи, анекдоты, описания костюмов, роется в летописях и архивах, изучает тяжебные дела, записывает термины, то охотничьи, то кулинарные… Влияние на Гоголя случайных рассказов, даже мимолетных впечатлений, пришедшихся кстати, было иногда необычайно. Работа его над языком, с тем расчетом, чтобы фраза выходила как можно выразительнее, метче и ярче, хорошо известна тем, кто заглядывал в мириады его разночтений <…>. Рисунки Гоголя тоже во многих отношениях замечательны, а его любовь к природе и передвижениям давно стала общим местом в суждениях о Гоголе. Действительность в самых мимолетных из ее оттенков Гоголь умел передавать как никто, но, может быть, нигде это не проявлялось так ярко, как при изображении дороги: поля, пестрая застава, тихий городок с каланчой и церковью, залитой лунными лучами, въезд в усадьбу; классическая запряжка Чичикова, его Селифан, чубарый, даже бричка с двумя горячими калачами, засунутыми в ее кожаный карман, круглое стеклышко, сквозь которое Чичиков смотрел на гроб бедного обладателя косматых бровей, даже колесо, которое до Москвы доедет, а до Казани не доедет, – стали бессмертны, как самые совершенные из типов Гоголя: такую яркую жизненность умел разливать Гоголь на все, до чего ни касался он своим магическим пером. <…>
Б. С Аксаков Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души»
Мы нисколько не берем на себя важного труда отдать отчет в этом новом великом произведении Гоголя, уже ставшего высоко предыдущими созданиями; мы считаем нужным сказать несколько слов, чтобы указать на точку зрения, с какой, нам кажется, надобно смотреть на его поэму.
Многим, если почти не всякому, должна показаться странною его поэма; явление ее так важно, так глубоко и вместе так ново-неожиданно, что она не может быть доступною с первого раза. Эстетическое чувство давно уже не испытывало такого рода впечатления, ьщр искусства давно не видал такого создания, и недоумение должно было быть у многих, если не у всех, первым, хотя и минутным, ощущением: мы говорим о людях, более или менее одаренных чувством изящного.
Так глубоко значение, являющееся нам в «Мертвых душах» Гоголя! Пред нами возникает новый характер создания, является оправдание целой сферы поэзии, сферы, давно унижаемой; древний эпос 1восстает пред нами. Объяснимся.
Древний эпос, основанный на глубоком простом созерцании, обнимал собою целый определенный мир во всей неразрывной связи его явлений; и в нем, при этом созерцании все обхватывающем, столь зорком и все видящем, представляются все образы природы и человека, заключенные в созерцаемом мире, и, соединенные чудно, глубоко и истинно, шумят волны, несется корабль, враждуют и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место, на все устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами и, чудным творчеством, переносящий его туда, каждый, с полною тайною его жизни: будь это человек великий, или море, или шум дождя, бьющего по листьям. Всемирно-исторический интерес, великое событие, эпоха становится содержанием эпоса; единство духа – та внутренняя связь, которая связует все его явления. <…> Этот древний эпос, перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно. Все более и более выдвигалось происшествие, уже мелкое и мелеющее с каждым шагом, и, наконец, сосредоточило на себе все внимание; весь интерес устремился на происшествие, на анекдот, который становился хитрее, замысловатее, занимал любопытство, заменившее эстетическое наслаждение; так снизошел эпос до романов и, наконец, до крайней степени своего унижения, до французской повести. – Мы потеряли, мы забыли эпическое наслаждение; наш интерес сделался интересом интриги, завязки: чем кончится, как объяснится такая-то запутанность, что из этого выйдет? Загадка, шарада стала, наконец, нашим интересом, содержанием эпической сферы, повестей и романов, унизивших и унижающих, за исключением светлый мест, древний эпический характер 2.
И вдруг среди этого времени возникает древний эпос со своею глубиною и простым величием – является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание. Как понятно, что мы, избалованные в нашем эстетическом чувстве в продолжение веков, мы с недоумением, не понимая, смотрим сначала на это явление; мы ищем: в чем же дело, перебираем листы, желая видеть анекдот, спешим добраться до нити завязки романа, увидеть уже знакомого незнакомца, таинственную, часто понятную загадку, думаем, нет ли здесь, в этом большом сочинении, какой-нибудь интриги помудренее; но на это на все молчит его поэма; она представляет вам целую сферу жизни, целый мир, где опять, как у Гомера, свободно шумят и блещут воды, всходит солнце, красуется вся природа и живет человек, – мир, являющий нам глубокое целое, глубокое, внутри лежащее содержание общей жизни, связующей единым духом все свои явления. Но нам не того надо: нам нужно внешнего содержания, анекдота, шарады, – и дичится давно избалованное эстетическое чувство, как ребенок, которого сажают за дело. В поэме Гоголя является нам тот древний, Гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его достоинство и широкообъемлющий размер. Мы знаем, как дико зазвучат во многих ушах имена Гомера и Гоголя, поставленные рядом; но пусть принимают, как хотят, сказанное нами теперь твердым голосом; впрочем, мы хотим предупредить здесь одно недоразумение: только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы – «Мертвые души» называем «Илиадой»; мы не то говорим: мы видим разницу в содержании поэм; в «Илиаде» является Греция со своим миром, со своею эпохою и, следовательно, содержание само уже кладет здесь разницу [13]13
Кто знает, впрочем, как раскроется содержание «Мертвых душ» (примеч. К.С. Аксакова.).
[Закрыть]; конечно, «Илиада» именно, эпос, так исключительное некогда обнявший все, не может повториться; но эпическое созерцание, это говорим мы прямо, эпическое созерцание Гоголя – древнее, истинное, то же, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видим мы это содержание, только он обладает им, только с Гоголем, у него, из-под его творческой руки, восстает, наконец, древний, истинный эпос, надолго оставлявший мир, – самобытный, полный вечно свежей, спокойной жизни, без всякого излишества. Чудное, чудное явление! К новому художественному наслаждению призывает оно нас, новое глубокое чувство изящного будит оно в нас, и невольно открывается впереди прекрасная даль <…>
Некоторым может показаться странным, что лица у Гоголя сменяются без особенной причины; это им скучно; но основание упрека лежит опять в избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцание допускает это спокойное появление одного лица за другим без внешней связи, тогда как один мир обьемлет их, связуя их глубоко и неразрывно единством внутренним. Конечно, мы понимаем, что интрига со всею путаницей менее заставляет двигнуться всем внутренним силам человека, менее, несравненно менее глубоко заставляет его, если только он может почувствовать, принять впечатление; интрига, анекдот занимают любопытство и до такой степени унизили эпос в романах и повестях, что не нужно эстетического чувства, чтобы понимать их, интересоваться ими; это может всякий любопытный не дурак; а охотнее человек принимается за то, что легче, что не требует большого напряжения внутренних его сил. Какая же интрига, между тем, какая завязка в «Илиаде»? Происшествие все в двух словах и открыто; какая завязка, интрига в божьем мире, полном жизни и единства? В поэме Гоголя явления идут одни за другими, спокойно сменяя друг друга, объемлемые великим эпическим созерцанием, открывающим целый мир, стройно предстающий с своим внутренним содержанием и единством, с своею тайною жизни. – Одним словом, как мы уже сказали и повторяем: древний, важный эпос является в своем величавом течении…
Какой смысл получает теперь, после всего нами сказанного, название поэмы, стоящее в заглавии книги! Да, это поэма, и это название вам доказывает, что автор понимал, что производил; понимал всю великость и важность своего дела.
Если сказать несколько слов о самом произведении, то первый вопрос, который нам бы сделали, будет: какое содержание? Мы сказали, что здесь нечего искать содержания романов и повестей; это поэма, и, разумеется, в ней лежит содержание поэмы. Итак, нас могут спросить, что же в ней заключается, что, какой мир объемлет собой поэма? – Хотя это только первая часть, хотя это еще начало реки, дальнейшее течение которой, Бог знает, куда приведет нас и какие явления представит, – но мы, по крайней мере, можем, имеем даже право думать, что в этой поэме обхватывается широко Русь, и уж не тайна ли русской жизни лежит, заключенная в ней, не выговорится ли она здесь художественно? Не входя подробно в раскрытие первой части, в которой во всей, разумеется, лежит одно содержание, мы можем указать, по крайней мере, на ее окончание, так чудно, так естественно вытекающее. Чичиков едет в бричке, на тройке; тройка понеслась шибко, и кто бы ни был Чичиков, хоть он и плутоватый человек, и хоть многие и совершенно будут против него, но он был русский, он любил скорую езду, – и здесь тотчас это общее народное чувство, возникнув, связало его с целым народом, скрыло его, так сказать; здесь Чичиков, тоже русский, исчезает, поглощается, сливаясь с народом в этом общем всему ему чувстве. Пыль от дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачет, – видна одна несущаяся тройка. И когда здесь, в конце первой части, коснулся Гоголь общего субстанциального чувства русского, то вся сущность (субстанция) русского народа, тронутая им, поднялась колоссально, сохраняя свою связь с образом, ее возбудившим. Здесь проникает наружу и видится Русь, лежащая, думаем мы, тайным содержанием всей его поэмы. И какие эти строки, что дышит в них! И как, несмотря на мелочность предыдущих лиц и отношений на Руси, – как могущественно выразилось то, что лежит в глубине, то сильное, субстанциальное, вечное, неисключаемое нисколько предыдущим. Это дивное окончание, повершающее первую часть, так глубоко связанное со всем предыдущим и которое многим покажется противоречием, – каким чудным звуком наполняет оно грудь, как глубоко возбуждаются все силы жизни, которую чувствуешь в себе разлитою вдохновенно по всему существу.
Указывать ли на места? Но без полного созерцания – это значит вырывать их. Все, от начала до конца, полно одной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которою живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке, и потому медленно надо читать Гоголя; содержание предлагается в каждом слове, каждая глава много, много наполнит человека, и изящное его чувство много, много насладится; нечего бояться потерять из виду внешнюю связь происшествия: здесь нечего сшивать в памяти, как бы ниткою, обстоятельства, как мы делаем это во многих повестях и романах, где часто разыгрываем роль судей, посланных на следствие; но здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться потерять единство: оно не внешнее, оно всегда тут; связует не наружно, но внутренно все предметы между собою <…>
Общий характер лиц Гоголя тот, что ни одно из них не имеет ни тени односторонности, ни тени отвлеченности, и какой бы характер в нем ни высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: скупость,над другим: вероломство, над третьим: верностьи т. д.); нет, все стороны, все движения души, какие могут быть у какого бы то ни было лица, все не пропущены его взором, видящим полноту жизни; он не лишает лицо, отмеченное мелкостью, низостью, ни одного человеческого движения; все воображены в полноте жизни; на какой бы низкой степени ни стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете в нем человека, своего брата, созданного по образу и подобию божию. Это видишь во всех его сочинениях. Вспомним «Ивана Федоровича Шпоньку» 3: человек, кажется, пустой в высшей степени, дурачок, большею частию лежащий на кровати, скинувши мундир; вспомним, как он, приехавши в свою деревню, выехал на сенокос: на него действует природа, он соединен с нею, тут он чувствует, но чувство выказалось в нем столько, сколько должно и могло выказаться. Говорить ли о «Старосветских помещиках», в которых столько глубоко человеческое значение открыл взор Гоголя, там, где другие увидали бы только пошлость и животность; он открыл и проложил путь сочувствию человеческому и к этим людям и к этой жизни. В «Мертвых душах» видим то же. Например, Манилов, при всей своей пустоте и приторной сладости, имеющий свою ограниченную, маленькую жизнь, но все же жизнь, – и без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием смотришь, как он стоит на крыльце, куря свою трубку, а в голове его и бог знает что воображается, и это тянется до самого вечера. Или Плюшкин, скупец, но за которым лежат иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скупости; вспомните то место, когда прежняя жизнь проснулась в нем, тронутая воспоминанием, и на его старом, безжизненном лице мелькнуло выражение чувства. Одним словом: везде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы: мухи, дождя, листьев и пр. до человека, – какая составляет тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногим.
<…>
А русская песня, которую так часто вспоминает Гоголь в своей поэме, русская песня! Что лежит в ней? Как широк напев ее! Кажется, дух и образ великого, могучего пространства, о котором так прекрасно говорит Гоголь, лежит в ней. Нет ей конца, бесконечная песня, как называет ее он же. В самом деле, нельзя сказать, что русская песня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, как широкие волны звуков раздаются слабее и слабее и наконец затихают так, что слух едва ловит последние звуки русской песни, – нет, она не кончилась, она унеслась, удалилась только и где-то поется, вечно поется.
Примечания1Здесь и далее под «древним эпосом» Аксаков имеет в виду прежде всего великие поэмы древнегреческого поэта и сказителя Гомера «Илиада» и «Одиссея».
1 Здесь Аксаков дает схематичную картину движения европейских литератур от эпоса к роману, то есть, как представлялось критику, от проблем общих, затрагивающих жизнь всего народа, к проблемам частным, связанным с отдельной личностью.
3Имеется в виду герой повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
Д. С. Мережковский Гоголь и черт (исследование)
<…>
«– Я желаю иметь мертвых…
– Как-с? извините– я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово…
– Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, – сказал Чичиков».
Манилов каменеет сначала от изумления, потом от «страха».
«– Может быть, здесь, – предполагает он робко, – в этом, вами сейчас выраженном изъяснении… скрыто другое…
– Нет, – подхватил Чичиков, – нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли».
«Мертвые души» – это было некогда для всех привычное казенное слово на канцелярском языке крепостного права. Но нам теперь вовсе не надо быть чувствительными Маниловыми, а надо только действительно чувствовать и «разуметь предмет таков, как он есть»-, то есть надо разуметь не условный, казенный, «позитивный» 1, чичиковский, а безусловный, религиозный, человеческий, божеский смысл этих двух слов – «душа» и «смерть», чтобы выражение «мертвые души» зазвучало «престранно» и даже престрашно, как неимоверное кощунство. Не только мертвые, но живые человеческие души, как бездушный товар на рынке, – разве это не странно и не страшно? Здесь язык самой близкой и реальной действительности не напоминает ли язык самой чуждой и фантастической сказки? Невероятно, что по каким-то канцелярским «сказкам», по какой-то «ревизии» мертвые души значатся живыми; а может быть, и наоборот, живые – мертвыми, так что в конце концов не оказывается никакого прочного, позитивного «основания» для того, чтобы отличить живых от мертвых, бытие от небытия. Тут чудовищное смешение слов от чудовищного смешения понятий. Язык выражает понятия: какова должна быть циническая пошлость понятий для того, чтобы получилась такая циническая пошлость языка. И, несмотря на этот внутренний цинизм, Чичиков и вся его культура сохраняют внешнее «благоприличие изумительное». Конечно, люди, полные здравого смысла и даже ума государственного, приняли в казенный обиход это ходячее словечко «мертвые души»; а между тем какая бездна хлестаковской легкости открывается здесь в чичиковской «основательности»! Повторяю, не надо быть Маниловым, надо только не быть Чичиковым, чтобы почувствовать, что в этом сочетании слов скрыто нечто «другое» – за явным плоским – глубокий, тайный смысл, и чтобы сделалось жутко от этих двух смыслов, от этой двусмысленности,
«Я мертвых никогда еще не продавала», – возражает Коробочка– «Приехал Бог знает откуда, – думает она, – да еще и в ночное время». «Послушайте, матушка, ведь это прах. Понимаете ли? Это просто прах. Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, – и тряпке есть цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну скажите сами ?на что оно нужно?»
«Собирайте сокровище ваше на небесах. Какой выкуп даст человек за душу свою или какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. У Бога все живы» – так говорит Христос, А черт – то бишь Чичиков – возражает: «Мертвые души – дело не от мира сего. Это прах, просто прах. Цена тряпке на бумажной фабрике больше, чем цена души человеческой в вечности. Это ведь мечта. Предмет просто, фу, фу!» Кому же мы, дети положительного века, верим больше – Христу или Чичикову? Не по тому, что мы говорим и думаем, а по тому, как живем и умираем, – это, кажется, легко решить. В нашем позитивном чичиковском «фу, фу!» не открывается ли опять-таки вместо «прочного основания» все та же бездна хлестаковской «легкости в мыслях», безграничного цинизма? И разве наше единственное искреннее слово над всяким мертвым телом – не слово Собакевича: «Мертвым телом хоть забор подпирай» 2. Древние эллины, иудеи, египтяне ужаснулись бы безбожному позитивизму, который выражен в этой христианской пословице. «Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа», – говорит вечный купец мертвых душ Собакевичу 2а. Мы уничтожили крепостное право, мы не торгуем ни живыми, ни мертвыми душами. Но разве и в современных государствах с их чудовищным пролетариатом, дроституцией не бывает иногда точно так же – «душа человеческая все равно что пареная репа»?
<…>
«Казалось, в этом теле совсем не было души», – замечает Гоголь о Собакевиче. У него – в живом теле мертвая душа. И Манилов, и Ноздрев, и Коробочка, и Плюшкин, и Прокурор «с густыми бровями» – все это в живых телах «мертвые души». Вот отчего так страшно с ними. Это страх смерти, страх живой души, прикасающейся к мертвым. «Ныла душа моя, – признается Гоголь, – когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей». И здесь, так же как в «Ревизоре», надвигается «египетская тьма», «слепая ночь среди белого дня», «ошеломляющий туман», «чертово марево, в котором ничего не видно, видны только «свиные рыла» вместо человеческих лиц, И всего ужаснее, что эти уставившиеся на нас «дряхлые страшилища с печальными лицами», «дети не просвещения, русские уроды», по слову Гоголя, «взяты из нашей же земли», из русской действительности; несмотря на всю свою призрачность, они – «Из того же тела, из которого и мы»; они – мы, отраженные в каком-то дьявольском и все-таки правдивом зеркале.
В одной юношеской сказке Гоголя, в «Страшной мести» – «мертвецы грызут мертвеца» – «бледны, бледны, один другого выше, один другого костистее». Среди них «еще один всех выше, всех страшнее, вросший в землю, великий, великий мертвец». Так и здесь, в «Мертвых душах», среди прочих мертвецов «великий, великий мертвец» Чичиков растет, подымается, и реальный человеческий образ его, преломляясь в тумане чертового маревая, становится неимоверным «страшилищем».