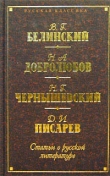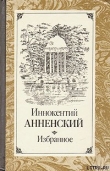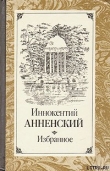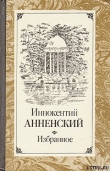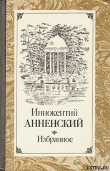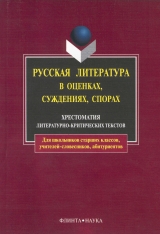
Текст книги "Русская литература в оценках, суждениях, спорах: хрестоматия литературно-критических текстов"
Автор книги: Андрей Есин
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Кроме крупных и видных личностей, при резких переходах из одного века в другой – Чацкие живут и не переводятся в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей уживается старое с молодым, где два века сходятся лицом к лицу в тесноте семейств, – все длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым. <…>
Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого – и кто бы ни были деятели, около какого бы человеческого дела – будет ли то новая идея, шаг в науке, в политике, в войне – ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажды стремиться от рутины к «свободной жизни» вперед и вперед с другой.
Вот отчего не состарелся до сих пор и едва ли состареется когда-нибудь грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется из магического круга, начертанного Грибоедовым, как только художник коснется борьбы понятий, смены поколений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых личностей, едва намекающих на будущее, и потому недолговечных, каких мы уже пережили немало в жизни и в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чацкого, как после сервантесовского Дон-Кихота и шекспировского Гамлета являлись и являются бесконечные их подобия.
В честных, горячих речах этих позднейших Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы и слова – и если не слова, то смысл и тон раздражительных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые герои в борьбе со старым не уйдут никогда.
И в этом бессмертие стихов Грибоедова! <…>
Наконец – последнее замечание о Чацком. Делают упрек Грибоедову в том, что будто Чацкий – не облечен так художественно, как другие лица комедии, в плоть и кровь, что в нем мало жизненности. Иные даже говорят, что это не живой человек, а абстракт, идея, ходячая мораль комедии, а не такое полное и законченное создание, как, например, фигура Онегина и других, выхваченных из жизни типов.
Это несправедливо. Ставить рядом с Онегиным Чацкого нельзя: строгая объективность драматической формы не допускает той широты и полноты кисти, как эпическая. Если другие лица комедии являются строже и резче очерченными, то этим они обязаны пошлости и мелочи своих натур, легко исчерпываемых художником в легких очерках. Тогда как в личности Чацкого, богатой и разносторонней, могла быть в комедии рельефно взята одна господствующая сторона – а Грибоедов успел намекнуть и на многие другие.
Потом – если приглядеться вернее к людским типам в толпе – то едва ли не чаще других встречаются эти честные, горячие, иногда желчные личности, которые не прячутся покорно в сторону от встречной уродливости, а смело идут навстречу ей и вступают в борьбу, часто неравную, всегда со вредом себе и без видимой пользы делу. Кто не знал или не знает, каждый в своем кругу, таких умных, горячих, благородных сумасбродов, которые производят своего рода кутерьму в тех кругах, куда их занесет судьба, за правду, за честное убеждение?!
Нет, Чацкий, по нашему мнению, из всех наиболее живая личность и как человек и как исполнитель указанной ему Грибоедовым роли. Но повторяем, натура его сильнее и глубже прочих лиц и потому не могла быть исчерпана в комедии. <…>
Примечания1Статья «Мильон терзаний» была написана Гончаровым в 1871 году под впечатлением сценической постановки «Горя от ума».
2 См. выше письмо Пушкина Катенину.
3«Пиитики» (иначе – поэтики) – руководства по сочинению художественных произведений; были особенно распространены в эпоху классицизма и во многом стесняли творческую волю авторов.
4 Не совсем точная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Когда твои младые лета» У Пушкина:
Но свет… Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.
Творчество А. С. Пушкина
Творчеству Пушкина – величайшего русского поэта и писателя – посвящено множество статей, книг, исследований, воспоминаний и т. п. В эту книгу вошли лишь те статьи, которые являются образцовыми, хрестоматийными, в наибольшей степени раскрывающими сущность творчества Пушкина.
Статья Пушкина «О народности в литературе» дает его понимание этого сложного понятия, что чрезвычайно важно, поскольку народность и национальная самобытность произведений Пушкина была едва ли не главной отличительной чертой его творчества.
Статья Н.В. Гоголя«Несколько слов о Пушкине» начинается доказательством того, что Пушкин был поэт национальный по преимуществу. Далее Гоголь говорит о гениальности Пушкина, проявившейся как в форме, так и в содержании его произведений. Гоголь был одним из первых, кто осознал и выразил значение Пушкина в историческом развитии России и русского народа («это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»).
Статьи В.Г. Белинскогоо Пушкине являются классическими; в них, в частности, содержатся очень подробные и убедительные разборы пушкинской лирики, драматургии, прозы. Но главным творением Пушкина Белинский считает роман «Евгений Онегин» («здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его»), которому посвящены две больших статьи. В них Белинский точно определяет наиболее важные отличительные особенности романа («энциклопедия русской жизни и в высшей степени народное произведение»), анализирует его проблематику, глубоко проникает в психологический мир главных героев – Онегина и Татьяны.
Ф.М. Достоевскийтакже начинает свой анализ творчества Пушкина с признания его великим национальным поэтом, выразителем «русского сердца». Но народность поэта Достоевский видит прежде всего в том, что в его творчестве наиболее полно отразились идеи русского православия, как его понимал сам Достоевский, – то есть «всемирная отзывчивость», мессианство и богоизбранность русского народа и его смирение. Эта последняя идея была любимой у Достоевского, который считал смирение, способность страдать и сострадать важнейшими христианскими добродетелями, с помощью которых только и может быть спасен мир. Кроме этого, в речи Достоевского следует обратить внимание на его трактовку характера Татьяны, который Достоевский также сближал с идеями православия и народной нравственностью. Обязательно нужно прочитать «Объяснительное слово…», помещенное здесь перед речью, поскольку в нем Достоевский конспективно излагает важнейшие мысли своей речи, но ограничиваться только «Объяснительным словом…» нельзя, так как лишь в самой речи содержатся конкретные разборы произведений Пушкина, в частности, романа «Евгений Онегин».
А. С. Пушкин О народности в литературе
С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие народности в произведениях литературы, – но никто не думал определить, что разумеет он под словом народность.
Один из наших критиков, кажется, полагает, что народность состоит в выборе предметов из отечественной истории.
Но мудрено отъять у Шекспира в его «Отелло», «Гамлете», «Мера за меру» и проч. – достоинства большой народности; Vega 1и Кальдерон 2поминутно переносят во все части света, заемлют предметы своих трагедий из итальянских новелл, из французских ле 3. Ариосто 4воспевает Карломана, французских рыцарей и китайскую царевну. Трагедии Расина 5взяты им из древней истории.
Мудрено однако же у всех сих писателей оспоривать достоинства великой народности. Напротив того, что есть народного в «Россиаде» и в «Петриаде» 6кроме имен, как справедливо заметил кн. Вяземский? Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?
Другие видят народность в словах, т. е. радуются тем, что, изъясняясь по-русски, употребляют русские выражения.
Народность в писателе есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками – для других оно или не существует, или даже может показаться пороком.
Ученый немец негодует на учтивость героев Расина, француз смеется, видя в Кальдероне Кориолана, вызывающего на дуэль своего противника. Все это носит однако ж печать народности.
Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу.
Примечания1Лопе де Бега – испанский драматург (1562–1635).
2Кальдерон – испанский драматург (1600–1681).
3«Ле» – жанр средневековой французской поэзии, близкий к балладе.
4 Ариосто – итальянский поэт (1474–1533).
5Расин – крупнейший французский поэт-трагик (1639–1699).
6«Петриада» – имеется в виду незаконченная поэма М.В. Ломоносова «Петр Великий». «Россиада» – поэма М.М. Хераскова. Обе поэмы создавались в соответствии с эстетическими канонами классицизма.
Н.В. Гоголь Несколько слов о Пушкине
При имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал все его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла. <…>
Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пиеса 1всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пиесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.
Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною, и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным поэтом, – его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него все, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.
Явление это, кажется, не так трудно разрешить. Будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русский. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: «Изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были». Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить все в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: «Это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было». Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий; но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков!.. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судия, и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя и, несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущелье, или выжиг целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом, посредством справок и выправок, пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба – явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по весьма естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта – нерасчет перед его многочисленною публикою, а не пред собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей, Мне пришло на память одно происшествие из моего детства, Я всегда чувствовал в себе маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою, и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организирована и развилась в чувствах, что способна понять не блестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? По крайней мере печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались доныне нетронуты.
В мелких своих сочинениях 2, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякий, но зато большая часть из них, и притом самых лучших, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступну понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние, нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом 3, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, вкус которого кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности – привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений – ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия: никакого наружного блеска, все просто, все прилично, все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; все лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея. <…>
Примечания1Слово «пиеса» (пьеса) во времена Пушкина и Гоголя означало не только драматическое произведение, но и лирическое стихотворение; здесь и далее Гоголь употребляет это слово в последнем смысле,
2Здесь имеются в виду стихотворения Пушкина,
3Сибарит – человек, видящий смысл жизни в утонченных наслаждениях.
В.Г. Белинский Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая. «Евгений Онегин»
Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин» И эта робость оправдывается многими причинами. «Онегин» есть самое задушевное произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения, в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в «Онегине» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здесь его чувства, понятия, идеалы. Оценить такое произведение, значит – оценить самого поэта во всем объеме его творческой деятельности. Не говоря уже об эстетическом достоинстве «Онегина», эта поэма имеет для нас, русских, огромное историческое и общественное значение. <…>
Прежде всего в «Онегине» мы видим поэтически воспроизведенную картину русского общества, взятого в одном из интереснейших моментов его развития. С этой точки зрения «Евгений Онегин» есть поэма историческая в полном смысле слова, хотя в числе ее героев нет ни одного исторического лица. Историческое достоинство этой поэмы тем выше, что она была на Руси и первым и блистательным опытом в этом роде. В ней Пушкин является не просто поэтом только, но и представителем впервые пробудившегося общественного самосознания: заслуга безмерная!..<…>
<…> Русский поэт может себя показать истинно национальным поэтом, только изображая в своих произведениях жизнь образованных сословий: ибо, чтоб найти национальные элементы в жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, – для этого поэту нужно и иметь большой талант и быть национальным в душе. «Истинная национальность (говорит Гоголь) состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа; поэт может быть даже и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами» 1. Разгадать тайну народной психеи 2, для поэта, – значит уметь равно быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и высших сословий. Кто умеет схватывать резкие оттенки только грубой простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных оттенков образованной жизни, тот никогда не будет великим поэтом и еще менее имеет право на громкое титло 3национального поэта. Великий национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их языком. И если произведение, которого содержание взято из жизни образованных сословий, не заслуживает названия национального, – значит, оно ничего не стоит и в художественном отношении, потому что неверно духу изображаемой им действительности. Поэтому не только такие произведения, как «Горе от ума» и «Мертвые души», но и такие, как «Герой нашего времени», суть столько же национальные, сколько и превосходные поэтические создания.
И первым таким национально-художественным произведением был «Евгений Онегин» Пушкина. В этой решимости молодого поэта представить нравственную физиономию наиболее оевропеившегося в России сословия нельзя не видеть доказательства, что он был и глубоко сознавал себя национальным поэтом. Он понял, что время эпических поэм давным-давно прошло и что для изображения современного общества, в котором проза жизни так глубоко проникла самую поэзию жизни, нужен роман, а не эпическая поэма. Он взял эту жизнь, как она есть не отвлекая от нее только одних поэтических ее мгновений; взял ее со всем холодом, со всею ее прозою и пошлостию. И такая смелость была бы менее удивительною, если бы роман затеян был в прозе; но писать подобный роман в стихах в такое время, когда на русском языке не было ни одного порядочного романа и в прозе, – такая смелость, оправданная огромным успехом, была несомненным свидетельством гениальности поэта. <…>
Мы начали статью с того, что «Онегин» есть поэтически верная действительности картина русского общества в известную эпоху. Картина эта явилась вовремя, то есть именно тогда, когда явилось то, с чего можно было срисовать ее – общество… Время от 1812 до 1815 года было великою эпохою для России. Мы разумеем здесь не только внешнее величие и блеск, какими покрыла себя Россия в эту великую для нее эпоху, но и внутреннее преуспеяние в гражданственности и образовании, бывшее результатом этой эпохи. Можно сказать без преувеличения, что Россия больше прожила и дальше шагнула от 1812 года до настоящей минуты, нежели от царствования Петра до 1812 года. С одной стороны, 12-й год, потрясши всю Россию из конца в конец, пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил, чувством общей опасности сплотил в одну огромную массу косневшие в чувстве разъединенных интересов частные воли, возбудил народное сознание и народную гордость и всем этим способствовал зарождению публичности, как началу общественного мнения; кроме того, 12-й год нанес сильный удар коснеющей старине: вследствие его исчезли неслужащие дворяне, спокойно родившиеся и умиравшие в своих деревнях, не выезжая за заповедную черту их владений; глушь и дичь быстро исчезали вместе с потрясенными остатками старины. С другой стороны, вся Россия, в лице своего победоносного войска, лицом к лицу увиделась с Европою, пройдя по ней путем побед и торжеств. Все это сильно способствовало возрастанию и укреплению возникшего общества. Б двадцатых годах текущего столетия русская литература от подражательное™ устремилась к самобытности: явился Пушкин. Он любил сословие, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества и к которому принадлежал сам 4, – и в «Онегине» он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху, то есть в двадцатых годах текущего столетия. И здесь нельзя не подивиться быстроте, с которою движется вперед русское общество: мы смотрим на «Онегина», как на роман времени, от которого мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже так чужды нам, так вне идеалов и мотивов нашего времени <…> «Герой нашего времени» был новым «Онегиным»; едва прошло четыре года, – и Печорин уже не современный идеал. И вот в каком смысле сказали мы, что самые недостатки «Онегина» суть в то же время и его величайшие достоинства: эти недостатки можно выразить одним словом – «старо»; но разве вина поэта, что в России все движется так быстро? И разве это не великая заслуга со стороны поэта, что он так верно умел схватить действительность известного мгновения из жизни общества? Если б в «Онегине» ничто не казалось теперь устаревшим или отсталым от нашего времени, – это было бы явным признаком, что в этой поэме нет истины, что в Ней изображено не действительно существовавшее, а воображаемое общество; в таком случае что ж бы это была за поэма и стоило бы говорить о ней?..
Мы уже коснулись содержания «Онегина»; обратимся к разбору характеров действующих лиц этого романа. Несмотря на то что роман носит на себе имя своего героя, – в романе не один, а два героя: Онегин и Татьяна. В обоих их должно видеть представителей обоих полов русского общества в ту эпоху. Обратимся к первому. Поэт очень хорошо сделал, выбрав себе героя из высшего круга общества. Онегин – отнюдь не вельможа (уже и потому, что временем вельможества был только век Екатерины II); Онегин – светский человек <…> Высший круг общества был в то время уже в апогее своего развития; притом светскость не помешала же Онегину сойтись с Ленским – этим наиболее странным и смешным в глазах света существом. Правда, Онегину было дико в обществе Лариных, но образованность еще более, нежели светскость, была причиною этого. Не спорим, общество Лариных очень мило, особенно в стихах Пушкина, но нам, хоть мы и совсем не светские люди, было бы в нем не совсем ловко, тем более, что мы решительно не способны поддержать благоразумного разговора о псарне, о вине, о сенокосе, о родне. <…> Вследствие этого Онегин с первых же строк романа был принят за безнравственного человека. Это мнение о нем и теперь еще не совсем исчезло. Мы помним, как горячо многие читатели изъявляли свое негодование на то, что Онегин радуется болезни своего дяди и ужасается необходимости корчить из себя опечаленного родственника:
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя?
Многие и теперь этим крайне недовольны. Из этого видно, каким важным во всех отношениях произведением был «Онегин» для русской публики и как хорошо сделал Пушкин, взяв светского человека в герои своего романа. К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства, в одно и то же время грубого и глупого, добродушного и добросовестного. Если какой-нибудь бедный чиновник вдруг увидит себя наследником богатого дяди-старика, готового умереть, – с какими слезами, с какою униженною предупредительностью будет он ухаживать за дядюшкою, хотя этот дядюшка, может быть, во всю жизнь свою не хотел ни знать, ни видеть племянника, и между ними ничего не было общего. Однако ж не думайте, чтоб со стороны племянника это было расчетливым лицемерством (расчетливое лицемерство есть порок всех кругов общества, и светских и несветских); нет, вследствие благодетельного сотрясения всей нервной системы, произведенного видом близкого наследства, наш племянник не шутя пришел в умиление и почувствовал пламенную любовь к дядюшке, хотя и не воля дяди, а закон дал ему право на наследство. Стало быть, это лицемерство добродушное, искреннее и добросовестное. Но вздумай его дядюшка вдруг ни с того ни с сего выздороветь: куда бы девалась у нашего племянника родственная любовь, и как бы ложная горесть вдруг сменилась истинною горестью, и актер превратился бы в человека! Обратимся к «Онегину». Его дядя был ему чужд во всех отношениях. И что может быть общего между Онегиным, который уже —
…..равно зевал
Средь модных и старинных зал…
и между почтенным помещиком, который, в глуши своей деревни,
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил?
Скажут: он его благодетель. Какой же благодетель, если Онегин был законным наследником его имения? Тут благодетель– не дядя, а закон, право наследства. Каково же положение человека, который обязан играть роль огорченного, состраждущего и нежного родственника при смертном одре совершенно чуждого и постороннего ему человека? Скажут: кто обязывал его играть такую низкую роль? Как кто? Чувство деликатности, человечности…
Большая часть публики совершенно отрицала в Онегине душу и сердце, видела в нем человека холодного, сухого и эгоиста по натуре. Нельзя ошибочнее и кривее понять человека! Этого мало: многие добродушно верили и верят, что сам поэт хотел изобразить Онегина холодным эгоистом. Это уже значит: имея глаза, ничего не видеть. Светская жизнь не убила в Онегине чувства, а только охолодила к бесплодным страстям и мелочным развлечениям. Вспомните строфы, в которых поэт описывает свое знакомство с Онегиным:
<3десь Белинский цитирует роман «Евгений Онегин», гл. I, строфы XLV–XLVII>
Из этих стихов мы ясно видим, по крайней мере, то, что Онегин не был ни холоден, ни сух, ни черств, что в душе его жила поэзия и что вообще он был не из числа обыкновенных, дюжинных людей. Невольная преданность мечтам, чувствительность и беспечность при созерцании красот природы и при воспоминании о романах и любви прежних лет; все это говорит больше о чувстве и поэзии, нежели о холодности и сухости. Дело только в том, что Онегин не любил расплываться в мечтах, больше чувствовал, нежели говорил, и не всякому открывался. Озлобленный ум есть тоже признак высшей натуры, потому что человек с озлобленным умом бывает недоволен не только людьми, но и самим собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если им везет, то и всеми. Жизнь не обманывает глупцов; напротив, она все дает им, благо немногого просят они от нее: корма, пойла, тепла да кой-каких игрушек, способных тешить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование в жизни, в людях, в самих себе (если только оно истинно и просто, без фраз и щегольства нарядною печалью) свойственно только людям, которые желая «многого», не удовлетворяются «ничем». Читатели помнят описание (в VIII главе) кабинета Онегина: весь Онегин в этом описании. Особенно поразительно исключение из опалы двух или трех романов,
В которых отразился век,
И современный человек
Изображен довольно верно
С его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмерно,
С его озлобленным умом,
Кипящим в действии пустом.
Скажут: это портрет Онегина. Пожалуй, и так; но это еще более говорит в пользу нравственного превосходства Онегина, потому что он узнал себя в портрете, который как две капли воды похож на столь многих, но в котором узнают себя столь немногие, а большая часть «украдкою кивает на Петра». Онегин не любовался самолюбиво этим портретом, но глухо страдал от его поразительного сходства с детьми нынешнего века. Не натура, не страсти, не заблуждения личные сделали Онегина похожим на этот портрет, а век.
Связь с Ленским – этим юным мечтателем, который так понравился нашей публике, всего громче говорит против мнимого бездушия Онегина. Онегин презирал людей,
Но правил нет без исключений:
Иных он очень отличал,
И вчуже чувство уважал.
<Далее Белинский цитирует роман «Евгений Онегин», гл. И, строфы XV–XVI>.
Дело говорит само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушие Онегина, как человека, произошли от грубой неспособности многих читателей понять так верно созданный поэтом характер. Но мы не остановимся на этом и исчерпаем весь вопрос.