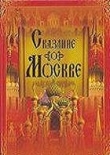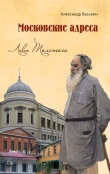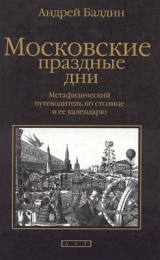
Текст книги "Московские праздные дни"
Автор книги: Андрей Балдин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Кстати, это один из любимых приемов Грозного, первого русского царя, то и дело выносящего «Я» из Москвы, напускающего на нее безвременье. Но тот как будто играл, забирал время на время, а этот-то увел навсегда. Завязывается драма, которая, начиная с XVIII века, окрашивает всю новую историю России: перетягивание столичности, единственности между Петербургом и Москвой. Это рождественское представление, оно и началось под новый 1700-й год (см. ниже). Суть его – в схватке за власть над временем, в соревновании за право вести счет времени.
Где совершается чудо начала бытия, в центре московской сферы или в пересечении питерских идеальных осей? Ирония судьбы в том, что нам это неизвестно. Начало нового русского времени есть начало большого московско-питерского спора. Москва убеждена, что Петр есть похититель Рождества – он проглотил звезду; он не царь, а крокодил. Он осмелился выдумать новое начало времени: неслыханная дерзость для Москвы. Еще он рассчитал его на немецкий манер! Нельзя, невозможно рассчитать начало. Преступно дробить его, рассыпать целое на единицы, мертвить время счетом. Питер заявляет в ответ право человеко-единицы затворять, заводить свое время. Новогодний русский спор полон огня, искр, содержания самого глубокого: но оттого наш праздник делается вдвое более праздничен, увеличен, умножен.
Феоктистов и фейерверк
В России Новогодняя революция совершилась 15 декабря 1699 года. С началом нового XVIII столетия вся страна переместилась во времени, «переехала» в Европу. (Результат – трещина, раздвоение бытия, колеблющее страну по сей день.) При этом в одном новогоднем начинании Петр оказался необыкновенно успешен: в организации новогодних огненных действ. Его фейерверки и апофеозы сразу заворожили россиян. (Он предложил им и лютерову елку; они приняли ее не сразу.) Важнее были рассыпающиеся огни, звезды, ожившие в небесах, лучистые картины и фонтаны (света); это чудо было воспринято сразу, на него все были согласны. Именно иллюминации, небесные химеры увлекли Россию в Новое время; это было путешествие неземное. Немецкие кафтаны Петра, «питие» табаку и голые подбородки были куда менее успешны.
Можно ли было увлечь Россию одной только елкой, тем более регулярным (статическим, развешанным по ветвям) устройством мира? Нет, это годно только для немцев.
Нам нужно чудо, свободный полет вне вериг пространства, нужен вакуум, годный для освоения одною лишь мечтой, далекой от всякой почвы. Там праздник.
Затеяв иллюминации (игры со звездой) в рождественские дни, Петр угадал суть новогоднего праздника. Рождественская звезда 1700 года стала архимедовой точкой, с помощью которой он перевернул Россию.
Главным героем его маскарада становилась сама долгожданная Иисусова звезда. На глазах у завороженных зрителей она умножалась в числе, вспыхивала и стреляла, витала змейкой и скакала кувырком, оборачивалась пчелкой, жаворонком (турбильоном), хлопала и с шелестом оседала невесомою волной.
Так и должен вести себя мир высший, на мгновение (праздника) отворяющийся над землей.
Мастера-фейерверкеры Петра Великого выступали, точно титаны во плоти. Стоя как будто не под небесами, а над ними, они украшали облака золотыми штрихами, иглоокими шарами, пальмами, капризами и каскадами, цифрами и венценосными буквами.
Просветители, Прометеи, закопченные, точно мавры, Михаилы-архангелы.
Одним из первых нумеров петровской огнедельной команды был Иван Феоктистов, человек-легенда, герой исполинского роста, наружности неприрученного зверя и нрава такого же. Гипнотический взгляд его сиял не хуже фугаса или саксонского солнца, устраивать каковые он был великий мастер. Именно он, Феоктистов, выходил с зажженной плошкой на голове и стреляющими коленями и локтями к осиянным множеством фонарей вратам Меньшикова дворца и запускал в небо первые ракеты и шлаги. Именно он начинал праздник, открывал (в отверстии первой звезды) Новый свет. Именно он вращал искристым факелом на веревке, зажигая по кругу новые фитили, подбрасывающие в небо громозвездные фонтаны огня. Он же по окончании апофеоза на сверкающей и лязгающей колеснице объезжал пропахшее порохом ристалище, останавливая излияние праздной плазмы. В глазах публики он был сверхчеловеком, небожителем, отчасти огненного, отчасти медного состава; говоря нынешним языком, он был истинный стармейкер, запускающий звезды в небеса и одновременно творящий звезду из самого себя.
Он был олицетворением праздника.
Десять лет Феоктистов разукрашивал небо над северной столицей, после чего был отправлен в Москву для приобщения оной к (поднебесному) просвещению.
Уже было сказано, что Москва противилась новогодним новшествам Петра.
Тут для Феоктистова сотоварищи был уже не Петербург, где подвижки в земле (плывущая бездна, болото) и в небесах (то же болото, воздушное) и само нулевое состояние города и мира располагали к неземному черчению. Нет, в Москве всякий пятьсот лет лежащий в одном и том же месте камень протестовал противу эфемерных нововведений.
В Москве команда огнеделов быстро распалась. Герои устраивали поодиночке малые праздники по частным углам и покоям. Разве что «зажигание» иллюминированных триумфальных ворот время от времени их собирало. Понемногу они успокоились, остепенились («огни» их рассыпались, погасли, осели плавною волной).
Феоктистов же был слишком ярок, чтобы так просто сдаться. Демонстративно и регулярно, фасадом непременно в улицу, а ею была Остоженка, он освещал свое пристанище, уставляя его чашками с горящим маслом и прочими из бочек и труб штуками и шутихами, чем пугал соседей до полусмерти. Впрочем, следует отметить, что с годами он их более смешил, нежели пугал. Да, питерский Прометей, человек-самострел Феоктистов смешил москвичей. К концу жизни он стал почти шутом; от часто зажигания на голове огня он сделался к тридцати годам абсолютно лыс, к тому же оглох от марсова грома, и только глаза его по-прежнему сверкали из-под асбестовых бровей. Раскоряченные колени и локти сделали его походку скаканием журавля по болоту. Мальчишки метали ему вслед снежки и скверные слова, старухи плевали за спиной и прочая и все только того и ждали, когда нечистый заберет к себе проклятого огнедея вместе с заминированным его жилищем.
Реформатор часто выглядит шутом; новое сплошь и рядом является у нас через смех (чаще сквозь слезы), а лучше бы через праздник. Те же Петровские реформы, сверкнув кометой в мглистом небе, явились в шутовской (святочной) маске и по большей части угасли, остались в тлеющем состоянии в ожидании лучших времен. Но в конце концов все же утвердились в нашей почве и дали основание новой городской культуре. Ее начало было празднично.
На границе наплывающего с запада пространства и громоздящейся с востока безмолвной волны земли образовалась смеющаяся накипь, пена городов российских.
*
25 декабря 1730 года в Москве зажглись первые уличные фонари.
*
Зажглись новые люди, новые русские «Я», хотя для некоторых из них это обернулось самосожиганием, трагедией, гибелью, не всегда геройской. Увы, Феоктистов и в самом деле сгорел, как желали того москвичи. Нет, в доме его не случилось пожара, но огонь иного рода растекся у него по жилам: огненная вода, змеево зелье охватило организм поджигателя. Он спился и умер во времена Анны Иоанновны.
Так встретилась земля с небесами: их соединила звезда в человеческом обличье. Феоктистов сверкнул и угас, но даже в падении своем обозначил нечто значительное: обнаружил двуединую природу (пьющего свет) русского человека.
1 января православная церковь вспоминает Илью Муромца; для нее это чудотворец Печерский. Илья скончался около 1188 года, монахом; похоронен в Ближних пещерах Киева. В этот же день отмечается память мученика Вонифатия. На Руси он считался целителем от пьянства. (После бурной новогодней ночи одно воспоминание о Вонифатии может оказаться спасительно.) Почему-то вместе Илья Муромец и Вонифатий напоминают мне об Иване Феоктистове.
Он весь уложился в первое мгновение Рождества.
Вскоре после его смерти, 2 января 1736 года в Петербурге в Академии наук состоялось заседание, на котором было решено учредить особую (новогоднюю) церемонию начала времени. Неким огненным знаком, подаваемым в точно отведенный момент, было предложено отмечать начало суток. Но что такое сутки? Для кого сверкать каждую полночь? Скоро знак решено было подавать шумом – выстрелом – и в полдень.
Так родилась петербургская традиция полуденного выстрела пушки со стены Петропавловской крепости. (Установилась окончательно сто лет спустя.) Петербург родится мгновенно; он верует в идеальное, разом оформленное устройство мира. Выстрел: вспыхнул огонь и осветил на секунду гравюру, на которой расчерчен по линейке неизменно-совершенный Питер. Его извлекает из небытия одиночный (единственный) выстрел пушки.
И тот же выстрел отделяет, отрывает его от Москвы.
Два Петра
Что такое это русское двоение?
Сам Петр двоится, Петр-один, Царь-Единица. По идее, он единствен. Но есть и другой Петр, или то, что в нем видит Москва, – это сущий Царь Наоборот. Для Москвы он Антихрист, «человекоед», насмешник самый жестокий.
Назначение им январского Нового года показалось москвичам выходкой нечистого. Это потом пошли фейерверки и Феоктистов гипноз. А сначала было просто воровство (времени). Вот он, главный рождественский вопрос.
Петр не просто переменил календарь, он «восемь лет у Бога украл». Новое столетие началось для Москвы по византийскому календарю в 7200 году (по нашему в 1692-м).
Стало быть, прошло восемь законных лет нового века. И вдруг их нет.
Тогда уж нужно считать по-другому, отнимать от семи тысяч двухсот «правильных» лет эти 1692 «немецких» года. Не восемь, а пять тысяч пятьсот восемь! Вот сколько лет украл у Бога антицарь, Псевдопетр (мы уже рассказывали о замене настоящего царя на стеклянного человека, в 1698 году в городе Стокгольме, Стекольном).
Сам Петр Алексеевич только добавлял пищи для ужасных слухов.
Новый год (им же и учрежденный, январский) стал для Петра лучшей сценой для непонятных проказ и шуток, которые раз от разу становились для Москвы все опаснее.
Он и в юности праздновал шумно, однако после поездки в Европу точно сорвался с горы. Рождество 7207 (1699) года первое напугало Москву всерьез. На восьмидесяти санях веселая компания во главе с царем моталась по городу, буйствуя, вламываясь в дома, требуя от хозяев соучастия в игре и бесконечных угощений.
Одного не в меру тучного сидельца потащили (в Новое время) сквозь ножки стульев; когда он не пролез, с него содрали одежду, облили помоями. Думного дворянина Мясного принялись с помощью мехов надувать через задний проход, отчего он в скором времени умер.
От такого веселья Москва оцепенела. Тот год закончился «шуткой» с календарем, когда в одно мгновение столица переместилась из 7208 года в 1700-й. После этого еще три года Петр Алексеевич в рождественские дни куролесил в Москве, точно в завоеванном городе, отыскивая только поводы для устрашения жителей.
И наконец, произвел фокус окончательный.
Столица России была перенесена в только что основанный им Санкт-Петербург. Как уже было сказано, он отобрал у Москвы рождественскую монополию на единственность (тут не одно ли слово? «монополия» и «единственность»).
Раздвоил Россию между временами, пролил в трещину округ Москвы ледяного, равнодушного пространства.
*
Москва была устрашена этим европейским пространством: внешним, счетным, равнодушным, равно-распространяемым в любую сторону. Такое пространство десакрализовало, мертвило Москву, лишая ее в собственных глазах высшего статуса единственности. Оттого для нее Петр был уже не Первый, но «Второй», тот, что не царь, но темная тень от царя. Оттого он и двоил, перефокусировал ее, перебрасывал из святого (византийского) времени в Новое, грешное, вовне – тащил, как через ножки стула.
Становится окончательно ясно, что такое для Москвы Рождество: это праздник единственности, нерасчлененности со временем. Ее рождественское ощущение прямо телесно. Звезда за пазухой, звезда есть наше тело. Время вернулось, оно в нас, мы – время (еще легче это понять лично – христианину, связывающего свет и Христово тело). Любое деление, дня ли, праздника или столицы, делается в Рождество для Москвы недопустимо.
Не оттого ли был так настойчив Петр, провоцируя Москву именно в эти дни немецкой цифрой (новой датой)? Он влек Москву в иное пространство, тащил, как акушер, щипцами, насылал на нее поджигателей Феоктистовых, освещал ее «звездное» тело извне. Сокровению Рождественки он выставлял шутихи и огненную пальбу. Это было жестокое – вполне себе праздничное действие. Титаническое: такое, где титаны бьются с богами. Мифообразующее и мирообразующее, заново сводящее время с пространством.
Новогоднее потрясение русского континуума было таково, что только спустя сто лет после Петра явился сочинитель, у которого достало (воображаемого) пространства для помещения Москвы в Новое время. Правда, для начала ему нужно было самому пережить московскую мистерию, увидеть и услышать Москву изнутри.
Звезда и звук
1824 год, Михайловское, первая зима.
…Когда и сосед от него отказался, и уже никто, кроме полицейского чина, не ходил проверять, на месте ли опальный поэт (затем добавили священника, тот не проходил далее сеней, боялся угара, и в самом деле – печка в доме была нехороша), когда не осталось никого, кроме этих двоих, Пушкин готов был повеситься. Зима с 1824-го года на 1825-й оказалась темной ямой, каких он не видал ранее. Псков запер его, как в затвор. Небо сивое, луна, точно репа. Солнце прокатывалось где-то за елями, так что ни один луч не касался дома, заснеженное озеро уходило на север, в туман и мглу, туда и взглянуть было страшно.
И вдруг этот звук. На третий день по Рождеству к нему приезжает Пущин, и мглу и туман пронизывает одним звуком, словно прокалывает небосвод иголкой. Это – колокольчик. Так, с точки звука, Пушкин начинает свой поворотный 1825 год.
Вспомним эпизод с карикатурой на Тарквиния, договорим цитату из «Нулина»: Погода становилась хуже, Казалось, снег идти хотел – Вдруг колокольчик зазвенел.
Этим звуком Пушкин заканчивает 1825 год, собирает его обратно в точку.
Теперь понятно, с чего этот год начинается: с этого же, первого, единичного звука. Год, важнейший, поворотный, оказывается помещен между двумя колокольцами: январским, пущинским, рождественским – и декабрьским, никольским, из «Графа Нулина».
В этом видна та же формула, что со светом: год рождается из точки света, Рождественской звезды и далее растет, умножаясь в числе измерений, пока не достигает летнего максимума, полноты светлого пространства, и затем сжимается обратно в точку, последнюю, гаснущую в созвездии искр в печи (в ноябре-декабре). Для поэта тот же пульс совершается в звуке: из немоты небытия, тишины, из которой только в петлю, вдруг является точка рождественского звука, нежданная, чудесная: колокольчик. Отверз слух, вынул из ушей снежные пробки. Двор, что накануне был меньше колодца, стал шире Красной площади. И со слезами, и речами, и шампанским полилось новое время. Просквозило из точки звона. Задребезжало, прерываясь, на фоне тьмы и мерзлоты. Время, звук, свет. Звезда-колокольчик осияла небеса – как тут о Боге не задуматься?
Все верно (полагаю я), звезда растет – и звук растет, умножаясь в сложности и смысле: так, очень постепенно, по праздникам к Пушкину в тот год приходит новое слово, новый звук, которого прежде он не знал.
Сам Пушкин, по рождению московит, в своей рождественской единственности есть уже точка московского «роста». Он – «Я»
Толстой – тот облако, тот «что-то», тот вся Москва.
Этот – модуль, единица звука.
*
Не составляет ли Пушкин той праздничной фигуры, что равно приемлема для Петербурга и Москвы? Он как будто равноудален от двух столиц и обе их принимает. И они обе его принимают за своего. Его сценарий 1825 года, когда он из Пскова «возвращается» в Москву, наблюдая ее через магический кристалл «Годунова», – не есть ли помещение Москвы в новое (литературное) пространство?
Рифмуя Москву, Пушкин сочиняет ее заново. Своим «Борисом Годуновым» он вовлекает Москву в сферу самообозрения, и тут – только тут – она принимает европейские правила игры, смотрит на себя извне – из пространства.
Москва становится пространством в процессе пушкинского сочинения. Пространство для Москвы – продукт, результат высокого сочинения. Сочинение и есть праздник.
Святки
Святки – это «рифма», эхо Рождества, поэтическое освоение рождественского чуда. Одновременно Святки опасны. Наше единство с временем начинает испытывать цифра, механический счет времени. Точка (звезда) испытывается протяжением, длительностью.
Это сложное упражнение для московского ума. Оно таит угрозу сомнений и хаоса, угрозу бесов (разума).
Эту сложность, эту угрозу Москва преодолевает в игре.
«По вере москвичей, Бог Отец, на радостях от рождения Сына, позволяет всякому набеситься и нарадоваться вдоволь, двенадцать дней подряд».
Все же веселились под масками (прятались от света, от Бога). Маски назывались в свое время харями. На Святки во множестве являются хари животных, песни и грубые нелепости, которые в обыкновенные дни разумный человек позволить себе не может.
«Коза, журавль и многие волки». Зверинец разрешен: дерется баба с крокодилом.
Москва с Питером, время с пространством.
Тяжелая (гнутая) работа не делается: было поверье, что в этом случае не будет приплода.
На святой вечер ткать – несчастью угождать.
Гадали, глядели: темные Святки – молочные коровы, светлые – ноские куры.
Первый блин хозяйка несла овцам.
Первое в году колядование. Пекут печенье для ряженых, певших под окном. Хозяева выходили к ним и выносили подарки и печенье. Печенье пекли в основном из ржаного теста в виде различных животных (коровок, лошадок, овечек), оно называлось козульками. Позже печеный скот вытеснили ангелы со звездами.
Ряженые – наряженки, окрутники, шеликуны, кудесники. Играют в Умруна (в покойника) – играли в смерть.
В самом деле – единица, точка света (звука), первое же мгновение жизни подвергаются испытанию тенью, тьмой, смертью. Новорожденная на праздник, единственная в своих глазах Москва подвергается испытанию холодным петербургским счетом.
Рождественский сезон распадается на две половины: на праздник и предлинную за ним тень Святых дней.
*
Святки: игра со временем, игра в самое время – тот же Петр-единица, разве он не играл со временем? Играл и принуждал играть народ (указ от 22 сентября 1722 года об общественных развлечениях как о способе «народного полирования»).
Это было насильственное, «святочное» насаждение творчества. Питие времени производилось буквально.
Уже без слова время: просто питие.
На Святки собирался всепьянейший Петров собор: князь-папа Никита Зотов, шутовские митрополиты Жировой-Засекин, Бутурлин, «духовник» царя Кузьма. С ними женское «духовное собрание» во главе с окаянной мачкой Ржевской и шутихой Анастасией Голицыной. Они так творчествовали – похмелялись после чуда Рождества.
В организации первых соборов участвовал Франц Лефорт, затем его место заняли англичане. Они активно включились в Петровы сумасбродства. У них в Немецкой слободе был собственный «великобританский монастырь».
В Святки, в перевернутые карнавальные дни что только не всплывало за столом у Стеклянного человека.
Праздник в честь Бахуса (вот вам и язычество). На жестяной митре «патриарха» нарисован Бахус верхом на винной бочке. На плаще нашиты игральные карты. Вместо панагии – фляга с вином. Вместо Евангелия книга, у которой в переплете помещены склянки с водкой, шесть штук, и четыре ветхие жестянки.
Вместо вопроса «Веруешь ли?» спрашивали «Пьешь ли?».
*
Одновременно Петр отменил коленопреклонение и обнажение головы при царе – так должно поклоняться только Творцу.
Творцу времени.
Кружева и запятые
Самое интересное (самое заманчивое, самое страшное) в Святках – это фокусы и повороты, происходящие в эти дни со временем. Время творится; новогодний циферблат оборачивается горшком с темною похлебкой, просыпанной искрами звезд. Некто мешает звезды ложкой.
Эти дни издавна рассматривались как главный пункт в наблюдении за творением времени. Двенадцать дней кулинарных приключений, рецептов и времяведческих секретов.
Земные возрасты и сроки мешаются в хаос. Вот свидетельства, приведенные в Библиотеке Дикостей (так приблизительно можно перевести заголовок некоего пестрого издания, предпринятого в Англии в середине XIX века). В эзотерических школах Междуречья и Малой Азии времен поздней Античности дни, соответствующие по календарю нашим Святкам, считались «молодильными». Время словно поворачивало вспять, учителя становились моложе учеников, древние обелиски горели на солнце, точно облитые маслом. Позднее, в средневековой Европе это вылилось в основанную на евангельском сюжете легенду о перемене возраста волхва и звездочета по имени Мельхиор, одного из трех, что отыскали младенца Христа. В эти дни из седобородого старца он делался молодым, черным и подвижным, как жук. (Алхимия повторяет эту легенду на свой лад, разворачивая ее в цепочку превращений, главным агентом которых выступает меняющая свой цвет посеребренная латунь.) Растительность, если таковая имела место, в эти дни также вела себя непредсказуемо – дерева менялись плодами (Сирия, IV век), при том одни могли вырасти в одночасье до небес и пропустить человека по ветвям на небеса – вспомним Лютера и его елку, – другие же зеленые создания (Салоники, Иония, Кипр) на глазах паломников поедали вокруг себя солнечный свет, уменьшаясь и чернея при этом, проживая жизнь в обратном порядке, пока не обращались в антрацитовое в земле отверстие: прямо на тот свет. В Святки появлялись из замочных щелей, колодцев, чуланов и прочих пятен темноты чудища, оживленные статуи и духи смутно телесные. Изливающие глазами колючий свет, суровые и всезнающие человекозвери (Англия, первая перемена тысячелетий), не имеющие полу младенцы с глазами стариков и прозрачные насквозь, зеркально похожие на всякого прохожего ледяные идолы (альпийский эпос), являющие напоказ его, прохожего, раскрытое наподобие книги сердце. Все они являлись из горшка времени, рисуя недоступные разуму точки, запятые и сгущения судьбы.
Оттуда же вылезли наши ряженые: басурмане, арапы, турки. Им было самое место в полночной тьме, согласно их ужасной угольной масти. (В XIX веке к этим традиционным фигурам почему-то прибавились гусары.)
Но главное в эти дни – гадания: заглядывание в горшок. Наивернейшие, святочные, когда заоконная тьма представляет собою разом все эпохи и щекочет взор текущая по блюдцу кофейная гуща (его – непроглядного Всевремени), в которой растворено будущее. Как будто на Святки расходились полы времени и показывалась его подкладка.
Чтобы взглянуть на нее, нужно было отвлечься от всякого земного желания, от привычной логики, от уз разума, иначе эта логика могла сказаться на результате гадания.
Главное было не помешать движению варева времени. Воск, медь, золото, проливаемые в ледяную воду или прямо в снег, подчиняясь турбуленции внешнего времени, застывали странно и многозначительно. Словно живые, слитки и слепки плясали и корчились, неся на себе отметины всеведущего эфира.
Церковь заключила эти «кулинарные» игры в рамки Святых дней. При этом с самого начала она была поставлена в положение противоречивое. С одной стороны, произвол совершаемых действий и доверие темноте были неприемлемы. Ряженые и скоморохи подверглись запретам и гонению. С другой стороны, наследуя народный строй праздников, христианство неизбежно, хотя бы отчасти, использовало привычные сюжеты, только заново их перетолковывая.
Открывающийся в створках междугодия чернейший колодец должен был наполниться должным светом. И церковь уравновесила этот провал явлением Христа. Точкой света, помеченной в небесах крестиком. (Неслучайно новогодние брожения завершаются закономерно Крещением.)
*
О творчестве, о «раздвоении» храма. Есть легенда, что некогда, еще во времена Смуты, в Святки московские граждане Байков и Воробьев принялись возводить на Девичьем поле малую копию стоящего рядом монастыря. Это не был уже обыкновенный снежный город, по нашему обыкновению разом возводимый и разрушаемый во всякий зимний праздник, но монастырь – помещение «правильного» времени.
В три дня Ново-Новодевичий сделался самым популярным местом в Москве. Его стены и башни стояли вкривь и вкось, купола топорщились безобразными наростами, а солнечные часы на стене рисовали время произвольно (тень на снегу чертилась пальцем).
Роман-календарь
Святки
Святки у Толстого в «Войне и мире» (Отрадное, январь 1812 года) – одна из лучших сцен; в ней все хронометрически (времяведчески) верно.
Начинается с Наташи, которая святочным образом тоскует по жениху. Тут впервые всерьез она начинает показывать свою власть над временем (над памятью Пьера, который в одно мгновение вспомнил все), и выясняется, наконец, кто она в самом деле, – волшебница, ведьма. От нее родятся блохи, стрекозы, кузнецы. Вокруг нее подданные, на которых можно ездить верхом и требовать невозможного – дайте мне его (жениха) скорее. Она кружит по дому, всех поочередно тревожа и бросая, и один за другим обитатели Отрадного погружаются в пучину Святок. Начинаются путешествия в воображаемом пространстве (Ма-да-гас-кар), но главное, во времени. Все мысли и разговоры об этом: что такое детство, в котором живут арап и старухи, которые катаются по ковру, как яйца; что нетрудно представить вечность и переселение душ (Соня помнит: это метампсикоза). – А я знаю наверное, что мы были ангелами, там где-то, и здесь были, и от этого все помним… Принесли петуха, за которым посылала Наташа, но не нужен петух, она сама все устроит без петуха.
Наташа принимается петь, как сирена, и слушатели тонут в волнах иного, и мать, которой она поет, думает о том, как что-то неестественное страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем. Еще бы не страшное! Так глубоко заглянуть в будущее, где смерть Андрея и страдания Наташи, – время открыто, пока поет сирена.
Вдруг набегают ряженые, «настоящие» и перебивают сирену на полуслове. Наташа в гневе: разрушено тонкое строение (времени), которое она возвела. Все приходится начинать сначала: переодеваться, собирать других и отправляться неведомо куда, будто бы в Мелюковку. Все собираются и едут, переменив одежды и состояние мужеское и женское, по волшебной равнине, облитой лунным светом, с рассыпанными по снегу звездами, и приезжают, в самом деле, неведомо куда. Какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какойто анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку». Можно ли тут узнать самого Льва Николаевича? Это писал не он. Или это написал святочный Лев Николаевич.
В этой странной Мелюковке перевернутые люди совершают зеркальные действия: ведьма Наташа гадает, веря не столько в гадания, сколько в нечаянные при этом слова; за амбаром Николай Ростов в женском платье объясняется в любви Соне, на лице которой пробкой нарисованы усы, и сам верит, и она верит в то, что он говорит (мало что она – все мы в это верим).
Наташа вся сияет: это она так наколдовала.
Ничего не она – Лев: вот кто сущий колдун; он даже не прячется, он часто говорит: Наташа это я.
За всем этим наблюдают глухая январская ночь, неподвижный холод и месяц. Свет его на снегу был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело (том II, часть IV, главы IX – XII).
Здесь все так точно рассчитано, так ясно прописан святочный переворот мира, что действительно начинаешь подозревать самого Толстого в ведовстве. Впрочем, об этом говорили многие.
Еще здесь интересны состояния воды. Вода, водить – это просто одно и то же, от этого недалеко до ведать. Цикл метаморфоз воды на севере, где треть года лежит снег, составляет особый сюжет. Перемены сезонов прямо связаны с переменами в состоянии и поведении воды и, неизбежно, с толкованием, сакрализацией этих состояний и перемен. С праздниками воды, снега, льда. Вода, снег и лед на Святки живут своей жизнью, в своем времени, где небо с землей меняются местами.
На небе черно и скучно, здесь же вода – в снегу, во льду, в «алмазах» – веселится. Бунтует. Склоняет сознание к «свободе», первородному хаосу или к языческой игре, опрокидывающей христианские запреты.
*
Зачем Толстому понадобилась эта тень, такое перевернутое, бесовское продолжение его же светлого Рождества? Одна и та же семья Ростовых: сначала на свету (встреча Николая, слияние семьи в «многажды одно») и затем с изнанки, где тот же Николай готов перевернуть свое будущее вверх ногами.
Между прочим, в этом будущем – сам Лев Толстой, ведь он, не на бумаге, а в жизни, сын «этого» Николая и Марии Волконской. В сцене Святок, где Николай делает предложение своей двоюродной сестре, Толстой, играя, отменяет самого себя (будущего), топит свое единственное «Я» в чернилах неосуществления, небытия. Почему он это делает?
Ни почему: он просто пишет Святки.
Это правда о перевернутом чуде Святок: они есть опасная игра со временем, с его поворотами и изводами судеб. Как иначе? мы так и воспринимаем рисунок времени – как рисунок наших судеб, орнамент совпадений, пересечений (романов и свадеб) и отмен, пропусков, разрывов, неосуществлений, несостоявшихся браков, неродившихся Толстых. Святки перемешивают рисунок времени, испытывают его правильность произволом играющей воды, колдовством, пением сирен и беснованием ведьм.
Народные гадания
9 января – первомученик и архидиакон Стефан
Степан колья тешет. Крестьяне ставили «охранные» колья на Красной горке и по углам двора, чтобы к избе не могли подойти ведьмы. Хозяин шестигодовалого петуха – мы еще с ним познакомимся – выносил на горку насест. (Для мягкой посадки ведьм?)
11 января – «Страшной вечер»
Звезда явлена: открыты все румбы, отовсюду веет сквозняк нового времени (произвола, свободы «Я»).
Со всех сторон грозит опасность. Молись, посылай свои «Спаси и помилуй» во все стороны.
На горку, где накануне забивали колья и вешали старые тряпки, ведунья приносит угли и все старье сжигает. Старики приносили солому, на которой спали. Зло переходило в золу. Недалеко – слова похожи.