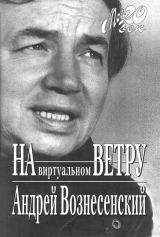
Текст книги "На виртуальном ветру"
Автор книги: Андрей Вознесенский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Таганка – антитюрьма
Когда Таганка, как театр, еще зарождалась, даже не имела своего имени (помню, как потом скопом долго подбирали ей наименование, а начальство все не разрешало ее «Таганкой» называть), ко мне на Елоховскую приехали темногривый создатель ее – Юрий Петрович Любимов и завлит Элла Левина. Он еще не был великим режиссером, но уже чувствовал свое предназначение, нетерпеливо поигрывал под курткой плечами гимнаста, привыкшего крутить «солнце» на турнике. На него опасливо косились в коридорах власти. Гости предложили мне стать автором нового театра.
Дело в том, что Любимову с его Вахтанговской студией дали помещение малоизвестного театра на Таганке. Идея приглашающих была: устроим ваш вечер «Поэт и театр», будет скандал, и публика узнает путь к театру. Я согласился читать во втором отделении, если в первом актеры будут читать за меня.
Результатом явились два сценических вечера, именовавшихся в афише «Поэт и театр». Полтора месяца репетировали. Музыку написали В. Высоцкий, В. Васильев и Б. Хмельницкий. Так родился спектакль «Антимиры», прошедший потом более 900 раз. Так первая встреча с «Таганкой» продлилась на годы. Так в мою жизнь шумно вошли В. Высоцкий, В. Смехов, В. Золотухин, А. Демидова, З. Славина, Н. Шацкая, Т. Додина, Б. Хмельницкий, Гоша Ронинсон – всех не назвать… А потом «новая волна» – Л. Филатов, Д. Боровский, Т. Сидоренко, словом, все «таганцы». Как, наверное, и я вошел в их жизнь. Неверно, что они читали «под Вознесенского» – они читали не как актеры, а как поэты.
«Антимирам» было суждено стать первым спектаклем, уверенно пошедшим на таганской сцене. Его сыграли даже раньше, чем «Десять дней…». В «Антимирах» Высоцкий впервые в жизни вышел на театральную сцену с гитарой. Каждый сотый спектакль играли особо. Мы с актерами писали новые тексты, турандотствовали после спектакля, я читал в зале новые стихи – так были впервые прочитаны «Стыд», «Оптимистический реквием по Владимиру Высоцкому», «Васильки Шагала».
Власти периодически пытались закрыть спектакль. Помню, один из юбилейных «Антимиров» пришелся на 3 февраля 1965 года. Я вышел на сцену и сказал: «Сегодня у нас особо счастливый день». Все захлопали. Я, подумав, пояснил залу: «Сегодня день рождения завлита Э. П. Левиной». Наутро директора театра Н. Л. Дупака вызвали наверх, топали ножищами на него: «Как поэт мог позволить себе сказать про счастливый день?!» Оказалось, что в этот день на Красной площади были похороны Ф. Г. Козлова, кровавого могущественнейшего временщика, второго лица в государстве.
Многие нынешние идеи гласности родились на Таганке. Зритель там был особо талантлив. Таганская нация – интеллигенция высшей пробы. Великим зрителем была молодая, мыслящая революционно интеллигенция, пытавшаяся изменить страну. Зал взрывался не только от политических острот, но и от художественных озарений. Вопреки застойным временам, создавались шедевры.
На Таганке я познакомился с Н. Р. Эрдманом, П. Л. Капицей, с молодым А. Д. Сахаровым. Правительственной ложи в зале не было. На премьере «Пушкина» я оглянулся – рядышком тесно сидели опальный А. Д. Сахаров, диссиденты, член Политбюро Полянский, космонавт, подпольный миллионер, либеральный партаппарат, светские львицы, студенты, шуршавшие «самиздатом».
Многие вещи родились, вдохновленные духом Таганки, – оп-опера «Дама Треф», «Провала прошу», «Песня о Мейерхольде», написанная к задуманному спектаклю с музыкой А. Шнитке.
Любимов мыслил нестандартно – он даже меня приглашал на роль Гамлета. Блистательным Гамлетом стал поэт Высоцкий.
На заре театра Ю. П. Любимов, вместе с министром культуры Е. А. Фурцевой и ее приближенными обходя здание, ввел ее в свой кабинет и показал на только что оштукатуренные стены: «А здесь мы попросим расписываться известных людей…»
Разрумянясь от шампанского, министр захлопала в сухие ладошки и обернулась ко мне: «Ну, поэт, начните! Напишите нам экспромт!» Получив толстенный фломастер, я написал поперек стены: «Все богини – как поганки перед бабами с Таганки!»
У Ю. П. вспыхнули искры в глазах. Министр передернулась, молча развернулась и возмущенно удалилась. Надпись потом пытались смыть губкой, но она устояла.
Впоследствии Фурцева приезжала запрещать «Кузькина». Я тогда выступил против нее, в защиту спектакля, хотя даже вход тогда в зал был строжайше запрещен – будто шла речь о водородной бомбе, а не о спектакле. Впрочем, сама Фурцева была незлым человеком – эпоха была такова.
Если «Кузькин» был, наверное, самым смелым спектаклем Таганки, то «Берегите ваши лица», второй наш спектакль, был самым красивым спектаклем-метафорой. Я уже осилил написать пьесу. Начинался спектакль заклинанием: «тьма-тьма-тьмать-мать». Из тьмы застоя вдруг рождалась творческая жизнь – «мать»…

Почти год мы репетировали, не расставались. В. Высоцкий играл главную роль – Поэта. По его желанию мы вставили «Охоту на волков» и еще одну его песню – «Ноты», написанную для этого спектакля. «Лица» прошли три раза. Потом их напрочь запретили. Меня уламывали снять «Волков». Тогда якобы будет легче отстоять спектакль. Я, конечно, на это не мог пойти. Спектакль погиб. Любимов был отстранен от работы, а когда восстановлен, то над «Лицами» продолжало висеть запрещение, ибо существовало решение горкома по спектаклю, так и не снятое.
Победы давались ценой жертв, напряжения воли. Но театр оставался веселым, праздничным. И при всех дерзких «сюрреалистических авангардных поисках», восхищавших знатоков, Таганка никогда не теряла духа площади, свободы. Не случайно в новом здании театра задняя стена за сценой распахивается прямо на улицу. Все театры начинаются с вешалки, Таганка – с площади.
Парадоксально, что шедевры Таганки созданы в годы так называемого застоя, вопреки ему, под постоянным прессом запрета. Таким же чудом, адским напряжением, кровью осуществлялись спектакли О. Ефремова, «Холстомер» Г. Товстоногова и М. Розовского, «Крутой маршрут» Г. Волчек, фильмы Тарковского, «Юнона и Авось» М. Захарова. Пресс запрета ломал судьбы, но и озарял трагизмом таланты Татьяны Самойловой, Татьяны Лавровой, Олега Даля. Лишь колдовством Воланда можно объяснить выпуск «Мастера», так же как и предшествующее опубликование книги. Казалось, стиснутый стон страны, политическая немота сублимировались в одинокие прорывы искусства. Но тайными, невидимыми капиллярами они были вместе. Так рождался стиль Любимова – зрительная метафора. Сжавши зубы, ты работала, Таганка. Капитан твой лишь два раза пропустил репетиции – один раз хоронил Твардовского, другой – мать. Даже классические работы по Достоевскому, Шекспиру, даже горьковская «Мать», «Борис Годунов» – все натыкалось на преграду. В результате на Таганке не стало Любимова.
После отъезда Ю. П. я перестал бывать на Таганке. Театр перестал быть собой, пытались изменить генетический код Таганки. Ни разу я не смог заставить себя зайти в театр, несмотря на все настойчивые приглашения. Хотя я очень ценил А. Эфроса как режиссера, мастера великого. Глупо, наверное, но ничего с собой не мог поделать. (Лишь раз, поборов себя, пришел проститься с «Мастером и Маргаритой» перед тем, как спектакль сняли, – но это я приходил к прошлому театру.) Очень больно было за актеров.
Когда ввели в культуру танки,
я не подыгрывал подлянке —
не преступал порог Таганки,
когда в ней не было Таганки.
Не корчу из себя гиганта,
но просто иначе не мог.
С новым рождением, Таганка!
Вот он, твой бог и твой порог.
Дни рождения свои таганцы справляли шумно, вся Москва собиралась. Помню, на одном из юбилеев я сдуру «на счастье» разбил огромного глиняного дымковского петуха, в другой раз купил на птичьем рынке щенка восточноевропейской овчарки и подарил его театру, чтобы он охранял от врагов.
Потом щенка этого взяла себе на воспитание А. Демидова, а когда зверь вымахал в страшенное чудовище и стал выживать ее из квартиры, подарила его кому-то в Черноголовку.
Мало кто знает, что Ю. П. сам пишет стихи. Вот один из его шедевров:
Была у меня девочка,
как белая тарелочка.
Очи – как очко.
Не разбей ее…
Л. В. Целиковская очень серчала на эти стихи, не в силах оценить поэтичность образа. Я же поддерживал смущенного стихотворца. В очередной день рождения я написал ему стихи.
Вы мне читаете, притворщик,
свои стихи в порядке бреда.
Вы режиссер, Юрий Петрович,
но я люблю Вас как поэта…
Когда актеры, грим обтерши,
выходят, истину отведав,
вы божьей милостью актеры,
но я люблю вас как поэтов…
Учи нас тангенсам – котангенсам,
таганская десятилетка.
Мы с вами, зрители Таганки.
По совокупности поэты…
Когда молчит святая лира,
заправив бензобак петролем,
вы придуряетесь под Лира.
Но вы поэт, Юрий Петрович…
И мне иное время помнится,
когда крылатей серафимов
ко мне в Елоховскую комнату
явился кожаный Любимов…
То чувство страшно потерять,
но не дождутся, чтобы где-то
во мне зарезали Театр,
а в вас угробили Поэта.
Эта особая поэтичная триада – режиссер – актеры – зрители – и называется Таганкой.
Белогривому осеннему юбиляру на его 80-летие я подарил классическую греческую амфору, которую белилами исписал стихами и в формовке которой самолично принимал участие. Авангард становится классикой.
На наших глазах рок произвел электрогитаризацию всей страны. В этом есть плюс. Процессы подключились к мировому энергетическому полю. Родилась субкультура.
Но первым гитарным театром была Таганка, и в первом своем гитарном спектакле прокричала в усилители:
Рок-н-ролл, об стену сандалии!
Ром в рот. Лица как неон.
Ревет музыка скандальная…
Рок! Рок! Sos! Sos!
Таганцы это «в рот» произносили по-русски, даже по-лагерному – рождались тематика и стиль русского рока.
Любимый сын Таганки В. Высоцкий в отличие от запстаров был деликатен в жизни. Он мог бы закатить свадьбу на Манежной площади – все равно не хватило бы мест. Помню, он подошел и торжественно-иронически произнес: «Имею честь пригласить вас на свадьбу, которая состоится 13 января 1970 года. Будут только свои». На торжестве в снятой накануне однокомнатной квартирке на 2-й Фрунзенской набережной, за один день превращенной М. В. Влади в уютное гнездышко, мы с Зоей встретили лишь Ю. Любимова, Л. Целиковскую, В. Абдулова, режиссера А. Митту с женой Люсей, изготовившей сказочно роскошный пирог. Владимир был светлогрустен, молчал, ничего не пригубил.
Зураб Церетели вспоминает, как мы с ним скинулись на несколько бутылок вина. Трудно представить, как небогаты мы все были. Потом молодожены, по приглашению Зураба, уехали в путешествие по Грузии…

Всенародный Володя
Последний раз мы встретились с ним в небе.
Была уже осень. Я летел из Сочи в Москву. Вдруг в салон вошел Высоцкий. Вероятно, он был в кабине у летчиков, но у всех было полное ощущение, что он проник на лету через иллюминатор.
Одет он был не по сезону, в шелковой тенниске.
Мы кого-то пересадили, он сел рядом.
– Володя, ты что так налегке?
– Ты знаешь, меня дочиста обчистили. Они проникли через окно, при помощи крюка. Умельцы! Вытащили все: кожаную куртку, ну и там разное. Но главное, что в куртке были ключи и от «мерседеса», и от квартиры. А я только что цельнометаллические двери поставил и замки немецкие. Открыть невозможно.
– Так что, может, переночуешь у нас, как раньше? Как же ты без ключей?
– Ничего. Я позвонил. Меня встретят специалисты.
В аэровокзале его встречали четверо темных личностей. Каждый размером со шкаф. Сразу видно – специалисты.
Он отзвонил из открытой квартиры. Это был наш последний разговор.
Именно небесностью и загадочностью судьбы он отличался среди всех таганцев.
Самым небрежно-беспечным и завороженным от гибели казался этот коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником. Он сутулился, как бегун перед длинной дистанцией.
Почти вплотную придвинувшись, почти касаясь невзрослыми ресницами, ставшее за столько лет близким, его молодое, изнуренное мыслью лицо в упор глядит на меня сквозь эту страницу. Его лоб убегает под рассыпчатую скошенную челку, в светлых глазах под усмешкой таится недосказанный вопрос, над губой прорастает русая щетина – видно, запускал усы перед очередным фильмом, – подбородок обволакивает мягкая припухлость, на напряженной шее вздулась синяя вена – отчего всегда было так боязно за него!
Попытавшийся нарисовать его с удивлением вдруг обнаружил классический античный профиль – эту скошенную по-бельведерски лобную кость, прямой крепкий нос, округлый подбородок, – но все это было скрыто, окутывалось живым обаянием, приблатненной усмешечкой и тем неприкаянным, непереводимым, трудным светом русской звезды, который отличается от легкого света поп-звезд Запада. Это была уличная античность, ставшая говорком нашей повседневности, – он был классиком московских дворов.
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…
Облазивший городские крыши, уж не угнал ли он на спор чугунную четверку с классического фронтона?
Я никогда не видел на нем пиджаков. Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстегнутые рубахи. В повседневной жизни он не лез на рожон, чаще отшучивался, как бы тая силы и голос для главного. Нас сблизили «Антимиры».
Он до стона заводил публику ненормативной лексикой в монологе Ворона. Потом для него ввели кусок, в котором он проявил себя актером трагической силы. Когда обрушивался шквал оваций, он останавливал его рукой. «Провала прошу», – хрипло произносил он. Гас свет. Он вызывал на себя прожектор, вжимал его в себя, как бревно, в живот, в кишки и на срыве голоса заканчивал другими стихами: «Пошли мне, Господь, второго». За ним зияла бездна. На стихи эти он написал музыку. Это стало потом его песней, которую он исполнял в своих концертах.
Шемякин, не разобравшись, вставил эту песню в собрание сочинений Высоцкого, как его текст.
Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.
«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», но кони несли, как несли его кони!
Он стал сегодняшней живой легендой, сюжетом людской молвы, сказкой проходных дворов. Он умыкнул французскую русую русалку, посадив ее на желтое двойное седло своей гитары.
Что сгубило его? Думаю, что, имей он возможность певать, скажем, в Лужниках, под стать размаху дарования, не будь этого душевного разлада, ни водка, ни наркота не сладили бы с ним. Умер он ночью во сне, связанный веревками. Друзья связали его, чтобы не буйствовал и отдохнул перед спектаклем. Эти тугие вервия медью отпечатались в бронзовом памятнике. Если встать лицом к памятнику его на Ваганькове, то бронзовая гитара как нимб блеснет над его головой.
Смерть его вызвала море стихов – все, даже те, кто травил его или помыкал им, кинулись воспевать его. Где они были, когда поэт хрипел, когда ему так нужно было доброе слово?
Свой «Реквием», тогда называвшийся «Оптимистический», я написал при его жизни, в семидесятом году, после того как его реанимировал Л. О. Бадалян:
Шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов…
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.
Страшно, как по-другому читается это сейчас. Ему эти стихи нравились. Он показал их отцу. Когда русалка прилетала, он просил меня читать ей их. Стихи эти долго не печатали. После того как «Высоцкий» было заменено на «Владимир Семенов», они вышли в «Дружбе народов», но, конечно, цензура сняла строфу о «мессии». Как Володя радовался публикации! Та же «Дружба народов» первой рискнула дать его посмертную подборку стихов с моим предисловием.
На десятилетии Таганки, «червонце», он спел мне в ответ со сцены:
От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец не сбит, как птица, влет.
Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андреич
Вознесенский.
И пусть второго Бог тебе пошлет…
Такая мука сейчас услышать его живой голос с пленки из бездны времен и судеб. Он никогда не жаловался, как ни доставалось ему. В поэзии он имел сильных учителей.
Другие стихи, посвященные ему, увы, написались в день его смерти. Там я назвал его поэтом: «Не называйте его бардом. Он был поэтом…» Ведь даже над гробом, даже друзья называли его бардом, не понимая, что он был великим поэтом. Стихи эти я отдал в журнал «Юность». Но уже из верстки журнала их сняла цензура, сломав и задержав номер. Цензоры не могли перенести того, что подзаборного певца называют поэтом, да еще «всенародным Володей». А ведь для них Всенародный Володя был один, который лежал в Мавзолее. Думал я, что делать, и решил пойти в «Комсомолку». Тогдашний ее главный редактор, назовем его В., любил стихи и предложил мне следующую лихую аферу.
Тогда еще газета выходила по воскресеньям, номер делали в субботу, и цензура в ней была минимальная. Подписывал рядовой цензор. В. предложил мне поставить стихи в воскресный номер, мол, все начальство пьет на даче и ничего сделать не успеет, потом, правда, утром прочитает и придет в ярость, но к вечеру опять напьется и в понедельник ничего помнить не будет.
«Может, они сами пьют под Высоцкого», – усмехнулся В.
Так по плану все и вышло. Только в понедельник Секретарь ЦК по идеологии позвонил в газету и орал по вертушке. И в итоге В. был снят.
Так и после смерти поэт остался возмутителем.
А в жизни он был тих, добр к друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе. Для театра он был вроде меньшого любимого брата, каким был для Ильи и Добрыни Алеша Попович – певец, поэт и гусляр. Он по-детски собирал зажигалки. В его коллекции лежит «Ронсон», который я ему привез из Лондона. Его все любили, что редко в актерской среде, но гибельность аккомпанировала ему – не в переносном смысле, а в буквальном.
Я не был близким его другом. Друзьями его по жизни были Шемякин, Абдулов, Золотухин, Хмельницкий, Кохановский, Бортник, Янклович. Мы дружили творчески – по-стиховому ритму, по хриплому срыву строки. Общение было без сюсюканья. Я «дох» от его «Волков» и «Коней». К «Сказкам» относился прохладнее и честно говорил ему об этом.
Когда я был под запретом, меня не печатали, я бедствовал – Володя предлагал устроить для меня частные чтения по квартирам. Такая тогда была форма интеллигентской взаимопомощи.
Ему хотелось печататься, вступить в СП. По его просьбе я отнес его рукопись в издательство. Завотделом поэзии Егор Исаев проявил широту – подписал книгу. Но директор Н. Лесючевский встал стеной: «И сам Вознесенский неподходящ, и хрипуна этого принес…»
Он часто бывал и певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выгнала меня из города. Там, на Котельнической, мы встречали Новый год под его гитару. Володя был с Люсей Абрамовой.
Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользающие жирные ломти селедки. Наливайте что Бог послал! Пахнет хвоей, разомлевшей от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих полууголовных персонажей. Гости, сметя все со стола – никто не был богат тогда, – жаждут пищи духовной.
Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.
Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям в «Обыкновенной истории» и «Обломове». Он – Моцарт плеяды, рожденной «Современником».
Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец тягот, темных времен и быта, асфальтовой Москвы.
Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.
Снежинки, залетая, таяли на плечах головокружительно красивой Людмилы Максаковой.
Безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безусому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает, как откашливается, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз…».
И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.
В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора. Двор пел голосом Высоцкого.
Когда он рванул струну, дрожь пробежала. Он пел «Эх, раз, еще раз…», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…
Это великая песня.
Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел исступленной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, горло напрягалось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перервется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий…
Золотухин вспоминал, как они с Высоцким в деревне часами разгадывали секреты моей поэтики, но магию Володиных «Коней» никому не разгадать!
Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбчивый, королевич-кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно – этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не зарезать, а зарезаться.
Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?
В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник – все в твои теперь уже вечные сорок два.
Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть подождут там, спой еще…
Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее…
На концерте в честь 850-летия Москвы я прочитал:
Живу в твоей высотке.
Пока что у Державы
нет улицы Высоцкого.
Уже есть Окуджавы.
Впрочем, и улица Окуджавы пока что имеется только в проекте постановления.








