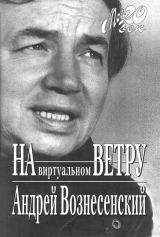
Текст книги "На виртуальном ветру"
Автор книги: Андрей Вознесенский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
…к облакам
мольбою вскинутый балкон.
Таково было мое первое публичное обсуждение. Тогда впервые кто-то третий присутствовал при его беседах со мною.
Верный убиенным Паоло и Тициану, он и меня приобщил к переводам. Для меня первым переводимым поэтом был Иосиф Нонешвили. И Грузия руками Нонешвили положила в день похорон цветы на гроб Пастернака.
Несколько раз, спохватившись, я пробовал начинать дневник. Но каждый раз при моей неорганизованности меня хватало ненадолго. До сих пор себе не могу простить этого. Да и эти скоропалительные записи пропали в суматохе постоянных переездов. Недавно мои домашние, разбираясь в хламе бумаг, нашли тетрадку с дневником нескольких дней.
Чтобы хоть как-то передать волнение его голоса, поток его живой ежедневной речи, приведу наугад несколько кусков его монологов, как я записал их тогда в моем юношеском дневнике, ничего не исправляя, опустив лишь детали личного плана. Говорил он навзрыд.
* * *
Вот он говорил 18 августа пятьдесят третьего года на скамейке в скверике у Третьяковки. Я вернулся тогда после летней практики, и он в первый раз прочитал мне «Белую ночь», «Август», «Сказку» – все вещи этого цикла.
– Вы долго ждете? – я ехал из другого района – такси не было – вот «пикапчик» подвез – расскажу о себе – вы знаете я в Переделкине рано – весна ранняя бурная странная – деревья еще не имеют листьев, а уже расцвели – соловьи начали – это кажется банально – но мне захотелось как-то по-своему об этом рассказать – и вот несколько набросков – правда это еще слишком сухо – как карандашом твердым – но потом надо переписать заново – и Гете – было в «Фаусте» несколько мест таких непонятных мне склерозных – идет идет кровь потом деревенеет – закупорка – кх-кх – и оборвется – таких мест восемь в «Фаусте» – и вдруг летом все открылось – единым потоком – как раньше когда «Сестра моя – жизнь» «Второе рождение» «Охранная грамота» – ночью вставал – ощущение силы даже здоровый никогда бы не поверил что можно так работать – пошли стихи – правда Марина Казимировна говорит что нельзя после инфаркта – а другие говорят это как лекарство – ну вы не волнуйтесь – я вам почитаю – слушайте —
А вот телефонный разговор через неделю:
– Мне мысль пришла – может быть в переводе Пастернак лучше звучит – второстепенное уничтожается переводом – «Сестра моя – жизнь» первый крик – вдруг как будто сорвало крышу – заговорили камни – вещи приобрели символичность – тогда не все понимали сущность этих стихов – теперь вещи называются своими именами – так вот о переводах – раньше когда я писал и были у меня сложные рифмы и ритмика – переводы не удавались – они были плохие – в переводах не нужна сила форм – легкость нужна – чтобы донести смысл – содержание – почему слабым считался перевод Холодковского – потому что привыкли что этой формой писались плохие и переводные и оригинальные вещи – мой перевод естественный – как прекрасно издан «Фауст» – обычно книги кричат – я клей! – я бумага! – я нитка! – а здесь все идеально – прекрасные иллюстрации Гончарова – вам ее подарю – надпись уже готова – как ваш проект? – пришло письмо от Завадского – хочет «Фауста» ставить —
– Теперь честно скажите – «Разлука» хуже других? – нет? – я заслуживаю вашего хорошего отношения но скажите прямо – ну да в «Спекторском» то же самое – ведь революция та же была – вот тут Стасик – он приехал с женой – у него бессонница и что-то с желудком – а «Сказка» вам не напоминает Чуковского крокодила? —
– Хочу написать стихи о русских провинциальных городах – типа навязчивого мотива «города» и «баллад» – свет из окна на снег – встают и так далее – рифмы такие де ля рю – служили царю – потом октябрю – получится очень хорошо – сейчас много пишу – вчерне все – потом буду отделывать – так как в самые времена подъема – поддразнивая себя прелестью отдельных кусков —
Насколько знаю, стихи эти так и не были написаны.
* * *
Часто в выборе вариантов он полагался на случай, наобум советовался. Любил приводить в пример Шопена, который, запутавшись в вариантах, проигрывал их своей кухарке и оставлял тот, который ей нравился. Он апеллировал к случаю.
Кого-то из его друзей смутила двойная метафора в строфе:
И как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты.
Он исправил: «…неустанно столетья поплывут из темноты…»
Я просил его оставить первозданное. Видно, он и сам был склонен к этому, – он восстановил строку. Уговорить сделать что-то против его воли было невозможно.
Стихи «Свадьба» были написаны им в Переделкине. Со второго этажа своей башни он услышал частушечный перебор, донесшийся из сторожки. В стихи он привнес черты городского пейзажа.
Гости, дружки, шафера
С ночи на гулянку
В дом невесты до утра
Забрели с тальянкой…
Сваха павой проплыла,
Поводя боками…
На другой день позвонил мне. «Так вот, я Анне Андреевне объяснял, как зарождаются стихи. Меня разбудила свадьба. Я знал, что это что-то хорошее, мысленно перенесся туда, к ним, а утром действительно оказалась – свадьба» (цитирую по дневнику). Он спросил, что я думаю о стихах. В них плеснулась свежесть сизого утра, молодость ритма. Но мне, студенту 50-х, казались чужими, архаичными слова «сваха», «дружки»; «шафера» аукались с «шофера». Вероятно, я лишь подтвердил его собственные сомнения. Он по телефону продиктовал мне другой вариант. «Теперь насчет того, что вы говорите – старомодно. Записывайте. Нет, погодите, мы и сваху сейчас уберем. В смысле шаферов даже лучше станет, так как место конкретнее обозначится: „Пересекши глубь двора…“»
Может быть, он импровизировал по телефону, может быть, вспомнил черновой вариант. В таком виде эти стихи и были напечатаны. Помню у редактора вызвала опасения строка: «Жизнь ведь тоже только миг… только сон…»
* * *
В первую нашу встречу он дал мне билет в ВТО, где ему предстояло читать перевод «Фауста». Это было его последнее публичное чтение.
Сначала он стоял в группе, окруженный темными костюмами и платьями, его серый проглядывал сквозь них, как смущенный просвет северного неба сквозь стволы деревьев. Его выдавало сиянье.
Потом стремительно сел к столу. Председательствовал М. М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, – Мика Морозов. Пастернак читал сидя, в очках. Замирали золотые локоны поклонниц. Кто-то конспектировал. Кто-то выкрикнул с места, прося прочесть «Кухню ведьм», где, как известно, в перевод были введены подлинные тексты колдовских наговоров. В Веймаре в архиве можно видеть, как масон и мыслитель Гете изучал труды по кабалистике, алхимии и черной магии.
Пастернак отказался читать «Кухню». Он читал места пронзительные.
Им не услышать следующих песен,
Кому я предыдущие читал…
Непосвященных голос легковесен,
И, признаюсь, мне страшно их похвал,
И прежние ценители и судьи
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.
Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.
Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье,
Или остыл мой молодой задор?
Ловлю дыханье ваше грудью всею
И возле вас душою молодею.
По мере того как читал он, все более и более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры, каким его изобразил Кирнарский. Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель – или как его там? – «царь тьмы, Воланд, повелитель времени, царь мышей, мух, жаб».
Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра…
Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.
И я прикован силой небывалой
К тем образам, нахлынувшим извне,
Эоловою арфой прорыдало
Начало строф, родившихся вчерне.
Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» – не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить, главное начиналось, «когда он – Фауст, когда – фантаст»…
Тогда верни мне возраст дивный,
Когда все было впереди
И вереницей беспрерывной
Теснились песни на груди, —
недоуменно и требовательно прогудел он репризу Поэта.
Думаю, если бы ему был дан фаустовский выбор, он начал бы второй раз не с двадцатилетнего возраста, а опять четырнадцатилетним. Впрочем, никогда он им быть и не переставал.
«Вот и все», – очнулся он, запахнув рукопись. Обсуждения не было. Он виновато, как бы оправдываясь, развел руками, потому что его уже куда-то тащили, вниз, верно в ресторан. Шторки лифта захлопнули светлую полоску неба.
* * *
В Веймаре, на родине Гете, находящийся на возвышенности крупный объем гетевского дворца неизъяснимой тайной композиции связан с крохотным вертикальным объемом домика его юности, который, как садовая статуэтка, стоит один в низине, в отдалении. В половодье воды иногда подступают к нему. Своей сердечной тягой большой дворец обращен к малому. Этот мировой закон притяжения достиг заповедной точки в композиции белого ансамбля большого Владимирского собора и находящейся в низине вертикальной жемчужины на Нерли. Когда проходишь между ними, тебя как бы пронизывают светлые токи обоюдной любви этих белоснежных шедевров, обращенных друг к другу – большого к малому.
Море мечтает о чем-нибудь махоньком,
Вроде как сделаться птичкой калибри…
Так же гигантский серый массив дома в Лаврушинском был сердечно обращен к переделкинской даче.
Через десяток лет полный перевод «Фауста» вышел в Гослите. Он подарил мне этот тяжелый вишневый том. Подписывал он книги несуетно, а обдумав, чаще на следующий день. Вы сутки умирали от ожидания. И какой щедрый новогодний подарок ожидал вас назавтра, какое понимание другого сердца, какой аванс на жизнь, на вырост. Какие-то слова были стерты резинкой и переписаны сверху.
Он написал на «Фаусте»: «Второе января 1957 года, на память о нашей встрече у нас дома 1-го января. Андрюша, то, что Вы так одарены и тонки, то, что Ваше понимание вековой преемственности счастья, называемой искусством, Ваши мысли, Ваши вкусы, Ваши движения и пожелания так часто совпадают с моими, – большая радость и поддержка мне. Верю в Вас, в Ваше будущее. Обнимаю Вас – Ваш Б. Пастернак».
Ровно за десять лет до этого, в январе 1947 года, он подарил мне первую свою книгу. Надпись эта была для меня самым щедрым подарком судьбы.
* * *
Последние годы много болел. Травля добила его.
Я навещал его в Боткинской больнице. Принес почитать «Сагу о Форсайтах». Он добросовестно прочитал и пошутил, возвращая: «Пока читаешь его, можно было свою книгу написать…»
Он написал мне из Боткинской: «Я – в больнице. Слишком часто стали повторяться эти жестокие заболевания. Нынешнее совпало с Вашим вступлением в литературу, внезапным, стремительным, бурным. Я страшно рад, что до него дожил. Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя. Но я не ждал, что ей удастся быть услышанной и признанной так скоро. Тем более я рад этой неожиданности и Вашему торжеству… Так все это мне близко…»
Тогда же, в больнице, он подарил свое фото: «Андрюше Вознесенскому в дни моей болезни и его бешеных успехов, радостность которых не мешала мне чувствовать мои мучения…»
Какой стыд охватил меня за свое здоровое сердце, ноги, лыжи, за свой возраст и ужас невозможности передать это другой, самой дорогой для меня жизни!..
Художники уходят
без шапок, будто в храм,
в гудящие угодья
к березам и дубам…
Я знал его в течение четырнадцати лет.
Сколько раз слова его подымали и спасали меня, и какая горечь, боль всегда ощущается за этими словами.
* * *
В поздних стихах его все больше становится живописи, пахнет краской – охрой, сепией, белилами, сангиной, – его тянет к запахам, окружавшим когда-то его в отцовской студии, тянет туда, где
Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще – школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху,
Мастерская отца…
Он окантовывает работы отца, развешивает их по стенам дома, причем именно иллюстрации к «Воскресенью», именно Катюшу и Нехлюдова – ему так близка идея начать новую жизнь. Он будто хочет вернуться в детство, все начать набело, сначала, задумал переписать заново весь сборник «Сестра моя – жизнь», он говорит, что точно помнит ощущения той поры, давшие импульсы к каждому стихотворению, переделывает несколько раз вещи тридцатилетней давности, не стихи переделывает – жизнь свою хочет переделать. Поэзию от жизни он никогда не отделял.
Мне четырнадцать лет…
Где столетняя пыль на Диане
И холсты…
В классах яблоку негде упасть…
Он одобрял мое решение поступить в Архитектурный, не очень-то жалуя окололитературную среду. Архитектурный находился именно там, где был когда-то Вхутемас, а наша будущая мастерская, которая потом сгорела, помещалась именно «в том крыле, где рабфак» и «где наверху мастерская отца…»
Брат его Александр Леонидович преподавал конструкции в нашем институте.
Я рассказывал ему об институте. Мы все были ошеломлены импрессионистами и новой живописью, залы которой после многолетнего перерыва открылись в Музее имени Пушкина. Это совпало с его ощущением от открытия щукинского собрания, когда он учился. За публикацию статьи о Матиссе меня, редактора курсовой стенгазеты, исключали из комсомола. «О Ма́тиссе?!» – кричал возмущенный, прибывший в институт секретарь райкома.
По правде сказать, преступление мое было не только в импрессионистах. Посреди всей газеты сверкал золотой трубач, и из его трубы вылетали ноты: «До-ре-ми-до-ре-до!..» Именно так отвечали надоевшим слушателям джазисты той поры – «А иди ты на..!»
В группе у нас был фронтовик Валера, который играл на баяне. Чистый, наивный, заикаясь от контузии, он пришел в партком и расшифровал значение наших нот. Он считал, что партия должна знать это изречение. И кроме этого, в газете было достаточно грехов.
А когда членам партии прочитали письмо, разоблачающее Сталина, Валера вышел бледный и, заикаясь, прошептал нам беспартийным: «Я Его Имя на пушке танка написал, а он блядью оказался…»
Кумиром моей юности был Пикассо. Замирая, мы смотрели документальный фильм Клузо, где полуголый мэтр фломастером скрещивал листья с голубями и лицами. Думал ли я, сидя в темной аудитории, что через десять лет буду читать свои стихи Пикассо, буду гостить в его мастерской, спать в его кровати и что́ напророчат мне на его подрамниках взбесившийся лысый шар и вскинутые над ним черные треугольники локтей?..
«Как ваш проект?» – записан у меня в дневнике пастернаковский вопрос. Расспрашивая о моем житье-бытье, он как бы возвращался туда, к началу начал.
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.
Окликая детские свои музыкальные сочинения, как бы вспомнив сказанные ему Скрябиным слова о вреде импровизации, он возвращается к своей ранней «Импровизации», вы помните?
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд.
И волны. И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливые, черные, крепкие клювы.
Может быть, как в его щемящем «пью горечь тубероз», в музыке этой, в этом «люблю вас» ему послышалась северянинская мелодия? Он молодел, когда говорил о Северянине. Рассказывал, как они юными, с Бобровым кажется, пришли брать автограф к Северянину. Их попросили подождать в комнате. На диване лежала книга лицом вниз. Что читает мэтр? Рискнули перевернуть. Оказалось – «Правила хорошего тона».
Много лет спустя директор казино «Цезарь Палас» в Лас-Вегасе, рослый выходец из Эстонии, коротко знавший Северянина, утешая меня после проигрыша, покажет тетрадь стихов, принадлежавшую его жене, вероятно, возлюбленной поэта, исписанную фиолетовым выцветшим почерком Северянина, с дрожащим нажимом, таким нелепо трепетным в век шариковых авторучек.
Вернуться в дом Россия ищет троп.
Как хороши, как свежи были розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!
Расплывшаяся, дрогнувшая буковка «х», когда-то прихлопнутая страницами, выцвела, похожая на засушенный между листами лиловато-прозрачный крестик сирени, увы, опять не пятипалый…
В игровом отеле «Цезарь Палас» нет часов, нет и окон, по которым можно бы понять время суток. Прельстительные официантки, одетые в золотые римские тоги, вкрадчиво спрашивают вас: «Сэр, у вас что сейчас – завтрак, обед или, может быть, ужин?»
Ты ласточек рисуешь на меню,
Сбивая сливки к тертому каштану.
За это я тебе не изменю
И никогда любить не перестану…
Жил наш эстонец на ранчо в нескольких милях от Лас-Вегаса. С его дочкой мы играли «в автомат». Она становилась по-матросски, подымала руку, изображая игорный автомат. Я всовывал ей в рот монетку, дергал за руку, из нее сыпался монетный дождь.
Пустой, без гроша в кармане я ходил с запредельным эстонцем по настилу за зеркальным куполом игрального зала. Зеркало было особое. Сквозь него нам, как Мефистофелю с Фаустом, была видна игровая панорама, толпились лысины и смокинги. За руками крупье следили специальные телекамеры. За нами стояли охранники с автоматами.
Так я впервые познал страсть игры под аккомпанемент северянинской мелодии. Сначала, как и в жизни, мне баснословно везло, потом, конечно, все проиграл, все свои гонорары – друзья Алена прилетели и выкупили меня из Лас-Вегаса.
Гигант-эстонец и его дочка махали мне с летного поля.
– Слышала, в Таллине открылось первое ночное казино? У тебя паспорт с собой?
Мы полетели к джинсовому морю. В чем были – в чесучовых белых прикидах. В Таллине шел ливень. В гостинице нам как оккупантам не дали места. Мелочи! Зато мы купили билеты на полуночное открытие казино.
Оставалось девять часов помокнуть. Сквозь облипший шелк просвечивал твой розовый позвоночник. Вдруг среди ливня меня окликнули. Боже мой! Это был Ян Гросс, поэт, переведший мою книгу, знакомый мне по Москве.
«Заходите!» Оставляя лужи на мраморном полу, мы поднялись в особняк. Рюмка коньяку и светская получасовая беседа. «А где вы остановились? Ах, нигде… Ах, еще девять часов до открытия?.. Ну заходите как-нибудь в другой раз…»
Еще восемь часов под ливнем. В казино нас не пустили без смокинга. Ночь до первого самолета мы провели на скамейке в аэропорту. Злые, с мокрыми ногами. Но это мелочи! Смотри, открывается утренний буфет! Небритые, заспанные пассажиры потянулись к стойке. Ты, белоснежно-красивая, с непроницаемым лицом, машинально стала в очередь. «Мелочи все это, – бодрился я, – зато как прекрасно, что мы здесь одни, на необитаемой земле, никто нас не знает…»
Тут самый небритый и отвратный оторвался от хвоста и направился к нам: «Здравствуйте…» И он назвал твое кинозвездное имя.
Очередь остолбенела. С непроницаемым лицом ты ответила неземным четко поставленным голосом: «Здравствуйте, еб вашу мать!»
Онемели. Расступились. Пошедшая пятнами буфетчица сунула нам вне очереди бутылку румынского шампанского.
Сев за столик, я спросил: «Что с тобою?» – «А что, что я такого сказала?» – «Ты сказала:…».
«Не может быть. Я думала, что я не вслух, а про себя сказала. С недосыпа, наверное».
Ваш банк, мадам!
Через неделю ты вернулась в Таллин одна, чтобы забрать забытую мной в аэропорту куртку.
Знал ли я, что вскоре вся Россия станет казино? И на площади за фигурой Пушкина замаячит надпись «Россия», затянутая матерчатым плакатом «Пушкинский», а сбоку загорится «Casino»?
«Вернуться в дом Россия ищет троп», – дай Бог, чтобы сбылись эти слова поэта.
Сколько было поэтов – от Маяковского, которого Северянин возил по России на выступления, и до Сельвинского, которые не избежали его влияния. Пастернак, гудя, показывал, как Северянин не читал, а пел свои стихи. Он называл его «Мастер».
Поздний Пастернак много работал над чистотой стиля.
В одном из своих прежних стихов он сменил северянинское «манто» на «пальто». Он переписал и «Импровизацию». Теперь она называлась «Импровизация на рояле».
Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и гогот.
Казалось, – все знают, казалось, – все могут
Кричавших кругом лебедей вожаки
И было темно, и это был пруд.
И волны; и птиц из семьи горделивой
Казалось, скорей умертвят, чем умрут
Крикливо дробившиеся переливы.
Как по-новому мощно! Стало строже по вкусу. Но что-то ушло. Может быть, художник не имеет права собственности над созданными вещами? Что, если бы Микеланджело все время исправлял своего Давида в соответствии со все совершенствующимся своим вкусом?
Художники часто отшатываются от созданного ими, считая прошлое свое греховным, ошибочным. Это говорит о силе духа, но ни в коем случае не может отменить созданий. Так было с Толстым. Такова аскеза позднего Заболоцкого. Возраст жаждет второго рождения. В 1889 году, получив приглашение участвовать в выставке «Сто лет французского изобразительного искусства», Ренуар ответил: «Я объясню вам одну простую вещь: все, что я сделал до сих пор, я считаю плохим, и мне было бы чрезвычайно неприятно увидеть все это на выставке». Этим «плохим» казались ему и зелено-розовая Самари, и жемчужная спина Анны, и «Качели» – то есть «весь Ренуар», – к счастью, он не мог уже ни уничтожить их, ни переписать в «энгровской» или новой красно-коричневой манере.
Пастернак пытался побороть прошлого Пастернака – «с самим собой, самим собой».
Жаль и знаменитой изруганной строки. Она стала притчей во языцех после сурковского разноса.
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках…
Лопатками в давней Москве называли стручки гороха. Наверное, это сведение можно было бы оставить в комментариях, как сведение о пушкинском брегете. Но, видно, критические претензии извели его, и под конец жизни строка была исправлена:
Это – слезы в стручках и лопатках…
Он был тысячу раз прав. Но что-то ушло. «Есть речи – значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно». Невозвратимо жаль ушедших строк, как жаль исчезнувших староарбатских переулков.
Вообще в его работе было много от Москвы с ее улицами, домами, мостовыми, которые вечно перестраиваются, перекраиваются, всегда в лесах.
Пастернак очень московский поэт. В нем запутанность переулков замоскворецких, Чистопрудных проходных дворов, снесенных колоколен, Воробьевых гор, их язык, этот быт, эти фортки, городские липы, эта московская манера ходить – «как всегда нараспашку пальтецо и кашне на груди».
В московские особняки
Врывается весна нахрапом…
Москва вся как бы нарисована от руки, полна живой линии, языкового просторечья, вольного смешения стилей, ампир уживается рядом с ропетовским модерном и архаикой конструктивизма (восемьсот лет, а все – подросток!), да и дома в ней как-то не строятся, а зарастают кварталы, как разросшиеся деревья или кустарники.
В отличие от Северной Пальмиры, которая вся чудодейственно образована по линейке и циркулю, с ее «постоянством геометра», классицизмом, – московская школа культуры, как и образа жизни, стихийнее, размашистей, идет от византийской орнаментальности и близка к самой живой стихии языка.
Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам,
В боярской золоченой горнице
И на Василии Блаженном.
Мэтром его был Андрей Белый – москвич по духу и художественному мышлению. Особенно он ценил сборник «Пепел». Он объяснял мне как-то, что жалеет, что разминулся с Блоком, ибо тот был в Петрограде. Впрочем, деление на поэтов московских и петербургских условно, так, например, в «Двенадцати» Блока уже гуляет «московская» струя. Детская тяга к Блоку сказывалась и в пастернаковском определении поэта. Он сравнивает его с елкой, горящей через замороженное узорами окно. Так и видишь мальчика, с улицы глядящего на елку сквозь морозное стекло…
Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.
* * *
Мы шли с ним от Дома ученых через Лебяжий по мосту к Лаврушинскому. Шел ледоход. Он говорил всю дорогу о Толстом, об уходе, о чеховских мальчиках, о случайности и предопределенности жизни. Его шуба была распахнута, сбилась набок его серая каракулевая шапка-пирожок, нет, я спутал, это у отца была серая, у него был черный каракуль, – так вот он шел легкой летящей походкой опытного ходока, распахнутый, как март в его стихотворении, как Москва вокруг. В воздухе была теплая слабость снега, предвкушение перемен.
Как не в своем рассудке,
Как дети ослушанья…
Прохожие, оборачиваясь, принимали его за пьяного.
«Надо терять, – он говорил. – Надо терять, чтобы в жизни был вакуум. У меня только треть сделанного сохранилась. Остальное погибло при переездах. Жалеть не надо…» Я напомнил ему, что у Блока в записях есть место о том, что надо терять. Это когда поэт говорил о библиотеке, сгоревшей в Шахматове. «Разве? – изумился он. – Я и не знал. Значит, я прав вдвойне».
Мы шли проходными дворами.
У подъездов на солнышке млели бабушки, кошки и блатные. Потягивались после ночных трудов. Они провожали нас затуманенным благостным взглядом.
О, эти дворы Замоскворечья послевоенной поры! Если бы меня спросили: «Кто воспитал ваше детство помимо дома?» – я бы ответил: «Двор и Пастернак».
4-й Щипковский переулок! О, мир сумерек, трамвайных подножек, буферов, игральных жосточек, майских жуков – тогда на земле еще жили такие существа. Стук консервных банок, которые мы гоняли вместо мяча, сливался с визгом «Рио-риты» из окон и стертой, соскальзывавшей лещенковской «Муркой», записанной на рентгенокостях.
Двор был котлом, общиной, судилищем, голодным и справедливым. Мы были мелюзгой двора, огольцами, хранителями его тайн, законов, его великого фольклора. Мы знали все. У подъезда стоял Шнобель. Он сегодня геройски обварил руку кипятком, чтобы получить бюллетень на неделю. Он только стиснул зубы, окруженный почитателями, и поливал мочой на вспухшую пунцовую руку. По новым желтым прохарям на братанах Д. можно было догадаться о том, кто грабанул магазин на Мытной.
Во дворе постоянно что-то взрывалось. После войны было много оружия, гранат, патронов. Их, как грибы, собирали в подмосковных лесах. В подъездах старшие тренировались в стрельбе через подкладку пальто.
Где вы теперь, кумиры нашего двора – Фикса, Волыдя, Шка, небрежные рыцари малокозырок? Увы, увы…
Иногда из соседнего двора забредал Андрей Тарковский. Семья их бедствовала. Отец оставил их с мамой, бабушкой и сестренкой Мариной. Они жили в двухэтажном домишке. Мы учились в одном классе. Он был единственным стилягой, ярким вызовом в серой гамме нашей школы. Зеленые брюки венчал оранжевый пиджак, сфарцованный у редкого тогда иностранца. По размеру он походил на пальто. Денег подрубить рукава не было. Директор собирал нас и вещал: «Дети, если вы не будете слушаться учителей, пионерскую организацию – вы вырастете как долгогривый Тарковский». С длинными его патлами не допускали к экзаменам – пришлось постричься под полубокс. Мы дружили с ним. Он единственный в классе знал о Пастернаке, что не мешало нам ценить прохаря и финки.
Незабываемо его явление к нам в девятый «В» 554-й школы. Новенький был странный. Худой. Рассеянный. Черный волос, крепкий, как конский, обрамлял бледные скулы. Он отстал на год из-за туберкулеза. Вспомнилось, как, сев верхом на свободную парту, ошарашил нас сентенцией: «В 15 лет и не иметь любовницы?!» Ни у кого из нас, оболтусов, любовниц тогда не было, но мы понимающе засопели. Голос у него был высокий, будто пел, растягивая гласные. Был он азартен. Отнюдь не паинька. Я пару раз видел его ранее во дворе, жил он в соседнем переулке, мы даже однажды играли в футбол, но познакомились лишь в школе.
Он был старше меня на год, а младше на год учился в нашей школе Саша Мень.
Мы с ним в классе были ближе других. Его сестра Марина прибегала позировать мне для акварельных портретов – у нее была ренуаровская головка. Из школы нам было по дороге. Вся грязь и поэзия наших подворотен, угрюмость недетского детства, уличное геройство, вошедшее в кровь, выстраданность так называемой эпохи культа, отпечатавшись в сетчатке его, стали «Зеркалом» времени, мутным и непонятным для непосвященных. Это и сделало его великим кинорежиссером века.
Так вот однажды мы во дворе стукали в одни ворота.
Воротами была бетонная стенка. Мяч был резиновый. На асфальте стояли лужи. Скучая по проходящей вечности, с нами играл Шка – взрослый лоб, блатной из 3-го корпуса. Во рту у него поблескивала фикса. Он уже воровал, вышел из колонии, похваляясь, что на днях в Парке им. Горького они застрелили сторожа, чтобы проверить нервы. Его боялись. И постоянно отдавали ему мяч.
Около нас остановился бледный парень, чужого двора, комплексуя своей сеткой с хлебом. Именно его я потом узнал в странном новеньком нашего класса. Чужой был одет в белый свитер, крупной, грубой, наверное, домашней вязки. Он и потом любил вязаные белые кепки и свитера. «Становись на ворота», – добродушно бросил ему Шка, фикса его вспыхнула усмешкой, он загорелся предстоящей забавой.
Андрей поставил авоську у стенки.
Своего свитера он не щадил. Он бросался в ноги. Через час свитер был не чище половой тряпки.
Да вы же убьете его, суки!
Темнеет, темнеет окрест.
И бывшие белые ноги и руки
летят, как андреевский крест.
Да они и правда убьют его! Я переглянулся с корешем – тот понимает меня, и мы выбиваем мяч на проезжую часть переулка, под грузовики. Мячик испускает дух. Совсем стемнело. Мы убежали, боясь расправы мстительного Шки.
Когда уходил он,
зажавши кашель,
двор понял, какой он больной.
Он шел,
обернувшись к темени нашей
незапятнанной белой спиной.
Лифты не работали. Главной забавой детства было, открыв шахту, пролететь с шестого этажа по стальному крученому тросу, обернув руки тряпкой или старой варежкой. Сжимая со всех сил или слегка опустив трос, вы могли регулировать скорость движения. В тросе были стальные заусенцы. На финише варежка стиралась, дымилась и тлела от трения. Никто не разбивался.
Игра называлась «жосточка».
Медную монету обвязывали тряпицей, перевязывали ниткой сверху, оставляя торчащий султанчик – как завертывается в бумажку трюфель. «Жосточку» подкидывали внутренней стороной ноги, «щечкой». Она падала грязным грузиком вниз. Чемпион двора ухитрялся доходить до 160 раз. Он был кривоног и имел ступню, подвернутую вовнутрь. Мы ему завидовали.
О, незабвенные жосточки – трюфели военной поры!..
Шиком старших были золотые коронки – фиксы, которые ставились на здоровые зубы, и жемчужины, зашитые под кожу детородного члена. Мы же довольствовались наколками, сделанными чернильным пером.
Приводы в милицию за езду на подножке были обычным явлением. Родители целый день находились на работе. Местами наших сборищ служили чердак и крыша. Оттуда было видно всю Москву, и оттуда было удобно бросить патрон с гвоздиком, подвязанным под капсюль. Ударившись о тротуар, сооружение взрывалось. Туда и принес мне мой старший приятель Жирик первую для меня зеленую книгу Пастернака…








