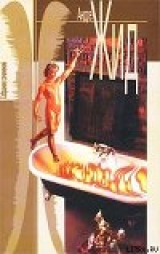
Текст книги "Подземелья Ватикана"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Вы помните, графиня, какой таинственностью осталась окружена совместная смерть эрцгерцога Рудольфа, наследного принца Астро-Венгрии, племянницы княгини Грациоли? Говорили – самоубийство! Пистолет служил только для того, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение: на самом деле оба они были отравлены. Безумно влюбленный, увы, в Марию Ветчера, кузен эрцгерцога, ее мужа, тоже эрцгерцог, не вынес того, что она стала принадлежать другому… После этого ужасного преступления Иоанн-Сальватор Лотарингский, сын Марии-Антуанетты, великой герцогини Тосканской, покинул двор своего родственника, императора Франца-Иосифа. Зная, что в Вене он разоблачен, он явился с повинной к папе, умолял его и смягчил. Он получил прощение. Но под видом покаяния Монако – кардинал Монако-Ла-Валетт – запер его в замок святого Ангела, где он томится вот уже три года.
Каноник изложил все это, почти не повышая голоса, он помолчал, затем, слегка топнув ногой:
– Это его Монако назначил главным тюремщиком Льва ХIII.
– Как? Кардинал! – воскликнула графиня. – Разве кардинал может быть франк-масоном?
– Увы, – задумчиво отвечал каноник, – Ложа сильно въелась в церковь. Вы поймете, что, если бы церковь сама могла лучше защищаться, ничего бы этого не случилось. Ложе удалось завладеть особой нашего святого отца только при участии некоторых весьма высокопоставленных сообщников.
– Но это же ужасно!
– Что я вам могу сказать другого, графиня! Иоанн-Сальватор думал, что он в плену у церкви, а он был в плену у франк-масонов. Теперь он согласен содействовать освобождению нашего святого отца, только если ему помогут в то же время бежать самому; бежать он может только очень далеко, в такую страну, откуда не может быть выдачи. Он требует двести тысяч франков.
При этих словах Валентина де Сен-При, которая начала уже отодвигаться, опустив руки, вдруг закинула голову, издала слабый стон и лишилась чувств. Каноник бросился к ней:
– Успокойтесь, графиня, – он похлопал ее по ладоням, – Что вы! – он поднес ей к ноздрям пузырек с солями: – из этих двухсот тысяч франков у нас уже есть сто сорок, – и, видя, что графиня приоткрыла один глаз: – Герцогиня де Лектур дала только пятьдесят; остается внести шестьдесят.
– Вы их получите, – едва слышно прошептала графиня.
– Графиня, церковь в вас не сомневалась.
Он встал, строго, почти торжественно; потом помолчал.
– Графиня де Сен-При, – на ваше великодушное слово я полагаюсь вполне; но подумайте о том, какими неимоверными трудностями будет сопровождена, затруднена, быть может преграждена передача этой суммы, говорю я, о вручении которой мне вы сами должны будете забыть, получение которой я сам должен быть готов отрицать, в которой я даже не в праве буду выдать вам расписку… Осторожности ради, я могу получить ее от вас только из рук в руки, из ваших рук в мои. За нами следят. Мое присутствие в замке может подать повод к разговорам. Разве мы можем быть уверены в прислуге? Подумайте о кандидатуре графа Баральуля! Возвращаться сюда мне нельзя.
И так как, произнося эти слова, он остался стоять среди комнаты, не двигаясь и не раскрывая рта, графиня поняла:
– Но, господин аббат, вы же сами понимаете, что у меня нет при себе такой огромной суммы. И я даже…
Аббат выражал нетерпение; поэтому она не решилась добавить, что ей, вероятно, потребовалось бы некоторое время, чтобы ее собрать (ибо она надеялась, что ей не придется платить все самой). Она прошептала:
– Как же быть?
И так как брови каноника становились все грознее:
– Правда, у меня здесь есть кое-какие драгоценности…
– Полноте, сударыня! Драгоценности, это – воспоминания. Вы себе представляете меня в роли старьевщика? И осторожно было бы, по-вашему, если бы я старался выручить за них возможно больше? Я рисковал бы скомпрометировать и вас лично, и все наше дело.
Его строгий голос мало-по-малу становился суровым и резким. Голос графини слегка дрожал.
– Подождите, господин каноник: я посмотрю, что у меня найдется.
Немного погодя, она вернулась. Ее рука сжимала голубые ассигнации.
– К счастью, я недавно получила арендную плату. Я могу вам передать теперь же шесть с половиною тысяч франков.
Каноник пожал плечами:
– На что они мне?
– И, с грустным пренебрежением, он благородным жестом отстранил от себя графиню:
– Нет, сударыня, нет! Этих денег я не возьму. Я возьму их только вместе с остальными. Цельные люди не размениваются. Когда вы можете вручить мне всю сумму?
– Сколько вы мне даете времени?… Неделю?.. – спросила графиня, имея в виду произвести сбор.
– Как! На вашу долю выпала несравненная честь держать в своих руках его избавление, и вы медлите! Берегитесь, сударыня, берегитесь, как бы создатель в день вашего избавления не заставил также ждать и томиться вашу слабую душу у порога рая!
Он становился грозен, ужасен; потом вдруг поднес к губам распятие своих четок и погрузился в короткую молитву.
– Но ведь я же должна написать в Париж! – в отчаянии простонала графиня.
– Телеграфируйте! Пусть ваш банкир переведет эти шестьдесят тысяч франков Поземельному кредиту в Париже, а тот телеграфирует Поземельному кредиту в По, чтобы вам немедленно выплатили деньки. Это детская игра.
– У меня в По лежат деньги, – нерешительно заметила она.
– В банке?
– Как раз в Поземельном кредите.
Тот уже совсем возмутился.
– Ах, сударыня, почему вам было не сказать мне этого прямо? Так вот каково ваше рвение! А что, если бы я теперь отверг вашу помощь?..
Затем, шагая по комнате, заложив руки за спину и как бы заранее предубежденный против всего, что он может услышать:
– Здесь больше, чем нерадивость, – и он тихонько причмокивал, как бы выражая этим отвращение, – здесь почти двоедушие.
– Господин аббат, умоляю вас…
Аббат продолжал шагать, нахмурив лоб, неумолимый. Наконец:
– Вы знакомы, я знаю, с с аббатом Буденом, у которого я как раз сегодня завтракаю, – он вынул часы, – и к которому уже опаздываю. Выпишите чек на его имя: он получит для меня эти шестьдесят тысяч и сразу же мне их передаст. Когда вы его увидите, скажите ему просто, что это было для «искупительной часовни»; это человек деликатный, корректный, и он ни о чем не будет спрашивать. Ну-с, чего вы еще ждете?
Графиня, простертая на диване, встала, изнеможденно подошла к письменному столу, раскрыла его, достала продолговатую, оливкового цвета книжку и покрыла один из листков своим длинным почерком.
– Простите, если я был немного резок с вами, графиня, – произнес аббат смягченным голосом, беря протягиваемый ему чек. – Но здесь замешаны такие интересы!
Затем, опуская чек во внутренний карман:
– Было бы нечестиво вас благодарить, не правда ли; даже именем того, в чьих руках я лишь недостойное орудие.
У него вырвалось рыдание, которое он заглушил платком; но сразу же овладев собой и упрямо топнув ногой, он быстро пробормотал какую-то фразу на иностранном языке.
– Вы итальянец? – спросила графиня.
– Испанец! Моя искренность меня выдает.
– Но не ваш акцент. Право же, вы говорите по-французски так, что нельзя…
– Вы слишком любезны. Графиня, извините, что я вас покидаю так поспешно. Благодаря нашей комбинации я могу сегодня же вечером поспеть в Нарбонну, где архиепископ ждет меня с большим нетерпением. Прощайте!
Он взял графиню за обе руки и пристально посмотрел ей в глаза, слегка откинувшись назад:
– Прощайте, графиня де Сен-При.
Затем, приложив палец к губам:
– И помните, что одно ваше слово может все погубить.
Едва он вышел, графиня бросилась к звонку.
– Амели, велите Пьеру подать коляску сразу после завтрака, чтобы ухать в город. Да, постойте… Пусть Жермен сядет на велосипед и немедленно отвезет мадам Флериссуар письмо, которое я вам дам сейчас.
И, склонясь над письменным столиком, который оставался раскрытым, она написала:
«Моя дорогая!
Я сегодня к вам заеду. Ждите меня около двух. У меня к вам очень серьезное дело. Устройте так, чтобы мы были одни».
Она подписалась, запечатала конверт и вручила его Амели.
II
Мадам Амеде Флериссуар, рожденная Петра, младшая сестра Вероники Арман-Дюбуа и Маргариты де Баральуль, носила странное имя – Арника. Филибер Петра, ботаник, довольно известный во времена второй империи своими супружескими несчастьями, еще в юности своей обещал детям, которые у него могут родиться, имена цветов. Имя Вероники, которым он окрестил первого ребенка, показалось кое-кому из его друзей несколько причудливым; но когда при имени Маргарита ему привелось слышать, будто он сдает, уступает обычаям, впадает в банальность, он заупрямился и решил наградить третий свой плод столь явно ботаническим именем, что оно заткнет рты всем злословцам.
Вскоре после рождения Арники Филибер, характер которого успел испортиться, расстался с женой, покинул столицу и поселился в По. Его супруга проводила зиму в Париже, но с началом ясных дней возвращалась в Тарб, свой родной город, куда к ней приезжали, в старый семейный дом, ее старшие дочери.
Вероника и Маргарита полгода проводили в Тарбе, полгода в По. А маленькая Арника, в загоне у сестер и у матери, простоватая, правда, и скорее трогательная, чем хорошенькая, та зиму и лето жила с отцом.
Самой большой радостью для девочки было ходить за город собирать растения; но нередко маньяк-отец, в припадке угрюмости, приказывал ей сидеть дома, отправлялся один на огромную прогулку, возвращался, не чувствуя под собою ног, и сразу же после ужина заваливался спать, не подарив дочери ни улыбки, ни слова. Когда на него находило поэтическое настроение, он играл на флейте, повторяя без конца одни и те же арии. Остальное время он тщательно выводил портреты цветов.
Старая служанка, прозванная Резедой и занимавшаяся кухней и хозяйством, смотрела за девочкой; она научила ее тому немногому, что знала сама. При таком порядке воспитания Арника в десять лет едва умела читать. Наконец, в Филибере заговорило уважение к человеку: Арнику отдали в пансион к вдове Семен, преподававшей начатки знаний дюжине девочек и нескольким маленьким мальчикам.
Арника Петра, доверчивая и беззащитная, никогда до того не подозревала, что ее имя может быть смешным.[9]9
Фамилия Peterat однозвучна, с малоизящной глагольной формой. (Прим. перев.)
[Закрыть] В день поступления в пансион она вдруг поняла его комичность; поток насмешек согнул ее, как тихую водоросль; она покраснела, побледнела, расплакалась; а мадам Семен, наказав весь класс за неприличное поведение, добилась лишь того, что незлобивый по началу взрыв веселья тотчас же окрасился недоброжелательством.
Долговязая, вялая, анемичная, растерянная, Арника стояла, свесив руки, посреди маленького класса, и когда мадам Семен указала:
– На третьей скамье слева, мадмуазель Петра, – класс разразился еще пуще, невзирая ни на какие увещания.
Бедная Арника! Жизнь казалась ей теперь унылой дорогой, обсаженной прибаутками и обидами. К счастью, мадам Семен приняла к сердцу ее невзгоды, и вскоре девочка нашла приют под вдовьим крылом.
Арника охотно оставалась в пансионе после уроков, потому что отца могло и не оказаться дома; у мадам Семен была дочь, на семь лет старше Арники, немного горбатая, но приветливая; в надежде подцепить ей мужа, мадам Семен принимала вечером по воскресеньям и даже устаивала два раза в год маленькие воскресные matinees, с декламацией и танцами; у нее бывали, из чувства признательности, некоторые прежние ее воспитанницы, в сопровождении родителей, и, от нечего делать, несколько юношей, без средств и будущего. Арника присутствовала на всех этих собраниях; неяркий цветок, скромный до безличия, но которому все же не пришлось остаться незамеченным.
Когда, четырнадцати лет, Арника лишилась отца, мадам Семен взяла сироту к себе; ее сестры, которые были значительно старше, чем она, навещали ее редко. Но именно в одну из этих коротких побывок Маргарита впервые встретилась с тем, кто два года спустя должен был стать ее мужем: с Жюлиюсом де Баральулем, которому в ту пору было двадцать восемь лет и который проводил лето у своего деда, Робера де Баральуля, поселившегося, как мы уже говорили, в окрестностях По вскоре после присоединения герцогства Пармского к Франции.
Блестящее замужество Маргариты (впрочем, эти барышни Петра были не без средств) делало для ослепленных взоров Арники ее сестру еще более далекой; она знала, что никогда никакой граф, никакой Жюлиюс не склонится над ней, вдыхая ее аромат. И еще она завидовала сестре в том, что та отделалась от этого противного имени Петра. «Маргарита» – прелестное имя. Как оно хорошо звучит рядом с «де Баральуль»! Увы, с каким мужним именем не останется смешным имя Арники!
Сторонясь действительности, ее нераспустившаяся и больно задетая душа тянулась к поэзии. В шестнадцать лет она носила падающие локоны, так называемые «repentirs», окаймлявшие ее бледное лицо, и ее мечтательные голубые глаза удивлялись рядом с черными волосами. Ее незвонкий голос не был сух; она читала стихи и сама упражнялась в стихотворстве. Она считала поэтическим все то, что уводило ее от жизни.
На вечерах у мадам Семен бывало двое молодых людей, которых нежная дружба как бы объединяла с детства; один сутулый, хоть и невысокий, не столько тощий, сколько поджарый, с волосами скорее выцветшими, нежели светлыми, с гордым носом, с робким взглядом; это был Амедей Флериссуар. Другой, полный и приземистый, с жесткими, низко растущими черными волосами, держал, в силу странной привычки, голову вечно склоненной к левому плечу, рот открытым и правую руку протянутой вперед: я описал Гастона Блафафаса. Отец Амедея был мраморных дел мастер, изготовлял надгробные памятники и торговал похоронными венками; Гастон был сын видного аптекаря.
(Это может показаться странным, но имя Blafaphas очень распространено в деревнях по отрогам Пиринеев, хоть оно и пишется по-разному. Так, в одном только местечке Ста…, где ему пришлось присутствовать на экзамене, пишущий эти строки встретил нотариуса Blaphaphas, парикмахера Blafafaz, мясника Blfphaface, которые, будучи спрошены, отрицали какую бы то ни было общность своего происхождения, причем каждый из них относился с известным презрением к именам остальных двух и к их неизящному начертанию. – Но эти филологические замечания могут интересовать лишь довольно ограниченный круг читателей.)
Чем были бы Флериссуар и Блафафас друг без друга? Это трудно себе представить. В лицее, на переменах, их всегда можно было видеть вместе; вечно изводимые, они утешали друг друга, внушали друг другу терпение, стойкость. Их называли «Блафафуарами». Их дружба казалась им единственным ковчегом, оазисом в безжалостной пустыне жизни. Стоило одному из них испытать какую-либо радость, как он немедленно стремился ею поделиться; или, вернее, для каждого из них только то было радостью, что он переживал вместе с другим.
Учась посредственно, несмотря на свое обезоруживающее усердие, и упорно не поддаваясь какой бы то ни было культуре, Блафафуары вечно были бы последними в классе, если бы не содействие Эдокса Левишона, который за небольшие одолжения исправлял их работы и даже сам писал за них. Этот Левишон был младший сын одного из крупнейших в городе ювелиров. (Двадцать лет тому назад, вскоре после женитьбы на единственной дочери ювелира Коэна, – когда в виду цветущего положения дел он покинул нижний квартал и обосновался недалеко от казино, – ювелир Альбер Леви счел желательным соединить и слить оба имени, Levy-Cohen – Levichon, подобно тому, как он соединял обе фирмы.)
Блафафас был вынослив, но Флериссуар – сложения хрупкого. С приближением возмужалости облик Гастона затенился, и казалось, растительная сила все его тело покроет волосами; между тем как более чувствительная кожа Амедея сопротивлялась, воспалялась, прыщевела, словно волос прорастал с трудом. Блафафас-отец посоветовал очищать кровь, и каждый понедельник Гастон приносил с собой в портфеле склянку противоцынготного сиропа и тайком передавал ее приятелю. Они прибегали также и к мазям.
В это самое время Амедей схватил первую простуду, – простуду, которая, несмотря на благодатный климат По, продержалась всю зиму и оставила после себя неприятную чувствительность бронхов. Для Гастона это явилось поводом для новых забот; он пичкал своего друга лакрицей, грудными ягодами, исландским мохом и эвкалиптовыми леденцами от кашля, которые Блафафас-отец изготовлял сам по рецепту одного старого кюре. Легко подверженный катарам, Амедей должен был постоянно носить на воздухе фуляр.
Амедей ни о чем ином не помышлял, как о том, чтобы пойти по стопам отца, Гастон же, хоть на вид и беспечный, не был лишен инициативы; еще в лицее он занимался разными мелкими изобретениями, правда, скорее забавного свойства: мухоловка, весы для шариков, секретный замок для парты, в которой, впрочем, хранилось не больше тайн, чем в его сердце. Сколь ни были невинны его первые технические опыты, они все же привели его к более серьезным изысканиям, которыми он занялся впоследствии и первым результатом которых явилось изобретение «гигиенической бездымной трубки для слабогрудых и прочих курильщиков», долгое время украшавшей витрину аптеки.
Амедей Флериссуар и Гастон Блафафас оба влюбились в Арнику; так было предопределено. И что удивительно, так это то, что эта зарождающаяся страсть, в которой они тотчас же признались друг другу, не только их не разлучила, но лишь теснее сблизила. Конечно, Арника, на первых порах не подавала ни тому, ни другому особых поводов к ревности. Да ни один из них и не делал ей признания; и Арника ни за что бы не догадалась об их чувстве, несмотря на то, что голос их дрожал, когда на воскресных вечеринках у мадам Семен, где они были привычные гости, она их угощала сиропом, вервеной или ромашкой. И оба, на пути домой, превозносили ее скромность и грацию, тревожились ее бледностью, смелели…
Они решили, что оба они сделают ей признание в один и тот же вечер, а затем положатся на ее выбор. Арника, впервые встретившись с любовью, возблагодарила небо в изумлении и простоте своего сердца. Она попросила обоих воздыхателей дать ей время подумать.
По правде говоря, она ни к тому, ни к другому не чувствовала особой склонности и только потому интересовалась ими, что они интересовались ею, тогда как сама она уже отказалась от надежды кого-либо заинтересовать. Целых шесть недель, все более и более затрудняясь в выборе, она тихо упивалась поклонением своих параллельных искателей. И в то время, как на своих ночных прогулках взаимно расценивая свои успехи, Блафафуары подробно рассказывали друг другу, со всей откровенностью, о малейшем слове, взгляде и улыбке, которыми «она» их наградила, Арника, уединяясь в своей комнате, исписывала листочки бумаги, которые вслед затем старательно сжигала на свечке и неустанно повторяла про себя: «Арника Блафафас?.. Арника Флериссуар?..» – не в силах решить, какое из этих имен менее ужасно.
И вдруг однажды, во время танцев, она выбрала Флериссуара; Амедей назвал ее «Арника», сделав ударение на предпоследнем слоге, так что ее имя прозвучало для нее на итальянский лад (сделал он это, впрочем, бессознательно, вероятно увлеченный роялем мадмуазель Семен, как раз в эту минуту мерно оглашавшим воздух); и это «Арника», ее собственное имя, вдруг показалось ей обогащенным неожиданной музыкой, показалось тоже способным выражать поэзию, любовь… Они сидели вдвоем в маленькой комнате рядом с гостиной, и так близко друг от друга, что Арника, изнемогая, склонила голову, тяжелую от благодарности; ее лоб коснулся плеча Амедея, и тот, торжественно, взял ее руку и поцеловал ей кончики пальцев.
Когда, возвращаясь домой, Амедей поведал другу о своем счастье, Гастон, вопреки своему обыкновению, ничего не ответил, и, когда они проходили мимо фонаря, Флериссуару показалось, что он плачет. Как ни был Амедей наивен, не мог же он, действительно, предположить, что его друг до такой крайней степени разделяет его счастье. Растерянный, смущенный, он обнял Блафафаса (улица была пустынна) и поклялся ему, что, сколь ни велика его любовь, еще более велика его дружба, что он не хочет, чтобы его женитьба хоть чем-нибудь ее умалила, и что, не желая подавать Блафафасу повода для ревности, он готов ему обещать честным словом никогда не осуществлять своих супружеских прав.
Ни Блафафас, ни Флериссуар не обладали сколько-нибудь пылким темпераментом; все же Гастон, которого его возмужалость смущала немного больше, промолчал и не возражал против обещания Амедея.
Вскоре после женитьбы Амедея Гастон, погрузившийся, утешения ради, в работу, изобрел «пластический картон». Изобретение это, казавшееся поначалу пустячным, возымело первым своим следствием укрепление ослабевшей было дружбы Левишона с Блафафуарами, Эдокс Левишон тотчас же учел выгоды, которые религиозная скульптура может извлечь из этого нового вещества, каковое он, первым делом, с замечательным предощущением возможностей, назвал «римским картоном».[10]10
«Пластический римский картон, – гласил прейскурант, – недавно изобретенный и изготовляемый по особому способу, составляющему секрет фирмы Блафафас, Флериссуар и Левишон, обладает большими преимуществами перед каменным картоном, стюковым картоном и другими аналогичными составами, применение которых ярко доказало всю их непригодность». (Следовало описание различных образцов.)
[Закрыть] Фирма Блафафас, Флериссуар и Левишон была основана.
Дело было пущено в ход с объявленным капиталом в шестьдесят тысяч франков, из коих Блафафуары скромно подписали вдвоем десять тысяч. Остальные пятьдесят великодушно вносил Левишон, не желая допускать, чтобы его друзья обременяли себя долгом. Правда, из этих пятидесяти тысяч сорок тысяч, почерпнутые из приданого Арники, были даны взаймы Флериссуаром, с погашением в течение десяти лет и из 4 1/2 процентов, – что превышает все то, на что Арника могла когда-либо рассчитывать, и оберегало небольшое состояние Амедея от крупного риска, неизбежно связанного с этим предприятием. Взамен того, Блафафуары оказывали делу поддержку своими связями и связями Баральулей, то есть, когда «римский картон» себя зарекомендовал, заручились покровительством ряда влиятельных представителей духовенства; те (не говоря уже о нескольких крупных заказах) убедили множество мелких приходов обратиться к фирме Ф.Б.Л., дабы удовлетворить все растущие религиозные потребности верующих, ибо повышающийся уровень художественного образования требовал более изящных произведений, нежели те, которыми доселе довольствовалась смиренная вера отцов. В связи с этим несколько художников, заслуживших признание церкви и привлеченных к делу «римского картона», дождались, наконец, того, что их произведения были приняты жюри на выставку Салона. Оставив Блафафуаров в По, Левишон основался в Париже, где, благодаря его талантам, предприятие в скором времени весьма расширилось.
Разве не было вполне естественно, что графиня Валентина де Сен-При задумала привлечь, через посредство Арники, фирму Блафафас и K° к тайному делу освобождения папы и что, надеясь возместить часть своих расходов, она полагалась на великое благочестие Флериссуаров? К несчастью, внеся при основании фирмы лишь незначительную сумму, Блафафуары получали весьма немного: две двенадцатых из заявленных прибылей и ровно ничего из остальных. А этого графиня не знала, ибо Арника, как и Амедей, были весьма стыдливы в отношении кошелька.








