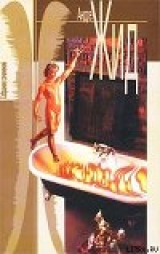
Текст книги "Подземелья Ватикана"
Автор книги: Андре Жид
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Жид Андре
Подземелья Ватикана
Жаку Копо
Книга первая
АНТИМ АРМАН-ДЮБУА
Что до меня, то мой выбор сделан. Я остановился на социальном атеизме. Этот атеизм я излагал на протяжении пятнадцати лет в ряде сочинений…
Жорж Палант. Философская хроника «Mercure de France» (декабрь 1912 г.).
I
Лета 1890, при папе Льве ХIII, слава доктора Х, специалиста по ревматическим заболеваниям, привлекла в Рим Антима Армана-Дюбуа, франк-масона.
– Как! – восклицал Жюлиюс де Баральуль, его свояк, – вы едете в Рим лечить тело! О, если бы вы поняли там, насколько тяжелее больна ваша душа!
На что Арман-Дюбуа со снисходительным состраданием ответствовал:
– Мой бедный друг, вы посмотрите на мои плечи.
Незлобивый Баральуль невольно подымал взгляд к плечам свояка; они дрожали, словно сотрясаемые глубоким, неодолимым смехом; и было поистине прискорбно видеть, как это крупное, наполовину параличное бело тратит на подобное кривляние остаток своей мышечной пригодности. Нет, что уж! Каждый, видно, оставался при своем; красноречие Баральуля здесь не могло помочь. Разве что время? Тайное воздействие святых мест… С видом безмерного сокрушения Жюлиюс говорил всего только:
– Антим, мне очень больно за вас (плечи тотчас же переставали плясать, потому что Антим любил свояка). Если бы через три года, к юбилею, когда я к вам приеду, я мог увидеть, что вы одумались!
Вероника, та ехала в совсем ином умонастроении, нежели ее супруг она была так же благочестива, как и ее сестра Маргарита и как сам Жюлиюс, и это продолжительное пребывание в Риме отвечало одному из самых заветных ее желаний; свою однообразную, неудавшуюся жизнь она загромождала мелкой церковной обрядностью и, не имея потомства, дарила идеалу всю ту заботливость, которой от нее не требовали дети. Увы, у нее не было особой надежды привести к богу своего Антима! Она давно уже знала, на какое упрямство способен этот широкий лоб, загородившийся отрицанием. Аббат Флонс ее предупреждал:
– Самые неколебимые решения, сударыня, – говорил он ей, – это дурные. Надейтесь только на чудо.
Она даже перестала печалиться. С первых же дней их поселения в Риме каждый из супругов порознь наладил свою обособленную жизнь: Вероника – занимаясь хозяйством и молитвами, Антим – научными исследованиями. Так они жили рядом, вплотную, и поддерживали друг друга, повернувшись друг к другу спиной, благодаря чему между ними царило своего рода согласие, над ними витало как бы полублагополучие, причем каждый из них находил в оказываемой другому поддержке тайное применение для своей добродетели.
Квартира, которую они сняли при посредстве агентства, обладала, подобно большинству итальянских жилищ, наряду с неожиданными достоинствами, ощутительными неудобствами. Занимая весь второй этаж палаццо Форджетти, на виа ин Лучина, она располагала весьма недурной террасой, где Вероника тотчас же задумала разводить аспидистры, которые в Париже так плохо растут в комнатах; но для того, чтобы попасть на террасу, надо было пройти через теплицу, которую антим немедленно превратил в лабораторию, условившись, что через нее он будет пропускать от такого-то до такого-то часа.
Вероника бесшумно отворяла дверь и шла крадучись, потупив взор, подобно послушнику, проходящему мимо непристойных «граффити», ибо ей претило видеть, как в глубине комнаты, выступая из кресла с прислоненным к нему костылем, огромная спина Антима склоняется над каким-то зловредным делом. Антим, со своей стороны, делал вид, будто ее не слышит. Но, как только она проходила обратно, он тяжело вставал с места, волочился к двери и раздраженно, сжав губы, повелительным движением указательного пальца – чик! – задвигал задвижку.
Близилось время, когда, через другую дверь, Беппо-добытчик должен был явиться за поручениями.
Мальчуган лет двенадцати-тринадцати, ободранный, сирота, бездомный, он попался на глаза Антиму вскоре же после его приезда в Рим. Возле гостиницы на виа ди Бокка ди Леоне, где на первых порах остановились супруги Арман-Дюбуа, Беппо привлекал внимание прохожих при помощи саранчи, спрятанной под пучком травы в камышевой мережке. Антим дал за насекомое шесть сольдо и, пользуясь своими скудными сведениями в итальянском языке, кое-как объяснил мальчугану, что на квартире, куда он завтра переезжает, на виа ин Лучина, ему скоро понадобится несколько крыс. Все, что ползает, плавает, ходит и летает, служило ему материалом. Он работал на живом теле.
Беппо, прирожденный добытчик, приволок бы капитолийского орла или львицу. Этот промысел ему нравился и отвечал его грабительским наклонностям. Ему платили по десять сольдо в день; кроме того он помогал по хозяйству. Вероника вначале косилась на него, но, увидев, что он крестится, проходя мимо мадонны, украшавшей северный угол их дома, она простила ему его лохмотья и позволила носить в кухню воду, уголь, дрова, хворост; он даже нес корзину, сопровождая Веронику на рынок по вторникам и пятницам, то есть в те дни, когда Каролина, привезенная из Парижа служанка, бывала слишком занята.
Веронику Беппо не любил; но зато он привязался к ученому, который, немного погодя, вместо того, чтобы самому с трудом спускаться во двор за принесенными жертвами, позволил мальчугану являться в лабораторию. В нее был ход прямо с террасы, которая сообщалась с двором потайной лестницей. В угрюмом уединении, сердце Антима слегка билось, когда по каменным плитам приближалось тихое шлепанье босых ножонок. Но он не подавал виду; ничто не отвлекало его от работы.
Мальчуган не стучался в стеклянную дверь: он об нее скребся; и так как Антим, согнувшись над столом, не отвечал, то он переступал порог и звонким голосом восклицал: «permesso?», наполнявшее комнату лазурью. По голосу его можно было принять за ангела; это был подручный палача. Какую новую жертву принес он в этом мешке, который он кладет на пыточный стол? Иной раз, поглощенный работой, Антим не сразу развязывал мешок; он кидал на него быстрый взгляд; если холст шевелился, он был спокоен: крыса, мышь, воробей, лягушка, – все было впору этому Молоху. Случалось, что Беппо ничего не приносил, но он все-таки входил; он знал, что Арман-Дюбуа его ждет, хотя бы с пустыми руками; и я был бы рад утверждать, что, когда молчаливый мальчуган склонялся рядом с ученым над каким-нибудь отвратительным опытом, этот ученый не испытывал тщеславной гордыни ложного бога, чувствуя, как удивленный взгляд малыша останавливается то, полный ужаса, на животном, то, полный восхищения, на нем самом.
Прежде чем взяться за человека, Антим Арман-Дюбуа хотел всего лишь свести к «тропизмам» всю деятельность наблюдаемых им животных. Тропизмы! Едва этот термин был изобретен, как все другое перестали понимать; целый разряд психологов ничего не желал знать, кроме «тропизмов». Тропизмы! Какой неожиданный свет излучало это слово! Организм явно подчинялся тем же воздействиям, что и гелиотроп, когда безвольное растение обращает свой цветок к солнцу (что легко сводится к нескольким простым физическим и термохимическим законам). Космос оказывался успокоительно бесхитростным. В самых удивительных жизненных движениях можно было установить полнейшую зависимость от действующей силы.
Для достижения своих целей, для того, чтобы принудить покоренное животное сознаться в своей простоте, Антим Арман-Дюбуа недавно изобрел сложную систему ящиков с переходами, трапами, лабиринтами, отделениями, где находились либо пища, либо ничего или же какой-нибудь чихательный порошок, с дверцами всевозможных цветов и форм – дьявольские инструменты, тотчас же прогремевшие на всю Германию под именем «Vexierkasten» и позволившие новой психо-физиологической школе сделать дальнейший шаг к неверию. И, чтобы воздействовать порознь на то или иное чувство животного, на ту или иную область мозга, он одних ослеплял, других оглушал, оскоплял их, обдирал, обезмозгливал, лишал их того или иного органа, который вы бы сочли совершенно необходимым и без которого это животное, для поучения Антима, обходилось.
Его «Сообщение об условных рефлексах» произвело переворот в Упсальском университете; разгорелись ожесточенные споры, и в них принял участие весь цвет заграничной науки. Меж тем в уме Антима роились все новые вопросы; и, оставляя коллег препираться, он направлял свои исследования по новым путям, намереваясь выбить бога из самых потаенных его окопов.
Ему мало было огульного утверждения, что всякая деятельность сопровождается изнашиванием, что, работая мышцами и чувствами, животное нечто тратит. После каждой траты он спрашивал: сколько? И, когда изнуренный пациент стремился оправиться, Антим, вместо того, чтобы его накормить, взвешивал его. Привнесение новых элементов слишком усложнило бы опыт, состоявший в следующем: на весы ежедневно клались шесть голодающих, связанных крыс; две слепых, две кривых и две зрячих; этим последним маленькая механическая мельница непрерывно утомляла зрение. Каково будет соотношение потерь после пяти дней голодовки? Каждый день, в двенадцать часов, Арман-Дюбуа заносил на особые таблички новые торжествующие цифры.
II
Близился юбилей. Арманы-Дюбуа ждали Баральулей со дня на день. В то утро, когда получена была телеграмма, сообщавшая, что они приезжают вечером, Антим пошел купить себе галстук.
Антим выходил мало: он старался делать это как можно реже, потому что двигался с трудом; Вероника сама покупала для него все необходимое или же приглашала мастеров на дом снять мерку. Антим не следил за модой; но, хотя галстук ему был нужен самый простой (скромный черный шелковый бант), он все-таки желал его выбрать сам. Серый атласный пластрон, который он купил для дороги и носил, пока жил в гостинице, постоянно выскакивал у него из жилета, как всегда, очень открытого; Маргарите де Баральуль наверное показался бы слишком затрапезным кремовый фуляр, которым он его заменил, заколов булавкой с большой старинной камеей, не представлявшей особой цены; напрасно он бросил готовые черные бантики, которые он носил в Париже, и даже не захватил с собой хотя бы одного для образца. Какие фасоны ему теперь предложат? Прежде чем выбрать, он зайдет в несколько бельевых магазинов на Корсо и виа деи Кондотти. Широкие банты для человека пятидесяти лет слишком вольны; требуется, безусловно, совершенно прямой галстук, черный и матовый…
Завтрак подавался в час. Антим вернулся со своей покупкой к полудню, чтобы успеть взвесить животных.
Не то чтобы Антим был кокетлив, но, прежде чем приступить к работе, ему захотелось примерить галстук. В комнате валялся осколок зеркала, служивший ему когда-то для вызывания тропизмов; он прислонил его к клетке и нагнулся над своим отражением.
У Антима были еще густые волосы, зачесанные ежиком, когда-то рыжие, а теперь неопределенного серовато-желтого цвета, как у старого позолоченного серебра; щетинистые брови нависли над глазами серее и холоднее зимнего неба; его высоко и коротко подстриженные баки остались рыжими, как и хмурые усы. Он провел тылом руки по своим плоским щекам, под широким, угловатым подбородком:
– Да, да, – пробормотал он, – надо будет побриться.
Он извлек из конверта галстук, положил его перед собой; вынул булавку с камеей, снял фуляр. Его мощная шея была охвачена полувысоким воротничком, открытым спереди и с отогнутыми углами. Здесь, несмотря на все мое желание излагать одно лишь существенное, я не могу умолчать о шишке Антима Армана-Дюбуа. Ибо, пока я не научусь безошибочно отличать случайное от необходимого, что я могу требовать от своего пера, как не точности и неукоснительности? В самом деле, кто мог бы утверждать, что эта шишка не имела никакого влияния, что она не оказала никакого воздействия на работу того, что Антим называл своей «свободной» мыслью? На свой ишиас он обращал меньше внимания; но этой мелочи он не прощал господу богу.
Это началось у него неизвестно как, вскоре после женитьбы; сначала появился, к юго-востоку от левого уха, там, где начинаются волосы, маленький бугорок; долгое время он скрывал этот нарост под густыми волосами, зачесывая их в этом месте прядью; даже Вероника его не замечала, пока однажды, во время ночных ласк, не нащупала его случайно рукой:
– Что это у тебя тут? – воскликнула она.
И словно опухоли, раз обнаруженной, нечего было больше сдерживаться, она через несколько месяцев достигла размеров куропачьего яйца, потом цесаркина, потом куриного, и так и осталась, а редевшие волосы расходились по сторонам и обнажали ее. В сорок шесть лет Антим мог уже не помышлять о красоте; он коротко остригся и стал носить эти полувысокие воротнички, у которых своего рода особый выем и прятал шишку, и, в то же время, выдавал ее. Но довольно об Антимовой шишке.
Он повязал шею галстуком. Посередине галстука, сквозь металлическую петельку продевалась лента и накалывалась на подвижной зубок. Хитроумное приспособление, но при первом же соприкосновении с лентой оно отскочило прочь; галстук упал на операционный стол. Пришлось обратиться к Веронике; та поспешила на зов.
– Вот, пришей-ка мне это, – сказал Антим.
– Машинная работа; ничего не стоит, – пробормотала она.
– Действительно, не держится.
Вероника всегда носила на своей домашней кофте, заколотыми под левой грудью, две иголки с продетыми нитками, белой и черной. Подойдя к стеклянной двери, даже не присаживаясь, она принялась за починку. Антим тем временем смотрел на нее. Это была довольно грузная женщина, с резкими чертами; упрямая, как и он, но, в сущности, уживчивая, почти всегда улыбающаяся, так что небольшие усики – и те не придавали ее лицу особой жесткости.
«В ней много хорошего, – думал Антим, глядя, как она шьет. – Я мог жениться на кокетке, которая бы меня обманывала, на ветренице, которая бы меня бросила, на болтушке, от которой у меня трещала бы голова, на дуре, которая бы меня выводила из себя, на ворчунье, как моя свояченица».
И не так сухо, как всегда:
– Спасибо, – сказал он, когда Вероника, окончив работу, уходила.
И вот, в новом галстуке, Антим весь ушел в свое взвешивание. Умолкли все голоса, и снаружи, и в его сердце. Он уже взвесил слепых крыс. Что это значит? Кривые крысы без перемен. Он собирается взвешивать зрячую пару. Вдруг он так резко откидывается назад, что костыль падает на пол. О удивление! Зрячие крысы… он взвешивает их еще раз; но нет, совершенно очевидно: зрячие крысы со вчерашнего дня прибавили в весе! В мозгу вспыхивает: «Вероника!»
С тяжким усилием, подобрав костыль, он кидается к двери:
– Вероника!
Она снова спешит, полная предупредительности. Тогда он, стоя на пороге, торжественно:
– Кто трогал моих крыс?
Ответа нет. Он повторяет медленно, с расстановкой, как если бы Вероника разучилась хорошо понимать по-французски:
– Пока я уходил из дому, кто-то их накормил. Это вы?
Тогда она, набравшись мужества, обращается к нему суть ли не с вызовом:
– Ты морил голодом этих несчастных животных. Я не помешала твоим опытам; я просто…
Но он хватает ее за рукав, подводит, ковыляя, к столу и, указывая на записи:
– Вы видите эти листки, где вот уже две недели я заношу свои наблюдения над этими животными: это те самые листки, которых ждет мой коллега Потье, чтобы огласить их в Академии Наук, в заседании семнадцатого мая. Сегодня, пятнадцатого апреля, что я напишу под этими столбцами цифр? Что я должен написать?..
И, так как она молчит, он продолжает, скобля чистое место на бумаге квадратным концом своего указательного пальца, как стилем:
– В этот день, госпожа Арман-Дюбуа, супруга исследователя, вняв голосу своего нежного сердца, совершила… что я, по-вашему, должен сказать – неловкость? неосторожность? глупость?..
– Напишите лучше: сжалилась над несчастными животными, жертвами нелепого любопытства.
Он с достоинством выпрямляется:
– Если вы так к этому относитесь, вы понимаете, сударыня, что на будущее время я должен просить вас ходить по дворовой лестнице возиться с вашими плантациями.
– Вы думаете, я ради своего удовольствия вхожу в вашу берлогу?
– Избавьте себя от труда входить в нее впредь.
Затем, дополняя эти слова красноречивым жестом, он хватает записи и рвет их на мелкие клочки.
Он сказал: «Вот уже две недели»; на самом деле крысы голодали всего только четвертый день. И это преувеличение обиды, должно быть, истощило его досаду, потому что за столом у него уже ясное чело; он оказывается даже до такой степени философом, что протягивает своей половине примирительную десницу. Ибо еще более, нежели Вероника, он не желает являть этой столь благомыслящей чете Баральулей зрелище раздора, каковой они не преминули бы вменить в вину образу мыслей Антима.
В пять часов Вероника сменяет домашнюю кофту на черную драповую жакетку и едет встречать Жюлиюса и Маргариту, поезд которых приходит в шесть часов. Антим идет бриться; фуляр он заменил прямым бантом; этого достаточно; он терпеть не может парада и не намерен расставаться ради свояченицы с пиджаком из альпака, белым жилетом в синюю полоску, тиковыми панталонами и удобными черными кожаными туфлями без каблуков, которые он носит даже на улице и которые простительны в виду его хромоты.
Он подбирает порванные листки, восстанавливает их по кусочкам и тщательно переписывает цифры заново, поджидая Баральулей.
III
Род Баральулей (Baraglioul, причем gl произносится как «l mouille», на итальянский лад, как в словах «Бролье» (герцог) и «мильоонер») происходит из Пармы. За одного из Баральоли (Алессандро Baraglioli) вышла замуж вторым браком Филиппа Висконти в 1514 году, несколько месяцев спустя после присоединения герцогства к церковным владениям. Другой Баральоли (тоже Алессандро) отличился в битве при Лепанто и был убит в 1580 году при загадочных обстоятельствах. Было бы нетрудно, хоть и не особенно интересно, проследить судьбы рода вплоть до 1807 года, когда Парма была присоединена к Франции и когда Робер де Баральуль, дед Жюлиюса, поселился в По. В 1828 году Карл Х пожаловал его графской короной, которую с таким достоинством носил впоследствии Жюст-Аженор, его третий сын (двое старших умерли малолетними), в посольствах, где блистал его тонкий ум и торжествовала его дипломатия.
Второй ребенок Жюста-Аженора де Баральуля, Жюлиюс, после женитьбы вполне остепенившийся, в молодости своей знавал увлечения. Но, во всяком случае, он мог сказать по справедливости, что сердца своего он не унизил ни разу. Врожденное благородство и, так сказать, нравственное изящество, сквозившее в малейших его сочинениях, всегда удерживали его порывы от того наклонного пути, по которому их наверное устремило бы его писательское любопытство. Кровь его струилась без кипучести, но не без жара, как то могли бы засвидетельствовать некоторые прекрасные аристократки… И я бы не стал говорить здесь об этом, если бы этого не давали ясно понять его первые романы, чему они отчасти и были обязаны своим большим светским успехом. Избранный состав читателей, способных их оценить, позволил им появится – одному в «Correspondant», двум другим – в «Revue des Deux Mondes». Таким образом, как бы само собой, еще молодым: он оказался созревшим для Академии; его как бы предуготовляли к ней его статность, умиленная важность взгляда и задумчивая бледность чела.
Антим выказывал великое презрение к преимуществам, связанным с общественным положением, богатством и внешностью, чем постоянно уязвлял Жюлиюса; но он ценил в нем его душевные качества и неумение спорить, благодаря которому свободная мысль нередко одерживала верх.
В шесть часов Антим слышит, как у подъезда останавливается экипаж, в котором приехали его гости. Он выходит их встречать на площадку лестницы. Первым подымается Жюлиюс. В своем плоском цилиндре и прямом пальто с шелковыми отворотами, он казался бы одетым скорее для визита, чем для дороги, если бы не шотландский плед, перекинутый через руку; длинный путь никак на нем не отразился. Маргарита де Баральуль идет следом, поддерживаемая сестрой; она, напротив, совсем растерзана, шляпка и шиньон сбились на сторону; она спотыкается о ступени, часть лица закрыта носовым платком, который она к нему прижимает… Когда она подходит к Антиму:
– Маргарите попал в глаз уголек, – шепчет Вероника.
Жюли, их дочь, миловидная девочка девяти лет, и няня, замыкая шествие, хранят унылое молчание.
Зная характер Маргариты, к этому не отнесешься шутя; Антим предлагает послать за окулистом; но Маргарита наслышана об итальянских докторишках и не соглашается «ни за что на свете»; она вздыхает умирающим голосом:
– Холодной воды. Просто немного холодной воды. Ах!
– Дорогая сестрица, – продолжает Антим, – холодная вода, действительно, принесет вам минутное облегчение, оттянув от глаза кровь; но помощи от нее не будет.
Потом, обращаясь к Жюлиюсу:
– Удалось вам посмотреть, в чем дело?
– Плохо. Когда поезд останавливался и я хотел взглянуть, Маргарита начинала нервничать…
– Как ты можешь так говорить, Жюлиюс! Ты был ужасно неловок. Чтобы приподнять веко, ты начал с того, что вывернул мне все ресницы…
– Хотите, попробую я, – говорит Антим. – Быть может, я окажусь искуснее?
Носильщик внес чемоданы. Каролина зажгла лампу с рефлектором.
– Послушай, мой друг, не станешь же ты производить эту операцию в проходе, – говорит Вероника и ведет Баральулей в их комнату.
Квартира Арманов-Дюбуа была расположена вокруг внутреннего двора, куда выходил окнами коридор, начинавшийся от вестибюля и упиравшийся в оранжерею. Вдоль этого коридора тянулись сперва столовая, затем гостиная (огромная угловая комната, плохо обставленная, которой не пользовались), две комнаты для гостей, из которых первую отвели супругам Баральулям, а вторую, поменьше, – Жюли, и, наконец, комнаты Арманов-Дюбуа. Все эти комнаты, выходя в коридор, сообщались кроме того и меж собой. Кухня и две людских находились по ту сторону лестницы.
– Я вас прошу, не стойте все около меня, – стонет Маргарита. – Жюлиюс, ты бы занялся чемоданами.
Вероника усадила сестру в кресло и держит лампу, а Антим хлопочет:
– Он, действительно, воспален. Если бы вы сняли шляпу!
Но Маргарита, боясь, быть может, что ее растрепанная прическа обнаружит свои заимствованные элементы, заявляет, что снимет шляпу потом; ее чепчик с лентами не помешает ей прислониться головой к спинке.
– Таким образом, вы приглашаете меня удалить из вашего глаза сучок, а у меня в глазу бревно оставляете, – говорит Антим с чем-то вроде усмешки. – Это, знаете, не очень-то по-евангельски!
– Ах, я вас прошу, не заставляйте меня слишком дорого платить за вашу помощь.
– Я молчу… Уголочком чистого платка… вижу, вижу… да не бойтесь же, чорт возьми! Смотрите в небо!.. вот он.
И Антим удаляет кончиком платка еле заметный уголек.
– Благодарю вас! Благодарю. Теперь оставьте меня; у меня ужасная мигрень.
Пока Маргарита отдыхает, пока Жюлиюс распаковывает с няней вещи, а Вероника следит за приготовлениями к обеду, – Антим занят Жюли, которую он увел к себе в комнату. Он помнил свою племянницу совсем маленькой и теперь с трудом узнает эту большую девочку с уже серьезной улыбкой. Немного погодя, держа ее возле себя и беседуя о всяких ребяческих пустяках, которые, по его мнению, должны ее занимать, он замечает на шее у ребенка тоненькую серебряную цепочку и чует, что на ней должны висеть образки. Нескромно поддев ее своим большим пальцем, он вытягивает ее наружу и, скрывая болезненное отвращение под личиной удивления:
– Что это за штучки такие?
Жюли отлично понимает, что вопрос шутливый; но чего бы она стала обижаться?
– Что вы, дядя? Вы никогда не видели образков?
– Признаться, никогда, моя милая, – лжет он. – Это не ах, как красиво, но, может быть, и служит к чему-нибудь.
И так как ясное благочестие не мешает невинной шаловливости, ребенок, видя у зеркала над камином свою фотографию, указывает на нее пальцем:
– А вот у вас здесь, дядя, портрет какой-то девочки, которая тоже не ах, как красива. К чему он может вам служить?
Удивленный такой лукавой находчивостью и таким проявлением здравого смысла у маленькой святоши, дядя Антим теряется. Но не может же он вступать в метафизический спор с девятилетней девочкой. Он улыбается. Малютка, немедленно воспользовавшись этим, показывает свои образки:
– Вот образок святой Юлии, моей заступницы, – говорит она, – а вот сердца Иисусова…
– А с боженькой у тебя нет образка? – нелепо перебивает ее Антим.
Ребенок спокойно отвечает:
– Нет, с боженькой не делают… А вот самый красивый: Лурдской божьей матери; мне его подарила тетя Флериссуар она привезла его из Лурда; я его надела в тот день, когда папа и мама вручили меня пресвятой деве.
Этого Антим не выдерживает. Ни на минуту не задумываясь над тем, сколько несказанной прелести в этих образах, мае месяце, белом и голубом детском шествии, он уступает маниакальному позыву к кощунству:
– Значит, пресвятой деве ты не понадобилась, раз ты еще с нами?
Малютка не отвечает ничего. Может быть, она уже понимает, что бывают наглые выходки, на которые самое умное – ничего не отвечать? К тому же – что бы это могло значить? – вслед за этим несуразным вопросом краснеет не Жюли, а сам франк-масон, – легкое смущение, невольный спутник непристойности, мимолетное волнение, которое дядя скроет, почтительно касаясь чистого лба племянницы искупительным поцелуем.
– Почему вы притворяетесь злым, дядя Антим?
Малютка говорит правду; в сущности, у этого неверующего ученого чувствительная душа.
Тогда откуда же это ярое упорство?
В эту минуту Адель отворяет дверь:
– Барыня спрашивает барышню.
Очевидно, Маргарита де Баральуль боится влияния зятя и не очень-то склонна оставлять с ним подолгу свою дочь вдвоем, – что он и решится ей сказать, вполголоса, немного спустя, когда вся семья пойдет к столу. Но Маргарита поднимет на Антима все еще слегка воспаленный глаз:
– Боюсь вас? Но, дорогой друг, Жюли успеет обратить дюжину таких, как вы, прежде чем вашим насмешкам удастся хоть сколько-нибудь отразиться на ее душе. Нет, нет, мы поустойчивее, чем вы думаете. Но все-таки не забывайте, что это ведь дитя… Она хорошо знает, каких кощунств можно ждать от такого растленного времени, как наше, и в стране, управляемой так постыдно, как наше отечество. Но грустно, что первые поводы к возмущению ей даете вы, ее дядя, которого нам бы хотелось, чтобы она училась уважать.








