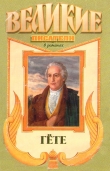Текст книги "Меип, или Освобождение"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
IV
Несмотря на то, что она возвращалась в условиях совершенно непохожих на ее первые дебюты, Друри-Лейн пугал миссис Сиддонс. Она спрашивала себя, будет ли слышен ее голос в его огромной зале, и жалела, что покинула город, где ее все любили. Чем ближе приближался спектакль, тем тревожнее становилось у нее на душе.
В назначенный день перед тем, как пойти в театр, она долго молилась. Она попросила своего почтенного старика-отца, приехавшего из провинции, проводить ее до уборной. Она одевалась в таком глубоком молчании и с таким трагическим спокойствием, что перепугала горничных, которые ей прислуживали.
С первого же акта аплодисменты и слезы зрителей ее успокоили. Мужчины восхищались ее большими бархатными глазами, длинными, изогнутыми ресницами, совершенной линией щек и подбородка, благородной округлостью груди. «Это, – говорил один из них, – самый прекрасный образец человеческой породы, который мне когда-либо встречался». Совершенство ее игры приводило их в не меньшее изумление. Нечто вроде нежного энтузиазма овладело всей публикой. Это был вечер почти божественный, когда блаженное счастье восхищения изгоняет из души на несколько часов все низменные и вульгарные чувства.
Она вернулась домой, изнемогая от усталости. Ее радость была так велика, что она не могла ни говорить, ни даже плакать. Она поблагодарила Бога, затем скромно поужинала со старым отцом и мужем. Царило почти полное молчание. Иногда у Сиддонса вырывалось глухое восклицание; иногда старый Кембл клал на стол вилку и, откидывая назад красивым театральным жестом седые волосы, соединял молитвенно руки и плакал. Скоро они расстались на ночь. Миссис Сиддонс после часового размышления и благодарственной молитвы погрузилась в приятный и глубокий сон.
Последующие спектакли доказали знатокам, что новая актриса обладала всеми достоинствами своего ремесла.
Как раньше в Бате, так теперь, здесь, стало модой смотреть молодую трагическую актрису и плакать, слушая ее. Глаза, не плакавшие в течение сорока лет, благодаря моде обрели вдруг истинные слезы. Король и королева плача присутствовали на этих трагических развлечениях своих подданных. Оппозиция плакала в партере; скептический Шеридан [41]41
ШериданРичард Бринсли (1751–1816) – английский драматург и политический оратор.
[Закрыть]вытирал глаза; даже среди актеров царило то же настроение. Два старых комедианта говорили друг другу: «Дорогой друг, неужели я так же бледен, как и вы?» Сухие глаза вызывали презрение.
Светские люди испытывали, конечно, большое любопытство и пожелали увидеть ближе особу, занявшую вдруг такое большое место в их жизни. Она отклоняла приглашения, находя удовольствие только в разучивании ролей и в своей семейной жизни. Когда она уступала настойчивым просьбам, то видела салоны, где толпы незнакомых ей людей теснились около дивана, на котором она сидела почти всегда молчаливо, в задумчивой позе.
Королевская семья оказала ей прекрасный прием. Принц Уэльский, известный своим распутством, отнесся с ней с уважением. Увидев ее, было невозможно не понять, что страстям не было места в этой душе, так владеющей собой. «Миссис Сиддонс? – сказал один повеса. – Да я скорее объяснился бы в любви кентерберийскому архиепископу!» Правда, на эту тему она никогда не задумывалась. Несмотря на то, что она усвоила себе привычку отстранять Сиддонса от своей внутренней жизни, она никогда не испытывала потребности заменить его кем-нибудь другим. Вне театра и ее ролей казалось, что единственными интересующими ее темами могут быть только дети и еда. В ее голосе звучали действительно нотки волнения, когда она говорила о черном лангфордском хлебе или ветчине, которую можно достать только в Бате. Пробсту Эдинбурга, спросившему ее с беспокойством за обедом, который давали в ее честь во время ее победоносного турне, не находит ли она говядину пересоленной, она ответила своим самым трагическим голосом: «Для меня никогда не бывает слишком солоно, милорд!» К подававшему ей лакею она обратилась тоном, достойным леди Макбет, со следующим импровизированным стихом: «Я просила пива, а вы принесли мне воды».
Ее враги всегда подчеркивали смешную сторону этой торжественности, свойственной ей в частном быту. Сам Сиддонс охотно цитировал дерзкое двустишие:
Она ласкает глаз своею красотой,
Но страх пред ней восторги умеряет.
Сиддонс был несправедлив. Его жена была способна с большой нежностью и простотой любить избранных ею друзей. В последующие годы, в течение которых ее успех не переставал возрастать, она собрала вокруг себя все, что было лучшего в современной ей Англии. Художник Рейнольдс, государственные люди, в числе их Берк и Фокс, даже сам грозный Джонсон, любили ее за спокойствие ее манер и уважали ее за безупречную жизнь. Когда кто-нибудь позволял себе усмехнуться над величественной холодностью их приятельницы, они говорили: «Она бережет для своего искусства всю силу своих чувств».
Суждение верное лишь наполовину. Мать брала в ней верх над актрисой. Ее привязанность к детям без бурных проявлений, без сентиментальности была движущей силой всей ее жизни.
У ее дочерей Салли и Марии было благодаря ей очень приятное детство. Они чувствовали себя окруженными ореолом. Актеры, литераторы, принцы приносили им подарки. Между посетителями, которым они оказывали предпочтение, находился и молодой Томас Лоуренс, приехавший из Бата в Лондон.
Он стал очень красив. Хорошенькие женщины, позировавшие ему, любовались его длинными каштановыми локонами, спадавшими на его очаровательное лицо. Им нравился также таинственный тон, с которым он говорил даже о пустяках. Это придавало его словам интимный характер, разгонявший их тоскливое настроение. Он был очень мил и осыпал их наилюбезнейшими комплиментами; у него были многочисленные приключения; он зарабатывал массу денег и еще больше их тратил. Благоразумная, целомудренная, набожная миссис Сиддонс относилась к нему с бесконечной снисходительностью. Быть может, она таила по отношению к нему бессознательную благодарность за страстное и скрытое поклонение, которое он всегда выказывал ее красоте. Глядя иногда на него, выслушивая, что о нем говорят, она думала о прекрасном падшем ангеле Мильтона, удивлявшем ее в детстве.
Мужчины были менее снисходительны. Многие упрекали его в принужденности манер, за чрезмерной корректностью которых чувствовался парвеню [42]42
Парвеню(франц. parvenu) – выскочка, человек незнатного происхождения, пробившийся в аристократическое общество и подражающий аристократам (устаревшее).
[Закрыть]. Постоянная, как бы застывшая на лице улыбка раздражала знатных англичан, всегда немного сухих по характеру. «Он не может быть джентльменом, – говорили они, – больше трех часов подряд». Аккуратное совершенство его портретов, по их мнению, было явлением того же порядка. Подобно слишком рано созревшим девушкам, принимающим ухаживание, прежде чем они начинают разбираться в чувствах и превращающимся в кокеток утомленных и опасных, гениальное дитя проводит жизнь, заигрывая со своим искусством. Оно обладает даром изображения, прежде чем у него есть что изображать. Публика, забавляясь контрастом между молодостью и мастерством, требует постоянного проявления чисто внешней умелости. Дитя-художник, предаваясь слишком усиленной деятельности, не имеет возможности изучать жизнь. Его искусство изощряется в пустом пространстве. От этого меняется весь характер. Легкость успеха препятствует проникнуть в душу чему-нибудь глубокому. Вместо страсти в ней появляется тираническая гордость.
В то время Лоуренс был слишком молод, чтобы отдавать себе во всем отчет. И все-таки, когда восхищенные женщины хвалили изящество его пастелей, некоторые старые ворчливые знатоки бормотали: «Он изображает только оболочку».
Он проводил почти все свободное время в доме Сиддонсов, где он был любимым товарищем обеих девочек. Он рассказывал им истории и рисовал для них картинки. Его изысканная учтивость льстила их самолюбию. «Право, – думали они, – Лоуренс самый любезный человек на свете».
В 1790 г., по совету Джона Кембла, сохранившего приятное воспоминание о своем французском воспитании, Салли и Мария были посланы в Кале для завершения образования. Некоторые пессимисты говорили, правда, что Франция была охвачена революцией, но дипломаты, друзья миссис Сиддонс, утверждали, что движение это не имело никакого значения.
V
Когда упали первые головы, и несколько англичан, хорошо осведомленных об иностранных делах, сказали, что волнение французов, которому сначала никто не придавал значения, может стать кровавым, Сиддонсы переехали пролив и привезли своих дочерей домой. Пока Париж, следуя по непреодолимой кривой, переходил от Мирабо к Робеспьеру, – эти девочки превратились в женщин.
Восемнадцатилетняя Салли унаследовала всю красоту своей матери, ее правильные черты, нос Кемблов, темно-бархатные глаза и, главным образом, манеры, решительные и мягкие, придававшие облику миссис Сиддонс нечто столь привлекательное. Мария была на четыре года моложе сестры; она обладала угловатой и дикой грацией своего возраста, прекрасными глазами и необычайной живостью. Обе отличались хрупким здоровьем, и это причиняло беспокойство их матери, так как болезни легких часто встречались в семье ее мужа.
Их дом, как и раньше, посещали принцы и артисты; Лоуренс пришел сейчас же повидать своих приятельниц. Красота Салли его поразила; он находил в ней то единственное в своем роде совершенство линий и форм, к которому он был столь чувствителен и которое так трогало его в миссис Сиддонс, когда ей было двадцать лет. Он проводил целые вечера, глядя на Салли с восторгом. Да и она сама почувствовала, как в ней пробуждается ее прежнее восхищение им. Как только он попросил ее руки, она радостно дала свое согласие. Это было искреннее дитя, серьезное и доброе; она не признавала комедии притворства, в которой находят удовольствие более вульгарные существа.
Миссис Сиддонс, подруга и поверенная своих дочерей, узнала на следующий же день о предложении Лоуренса и об ответе Салли. Она не могла отрешиться от некоторого беспокойства. Она знала Лоуренса в течение десяти лет и понимала, каким изменчивым и буйным стал его характер. Талантливому человеку приходится часто наталкиваться в своей жизни на снисходительность, оказываемую обыкновенно тиранам; его капризы исполняются; закон не препятствует его фантазии; его жене, его любовнице надо обладать героическим самоотвержением. Под вечной улыбкой Лоуренса скрывалась душа эгоистичная и требовательная.
Но миссис Сиддонс была такого высокого мнения о качествах своей дочери, что она считала ее способной руководить даже этим прихотливым характером. В Салли сочетались глубокая серьезность с самой очаровательной веселостью. Она была совершенна, и ее мать, глядя на нее, вспоминала некоторые женские типы Шекспира, степенные и вместе с тем очаровательно ребячливые. Она согласилась на этот брак, но, отдавая себе отчет в молодости Салли и считая в то же время необходимым испытать прочность чувства Лоуренса, она потребовала, чтобы свадьба была отложена надолго и чтобы в течение некоторого времени Сиддонс не был посвящен в это событие. Она привыкла оберегать и свою жизнь и жизнь дочерей от довольно плоских комментариев своего мужа.
Благодаря покровительству миссис Сиддонс обрученные могли видеться довольно часто. Они совершали вместе длинные прогулки по садам и паркам Лондона. Иногда Салли посещала ателье Лоуренса, набрасывавшего с нее тысячи эскизов.
Мария, проводившая до сих пор все свое время в обществе сестры, теперь часто находилась в одиночестве. Она глядела на счастье Салли с довольно смутным душевным чувством. Она больше чем кто-либо сознавала всю красоту и глубину характера своей сестры, она нежно ее любила, но не могла удержаться, чтобы не позавидовать ее победе над человеком, которого они обе с раннего детства считали неподражаемым. В течение нескольких месяцев в ней произошла поразительная перемена; при сравнении с божественным совершенством своей матери и сестры она удивляла чем-то диким и страстным, чего не хватало, быть может, тем двум женщинам.
Есть нечто опьяняющее для молодой девушки в упоении собственным очарованием. Она – переходит внезапно от темной незначительности детства к сознанию безграничной власти. Она приводит в смущение самых сильных мужчин. Она чувствует, что одним лишь словом, одним жестом она может заставить их побледнеть. В этом заключалось наслаждение, и как только Мария познала его, она почувствовала, что никогда не захочет от него отказаться. Ее не сдерживало, как ее сестру, глубокое моральное и религиозное чувство. Она мало размышляла; у нее были движения молодого животного, игривого и задорного. Когда ее мать хотела говорить с ней о предметах серьезных или возвышенных, то она какой-нибудь лаской искусно отделывалась от этих бесед; она была легкомысленна, очаровательна и неспособна к жертвам.
Ах, как ей хотелось испытать свою власть над Лоуренсом! По некоторым совершенно неприметным признакам ей казалось, что он поддался бы ей. Салли, неосторожная, слишком ясно давала понять, как любит она этого ужасного человека, не выносившего отсутствия препятствий. Поцелуи, которые она ему разрешала, стали для него уж слишком обычными и порождали в нем разочарование. Художник, страстный поклонник женской красоты, ощущал восхитительное удовольствие, наблюдая за лицом этой юной девушки и пробуя рассмотреть в легких, незаметных движениях облик ребенка. Он хотел бы запечатлеть на полотне ее живую и нежную грацию. Он часто говорил, что большим достижением для него было бы умение изобразить румянец стыдливости, выступавший порой на щеках молодых девушек, но он признавался, что ни один художник не мог еще этого достичь.
Несколько раз он просил свою невесту взять Марию с собой на прогулку, и Салли в простоте душевной охотно соглашалась на это, а Мария принимала приглашение с радостью, молчаливой и тревожной. Ее наивная хитрость возбуждала любопытство Лоуренса. Казалось, что искусство кокетства, столь чуждое Салли, было у Марии естественным и как бы врожденным. Салли, отдав свое сердце, желала только счастья своему возлюбленному. Мария предлагала, как бы играя, тысячи ласк, в которых она потом отказывала, внезапно оскорбленная жестами, ею же самой вызванными. Лоуренс, мастер кокетства, увлекался этой игрой. Эти новые актеры драмы постепенно низводили Салли к роли зрительницы, снисходительной и наивной. В течение долгого времени она не замечала, что любовь, подготовляющая мизансцены, дьявольские и фантастичные, отобрала у нее ее роль.
И вскоре бессознательное сообщничество соединило Лоуренса и Марию. Во многом их вкусы сходились и противоречили тому, что нравилось Салли. Она любила простые платья, классические, не бросавшиеся в глаза формы. Лоуренс и Мария не чуждались необыкновенного, и им доставляло удовольствие вызывать у людей изумление. Оба жаждали роскоши, пышных приемов, салонов; Салли мечтала о маленьком домике, детях, о тесном кружке избранных друзей. Она не стремилась к деньгам и хотела, чтобы Лоуренс писал каждый год лишь несколько совершенных по своей законченности портретов. Мария же, скорее, поощряла природное влечение молодого художника к блестящим портретам, быстро выполненным, хорошо оплачиваемым. Несмотря на то, что Салли была от природы сдержанна и старалась не касаться никогда самого сокровенного, ей каждый раз приходилось вступать в споры со своим женихом. Мария, не имея на этот счет определенного намерения, переводила всегда беседу на темы, столь опасные для счастья своей сестры и столь выигрышные для нее самой.
Лоуренс стал нервным, раздражительным, резким. По отношению к Салли он выказывал иногда невероятную жестокость. Он себя упрекал потом за это. «Право, – говорил он себе, – я сошел с ума! У нее нет ни одного недостатка. Но как могу я допустить, чтобы та, другая, ускользнула от меня?» Он, как почти все мужчины его породы, ревновал всех женщин. Стремление к обладанию безграничному и многократному главным образом и вызывало его нерешительность в выборе. Но он был готов скорее отказаться от Салли, чем от Марии, так как был убежден в своей власти над старшей сестрой. Любовь Салли была способна перенести измену, и эта уверенность для такого человека, как Лоуренс, усугубляла желание изменить.
Однако эти чувства были настолько неопределенны, что он не осмеливался признаться в них даже самому себе. В минуты просветления он себя строго осуждал и, стоя перед зеркалом, смотрел на себя без всякого снисхождения взглядом, привыкшим разбирать чужие лица. «Да, – думал он, – что-то решительное есть в губах и подбородке, но эта решительность, не обоснованная рассудком – сладострастна и слишком животная». Враждебно настроенный по отношению к самому себе, он старался обуздать свои желания. Но мужчины неискусны в этом, и сдерживаемая чувственность, принимая тысячи различных форм, не может обмануть влюбленную женщину.
Салли, обладавшая из всех троих наиболее сильным характером, первая догадалась по наступавшему иногда молчанию, что положение становилось невыносимыми и что ее жених любит ее сестру. Печальная и уже безропотно покоряющаяся, она подумала: «Это очень естественно… Она красивее, живее, приятнее меня… Моя серьезность докучает ему, но я не могу избавиться от нее. Я к нему не испытываю даже влечения».
Почти каждый вечер, когда утомленная Мария ложилась спать, Салли приходила к ней поболтать. Они обе любили эти долгие беседы. Под конец одного такого разговора Салли нежно спросила свою сестру, уверена ли она в том, что не любит Лоуренса. Мария сильно покраснела, и ее глаза на момент отвернулись от взора Салли. Этого объяснения им было вполне достаточно.
Когда Салли сказала Лоуренсу, что дает ему свободу, он искренно разыграл сцену большого отчаяния. Он протестовал, затем признался. Она предложила ему пойти к миссис Сиддонс и просить руки Марии.
VI
Когда Мария убедилась в своей победе, ею овладело чувство торжества, показавшееся ей восхитительным; она не могла сдержаться и танцевала, пела и улыбалась перед всеми зеркалами, Мысль о горе, которое, может быть, испытывала Салли, едва смущала ее радость. «Бедная Салли, – говорила она себе. – Она его никогда не любила. Узнает ли она хоть когда-нибудь, что такое любовь? Она так холодна, так рассудительна!» И она прибавляла: «В сущности, моя ли это вина? Что я делала, чтобы привлечь Лоуренса? Я была такая, как всегда, больше ничего. Разве надо было прикидываться дурочкой?»
Салли же, размышляя о своем поступке и о своем душевном состоянии, спрашивала себя: «Как могла я вынести потерю того, кого люблю больше, чем себя саму? Неужели Мария права, считая что я не способна испытывать страсть? Но, однако, если бы я могла, отдав свою жизнь, вернуть хоть на час, хоть на десять минут любовь Лоуренса, я с радостью согласилась бы умереть. Нет ничего на свете, чего бы я не могла для него сделать; я чувствую, что, удаляясь, я думала только о его счастье. Мария никогда бы этого не сделала. Я думаю, что люблю его сильнее, чем она. Это как с мамой: ее считают холодной, но я-то знаю, как глубоко и сильно она нас любит».
Иногда она себя упрекала в том, что недостаточно показала Лоуренсу сперва свою любовь, а потом страдание: «Нет, – думала она, – я не могла ни жаловаться, ни вздыхать, мне свойственно покоряться и молчать. Когда дело сделано, уж поздно плакать».
Влюбленные не знали, как объявить миссис Сиддонс о невероятной перемене; Салли взяла все на себя и выполнила это с твердостью и благоразумием. Миссис Сиддонс была в одно и то же время удивлена и недовольна. Она знала о непостоянстве Лоуренса, теперь это только еще раз подтвердилось; какой муж выйдет из этого человека? Она согласилась отдать за него Салли, которую считала в силах обуздывать его и переносить, если случится, тяжелые обстоятельства, – но как уживется с ним это капризное и своевольное дитя?.. С другой стороны, Мария была очень слабого здоровья; ее постоянный кашель беспокоил врачей. Было ли разумно отдавать ее замуж?
«Счастье, – говорила Салли матери, – окажет хорошее влияние на ее здоровье; прошло только восемь дней, с тех пор, как она чувствует себя любимой, а она уж совсем другая, веселее и даже крепче.
– Никогда ваш отец, – сказала миссис Сиддонс, – не согласится на этот брак. Ты знаешь, как много значения придает он тому, чтобы его дочери были обеспечены состоянием, а долги Лоуренса довольно значительны, я это знаю, Мария не способна к экономии, и они будут несчастны.
– Лоуренс будет работать, – сказала Салли. – Все говорят, что он станет скоро лучшим портретистом нашего времени, а Мария очень молода и она будет разумнее.
Она ясно чувствовала, что не должна была дать себя убедить аргументами, которые могли бы укрепить ее страсть, и доходила до того, что опровергала даже то, с чем в глубине души соглашалась.
Споры продолжались в течение нескольких недель, и это отразилось на здоровье Марии. Она стала сильнее кашлять, лихорадила каждый вечер, худела. Беспокойство заставило миссис Сиддонс уступить; она разрешила посещения, письма, прогулки, а для того чтобы Сиддонс ничего не заметил, Салли согласилась служить посредницей между обрученными.
«Счастливая Мария! – думала она. – Она наслаждается величайшим блаженством, о котором может мечтать женщина. Лишь бы только чувство Лоуренса не исчезло теперь, когда он не встречает больше препятствий, как это было со мной! Он так легко пресыщается, когда получает желаемое».
Улучшение, наступившее в здоровье Марии, после того как миссис Сиддонс дала свое согласие, длилось недолго. Врач никогда не придавал большого значения этому выздоровлению, вызванному сердечными причинами; пульс беспокоил его, слово «чахотка» было произнесено. Салли умоляла не говорить ничего Лоуренсу, который слишком страдал бы, узнав об опасности, угрожавшей его невесте. Когда по настоянию доктора Мария перестала выходить из комнаты, Лоуренсу было разрешено навещать ее каждый день. Салли находилась при сестре и удалялась, как только докладывали о приходе Лоуренса. Она садилась тогда за рояль и пыталась играть свои любимые мелодии, но ее пальцы останавливались и она мечтала. «Ах, – говорила она себе, – как охотно я взяла бы на себя болезнь Марии, даже опасную, даже смертельную, если бы я могла разделить также ее судьбу!» Она находила в этих вызванных отчаянием чувствах радость странную и чистую.
Через несколько дней, когда она собиралась покинуть комнату, Лоуренс попросил ее остаться. После минутного колебания, она, видя его настойчивость, согласилась. На следующий день он повторил свою просьбу, а еще через некоторое время попросил ее спеть ему, как когда-то. У нее был прелестный голос, и она сама сочиняла мелодию. Когда она кончила петь, Лоуренс остался сидеть у рояля в глубокой задумчивости. Наконец Мария позвала его. Он тряхнул головой, казалось, возвращаясь издалека, и, повернувшись к Салли, торопливо заговорил с ней о ее новых песнях. Мария удивленно попыталась привлечь его внимание, выказав досаду, но это не произвело на него никакого впечатления.
Она быстро таяла; сначала она сильно похудела, потом появились отеки, желтоватый цвет лица. Ей казалось иногда, что ее жених смотрит на нее с некоторым раздражением. Лоуренс сам плохо разбирался в том, что в нем происходило. Он искал красоту живую и нежную у ребенка, которого желал, и нашел увядшую больную. Он не мог любить некрасивую женщину. Его ежедневные посещения начали ему приедаться; они служили постоянным препятствием в распределении его дня. Запертая в комнате, Мария не была в курсе всех событий лондонского общества, которыми только и интересовался молодой светский художник. Она замечала, что он стал менее внимателен, что реже говорил ей комплименты; она приходила в отчаяние, и ее печальная любовь навевала на него еще большую скуку. Если бы не Салли, то Лоуренс не мог бы выносить это тягостное состояние и, возможно, перестал бы приходить; но вопреки его воле Салли притягивала его. Покорность, с которой она приняла его измену, и, в особенности, совершенная непринужденность в ее разговоре с ним удивляли этого человека, привыкшего вызывать к себе страсть; за этой холодностью крылась тайна, которую он не мог понять. Любила ли она его еще? Порой он сомневался в этом, и в нем пробуждалось желание покорить ее вновь.
Через шесть недель после того, как он получил вынужденное согласие у миссис Сиддонс, он попросил разрешения поговорить с ней наедине.
– Я ясно теперь разбираюсь в себе, – сказал он ей, – дело в том, что я всегда любил только Салли. Мария – ребенок, который меня не понимает и никогда не поймет. Салли создана быть моей женой. Она унаследовала от вас совершенство красоты, то спокойствие характера, которым я восхищаюсь в вас с самого моего детства… Как мог я сделать такую ошибку? Вы артистка, вы должны понять это. Вы знаете, как легко мы принимаем за действительность фантазии нашего воображения; мы являемся рабами настроения гораздо больше, чем другие люди. Я не смею говорить с Салли, надо, чтобы это сделали вы. Если же она не будет мне принадлежать, я не переживу этого!
Миссис Сиддонс была очень поражена этой переменой в Лоуренсе и начала его упрекать в том, что он играет чувствами обеих молодых хрупких девушек, которым его фантазии могут стоить здоровья, даже жизни, но так как он продолжал говорить о самоубийстве, то она проявила некоторую нерешительность. Конечно, положение показалось ей менее странным, чем всякой другой матери. Театр приучил ее к самым редким и сложным комбинациям, и она плохо отличала эту трагедию от тех, которые она так часто изображала на сцене, принимая развязку, предложенную героем, с профессиональной снисходительностью. Кроме того, комедия научила ее тому, что в любви отказ разжигает страсть. Лоуренс всегда был для нее идеалом мужчины; никакое чувство не было для нее приятнее, чем почтительное восхищение, нежная лесть, которой он ее окружил. Она была готова простить этому прекрасному падшему ангелу то, что никогда не простила бы другому. После больших колебаний она согласилась еще раз поговорить со своими дочерьми.
Мария приняла этот удар совершенно иначе, чем это сделала когда-то Салли. Она слабо улыбнулась и сказала несколько иронических слов по поводу изменчивости Лоуренса. Больше она к этому не возвращалась. Бедная девочка была горда и старалась скрыть свое горе. Она сказала только, что хотела бы не видеть больше этого человека, и спросила Салли, собирается ли она его принимать.
Салли пыталась ее успокоить; узнав об этой поражающей новости, она не могла отделаться от восхитительно радостного чувства. В один момент измена, непостоянство – все было забыто. Она слишком любила, чтобы не найти тысячи причин для оправдания Лоуренса. Несмотря на все свое благоразумие, она не могла устоять перед искушением поверить в то, чего она желала, и в свою очередь она убеждала себя в том, что сестра никогда его не любила. Для этого нужно было быть очень ослепленной страстью, так как перемена, происходившая с Марией, доказывала, как сильно было потрясение. Она была печальна, мрачно настроена; она, такая легкомысленная, такая веселая, говорила только о суете жизни и о непостоянстве всего земного.
– Я думаю, что не проживу долго, – говорила она.
Мать и врачи пытались возражать.
– Возможно, возможно, – соглашалась она, – что я ошибаюсь, что это нервы, но я не могу отогнать от себя эти мысли. Да и для чего? Это избавит меня от многих страданий. Я не создана, чтобы их переносить, у меня нет смирения. Моя короткая жизнь была достаточно несчастна, чтобы смертельно меня утомить!
Лоуренс настойчиво добивался разрешения видеть Салли. Она ему написала: «Вы не можете появиться в нашем доме: ни Мария, ни даже я не можем это перенести. И хотя она вас не любит, неужели вы думаете, что она не испытает неприятного чувства, видя, что вы оказываете другой внимание, которое вы отдавали раньше ей? Да разве вы согласитесь на такое положение? Я тоже не могу согласиться».
Но как ни старалась она щадить самолюбие своей сестры, ей страстно хотелось видеть Лоуренса: с разрешения своей матери она устроила тайное свидание. Накануне она купила кольцо, которое носила целый день, целовала его и передала Лоуренсу с просьбой не снимать, пока он будет ее любить.
Снова они начали совершать длинные прогулки по утрам и в сумерки. Она навещала его в ателье и пела ему мелодии, которые сочинила за время их недавней разлуки. «Уверяю вас, – говорила она ему, когда он хвалил ее за возрастающие успехи в пении, – что я не могла бы так петь и сочинять, если бы я вас не знала. Вы жили в моем сердце, в моем разуме, в каждой моей мысли, и, однако же, вы меня не любили… Но все это забыто».
Между тем в своей всегда запертой комнате, как бы отравляемой ее дыханием, Мария постепенно угасала. Наступала весна. Стоя у окна, девушка завидовала маленьким нищенкам, бегавшим по залитой солнцем улице. «Мне кажется, – говорила она, – что все, кроме меня, возрождается в этом сиянии. Ах, если бы я могла выйти хоть на один час на свежий воздух, я чувствую, что стала бы снова прежней! Право, у меня нет других желаний».
Эта грустная покорность у существа, которое всего лишь несколько месяцев тому назад так жаждало удовольствий, очень пугала миссис Сиддонс; она не отдавала себе точного отчета в своих страшных подозрениях, но охваченная беспокойством, встревоженная она не могла разделить свои заботы ни с Сиддонсом, который ни о чем не имел понятия, ни с Салли, чье счастье она не хотела смущать; страстно отдаваясь разучиванию своих ролей, она только в этом одном обретала душевный покой.
Тогда ставили пьесу, переведенную с немецкого, – «Чужестранец» Коцебу. Это была история неверной жены, прощенной своим мужем. Смелость и новизна темы вызывала много толков. Если будут аплодировать такой снисходительности, то что же станется с седьмой заповедью, страхующей домашний покой всех христианских наций? Но миссис Сиддонс играла с такой трогательной стыдливостью, что невозможно было ее порицать. Она любила эту роль, потому что могла в ней много плакать. Она находила большое облегчение в этих театральных слезах.