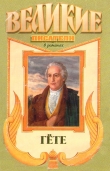Текст книги "Меип, или Освобождение"
Автор книги: Андре Моруа
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
И он повторял себе с яростью: «Я трус… Я жалкий трус». Он презирал бы себя меньше, если бы знал о внутренней жизни госпожи Треливан то, что мне стало известно гораздо позже от женщины, игравшей при ней ту же роль, которую я играл при Лекадьё. Иногда случай приносит вам лет через двадцать то недостающее звено, которое вас страстно бы заинтересовало во время перипетий самого приключения.
Тереза Треливан вышла замуж по любви. Она была, как нам сказали, дочерью промышленника, но промышленника с вольтерьянскими и республиканскими идеями, – тип французского буржуа, очень редкий в наше время. Треливан во время одной из своих выборных кампаний был принят у родителей Терезы и произвел большое впечатление на молодую девушку. Это она настаивала на браке. Она должна была победить сопротивление семьи, опасавшейся не без основания репутации Треливана, любителя женщин и азартного игрока. Отец сказал: «Это гуляка, который будет тебя обманывать и разорит тебя». Она ответила: «Он переменится под моим влиянием».
Знавшие ее в то время говорят, что ее красота и наивность, ее жажда преданности, все это вместе составляло нечто очаровательное, против чего нельзя было устоять. Выходя замуж за еще молодого, но уже знаменитого депутата, она представляла себе впереди прекрасную совместную жизнь, посвященную чему-то вроде подвижничества. Она видела себя вдохновляющей речи своего мужа, переписывающей их, аплодирующей им; она будет ему верной поддержкой в трудные минуты, подругой незаметной и незаменимой. Словом, она претворила свою пылкость молодой девушки в очевидную страсть к политике.
Можно было догадываться, к чему приведет этот брак. Треливан любил свою жену, пока он ее желал, то есть около трех месяцев. Затем он внезапно перестал замечать ее существование. Насмешливый, реалистически настроенный, отличавшийся большой сдержанностью в проявлениях энтузиазма, он был более раздражен, чем соблазнен этой, быть может обременительной, пылкостью.
Наивность, импонирующая созерцательным натурам, раздражает активных людей. Он отклонил сначала нежно, затем вежливо и, наконец, сухо это домашнее сотрудничество. Первая беременность и предосторожности, с нею связанные, послужили ему предлогом, чтобы избегать своего дома. Он вернулся к подругам, более подходившим к его темпераменту. Когда его жена стала жаловаться, он ответил, что она свободна.
Твердо решив не разводиться, во-первых, из-за детей, во-вторых, гордясь именем, которое она носила, а может быть и не желая признаться перед своей семьей в поражении, она должна была привыкнуть ко многому: путешествовать одной со своими детьми, переносить официальные соболезнования друзей, улыбаться, когда ее спрашивали об отсутствии мужа. Наконец после шести лет одиночества, страшно утомленная, измученная смутной потребностью ласки, преследуемая, несмотря на разочарования, мечтой о любви совершенной и чистой, составлявшей всю красоту ее девичьей жизни, она взяла в любовники коллегу и политического друга Треливана, человека тщеславного, покинувшего ее в свою очередь по прошествии нескольких месяцев.
Эти два неудачных опыта внушили ей большое недоверие ко всем мужчинам. Она вздыхала и грустно улыбалась, когда при ней заговаривали о браке. Она была когда-то живой и остроумной молодой девушкой – теперь она стала молчаливой и вялой. Врачи имели в ее лице послушную больную, страдавшую неизлечимой неврастенией. Она жила в постоянном ожидании несчастья, смерти. Она совершенно потеряла ту очаровательную доверчивость, которая придавала ей столько прелести в молодые годы. Она считала себя неспособной к любви и недостойной ее.
* * *
Пасхальные каникулы прервали занятия детей и предоставили Лекадьё достаточно времени для размышлений, которые придали ему решимости. На следующий день после возобновления занятий он попросил у госпожи Треливан разрешения поговорить с нею наедине. Она подумала, что он хотел пожаловаться на одного из своих учеников, и увела его в маленькую гостиную. Следуя за ней, он был совершенно спокоен, как это бывает перед неизбежной дуэлью. Как только она закрыла дверь, он сказал ей, что не в состоянии больше молчать, что он живет только минутами, проведенными подле нее, что у него перед глазами всегда ее образ, – словом, объяснение самое искусное и литературное, – после чего он хотел приблизиться к ней и взять ее руки.
Она смотрела на него с неудовольствием и смущением и повторяла: «Но ведь это нелепо… Да замолчите же…» Наконец, она сказала: «Это просто смешно… Перестаньте, я вас прошу, и уходите» – умоляющим и в то же время таким решительным тоном, что он почувствовал себя бесславно побежденным. Он отодвинулся от нее и уходя пробормотал: «Я попрошу Перро назначить на мое место кого-нибудь другого». В вестибюле, несколько ошеломленный, он на минуту остановился, затем начал разыскивать свою шляпу, пока слуга не открыл дверь буфетной и не последовал за ним, чтобы проводить его.
В этот момент постыдного бегства выгнанного любовника, лакей, стоявший за его спиной, напомнил вдруг моему другу новеллу Бальзака, которую он только что прочел, короткую, но прекрасную новеллу под названием «Покинутая женщина».
Вы еще не забыли «Покинутую женщину»?.. Ах, вы не знатоки Бальзака… Тогда я вам напомню, для того чтобы вы могли уловить связь, что в этом рассказе молодой человек проникает под вымышленным именем к одной женщине и объявляет ей без всяких предварительных объяснений о своей безумной любви к ней.
Она бросает на него взгляд, полный надменности и презрения, и, позвав слугу, говорит ему: «Жан, – или Жак, – посветите этому господину». До сих пор все почти, как у Лекадьё. Но у Бальзака молодой человек, проходя по прихожей размышляет: «Если я уйду, то эта женщина будет считать меня глупцом; может быть, в этот момент она сожалеет, что так резко оттолкнула меня, я должен постараться ее понять». Он говорит лакею: «Я кое-что забыл наверху», снова поднимается, застает госпожу де Босеан еще в гостиной и становится ее любовником.
«Да, – подумал Лекадьё, неловко стараясь попасть в рукав пальто, – да, это как раз та же ситуация… в точности… И я не только останусь навсегда в ее глазах глупцом, но она расскажет еще об этом эпизоде своему мужу. Какие будут неприятности!.. Если же я ее увижу – то наоборот…»
Он сказал слуге: «Я забыл перчатки» – направился почти бегом через вестибюль и открыл дверь будуара.
Госпожа Треливан сидела, задумчивая, на маленьком стуле подле камина; она посмотрела на него с удивлением, но и с большой мягкостью:
– Как? – сказала она. – Это опять вы? Я думала…
– Я сказал лакею, что забыл перчатки. Я вас умоляю выслушать меня еще пять минут.
Она не протестовала и, казалось, что за короткое время, прошедшее после ухода моего друга, она успела пожалеть о своем добродетельном поступке. Это чувство, столь человеческое – пренебрегать возможностью, которая представляется, и цепляться за ту, которая ускользает, и вызвало реакцию; выгнав его с совершенно искренним негодованием, она пожелала его вернуть, когда увидела, что он уходит.
Терезе Треливан было тридцать девять лет. Еще один раз, в последний раз быть может, жизнь могла стать для нее одновременно ужасной и очаровательной; еще один раз она могла узнать радость тайных свиданий, спрятанных писем, бесконечных подозрений ревности. Ее любовником будет юноша, быть может гениальный; эта мечта материнского покровительства, прерванная с такой сухостью ее мужем, может быть возродится с человеком, который будет ей всем обязан.
Любила ли она его? Я не знаю, но я охотно бы поверил, что до этого момента она думала о нем только как о блестящем преподавателе своих детей, и не из высокомерия, а из скромности. Когда он приблизился к ней после речи, которую она не слыхала, она протянула ему руку и отвела лицо с бесконечной грацией. Это движение, свойственное героиням Лекадьё, привело его в такой восторг, что он поцеловал эту руку с искренней страстью.
* * *
Он честно постарался в этот вечер скрыть от меня свое счастье: сдержанность входила в идеал любовника, почерпнутого им из романов. Он крепился в течение обеда и части вечера; я помню, что мы с большим увлечением обсуждали первое произведение Анатоля Франса, и Лекадьё разбирал с большим остроумием то, что он называл «немного слишком сознательной поэзией». Около десяти часов он увел меня в сторону от товарищей и рассказал мне о событии этого дня.
– Я не должен был бы тебе этого говорить, но я задохнусь, если не открою кому-нибудь свою тайну. Я все поставил на карту, мой друг, хладнокровно поставил и выиграл. Итак, это правда, что в обращении с женщиной достаточно проявить только смелость. Мои представления о любви, забавляющие тебя, потому что они вычитаны из книг, оправдались в жизни. Бальзак – великий человек.
При этом он начал подробно рассказывать и под конец рассмеялся, взял меня за плечи и прибавил в заключение:
– Жизнь прекрасна, Рено!
– Мне кажется, – сказал я, отводя его руки, – что ты слишком рано начинаешь торжествовать победу. Она простила тебе твою смелость – вот что обозначает ее жест. Трудности остаются те же.
– Ах, – сказал Лекадьё, – ты не видел, как она на меня посмотрела… Она стала сразу очаровательной. Нет-нет, мой друг, нельзя заблуждаться в чувствах женщины. Я и сам сознавал, что она была равнодушна ко мне в течение долгого времени. И я тебе говорю теперь: «Она меня любит», потому что я уверен в этом.
Я слушал его с тем ироническим и немного смущенным удивлением, которое вызывает всегда любовь другого. Он был, однако, прав, считая партию выигранной: через неделю госпожа Треливан была его любовницей. Он вел наступление с большим умением, подготовляясь к каждой встрече, регулируя заранее движения, взвешивая слова. Его успех был победой почти научной любовной стратегии.
Обычно считается, что обладание означает конец любви; случай с Лекадьё, наоборот, доказывает, что это не всегда так.
Правда, эта женщина давала ему почти все то, что со времени его юношества входило в его схему счастливой любви.
В его представлениях о наслаждении я всегда обнаруживал некоторые элементы, которые меня удивляли, потому что были мне чужды. Ему было необходимо, во-первых, чувствовать свою любовницу выше себя в каком-нибудь отношении, жертвующей чем-нибудь, общественным положением, богатством, чтобы следовать за ним; во-вторых, он хотел, чтобы она была целомудренна и вносила в наслаждение сдержанность, которую ему, Лекадьё, приходилось бы побеждать. Я думаю, что он был, в сущности, более честолюбив, чем сладострастен. Тереза Треливан соответствовала почти в точности тому типу женщин, который он так часто мне описывал. Он гордился ее домом, элегантной комнатой, в которой она его принимала украдкой, ее платьями, даже ее прислугой. Он испытал чувство радости, крепко привязавшее его к ней, когда она ему призналась, что долго робела перед ним.
– Правда, – сказал он мне, – ведь это удивительно? Ты думаешь, что тебя игнорируют, относятся к тебе, во всяком случае, с небрежностью, находишь тысячи причин, очень убедительных, чтобы объяснить презрение женщины. И вдруг, перенесясь по ту сторону кулис, узнаешь, что она тоже испытывала опасения. Ты помнишь? Я тебе говорил: «Она не пришла в течение трех уроков: вероятно, я ей надоел». В этот момент она думала (она мне это сказала): «Мое присутствие должно его раздражать, я пропущу три урока». В этом полном проникновении в чужую душу, казалось, раньше неприязненную, и заключается для меня, мой дорогой, величайшее наслаждение любви. Это как бы полное успокоение, очаровательный отдых для самолюбия. Мне кажется, Рено, что я буду ее любить.
Я же, оставаясь хладнокровным, конечно, не забыл наш разговор с папашей Лефором.
– Но умна ли она? – спросил я.
– Умна? – сказал он, оживляясь. – Это слишком растяжимое понятие. Ты можешь видеть в школе математиков (Лефевр, например), которых специалисты считают гениальными, а мы с тобой называем идиотами. Если я пытаюсь объяснить Терезе философию Спинозы (я пробовал это), то совершенно очевидно, что ей это неинтересно, хотя она и старается проявить много внимания и терпения, но в других областях, она берет надо мной верх и удивляет меня. Она знает об истинной жизни французского общества конца XIX века больше, чем ты, или я, или Ренан. Я могу слушать ее часами без скуки, когда она говорит о политике, об обществе, о свете, о влиянии женщин.
Беседами на эти темы в течение последующих месяцев госпожа Треливан с бесконечной снисходительностью удовлетворяла любопытство моего друга. Достаточно было Лекадьё сказать: «Я хотел бы видеть Жюля Ферри… Констан, должно быть, любопытный старичок… Вы знаете Мориса Барреса?» – и она сейчас же обещала устроить встречу. Она начинала ценить все те бесконечные дружеские связи Треливана, казавшиеся ей до сих пор такими скучными и обременительными. Она находила большое удовольствие, предоставляя своему молодому любовнику возможность пользоваться влиянием мужа.
– А Треливан? – говорил я иногда, когда Лекадьё возвращался с одного из этих вечеров, о которых он мне рассказывал столько удивительного. – Все-таки как может он не замечать твоего положения в доме?
Лекадьё становился задумчив.
– Да, – говорил он, – это очень странно.
– Принимает ли она тебя когда-нибудь у себя?
– Очень мало, из-за детей, а также из-за слуг, но что касается Треливана, то нет случая, чтобы он был дома между тремя и семью… Странно то, что она двадцать раз просила у него для меня приглашения, пропуска в Палату, в Сенат, и он выполняет все очень вежливо и даже любезно, не требуя никаких объяснений. Когда я у них обедаю, он обращается со мной с особенным уважением. Он представляет меня: «Молодой студент Нормальной школы, очень талантливый…» Мне кажется, что он относится ко мне дружески.
В результате этой новой жизни Лекадьё перестал заниматься. Наш директор, завороженный могущественным именем Треливана, отказался от всякого контроля над его нерадивостью, но профессора жаловались. Он был слишком блестящ, чтобы могла явиться опасность провала на экзаменах, но он катился назад. Я ему говорил это, но он только смеялся. Чтение тридцати или сорока трудных авторов казалось ему занятием нелепым и недостойным его. В этом смысле госпожа Треливан имела на него плохое влияние. Она так часто видела вокруг себя успех интриги, что убедила Лекадьё в медлительности обычных путей.
– Экзамены? – говорил он. – Конечно, я их сдам, но какая тоска!.. Тебя очень забавляет следить за нитями, приводящими в движение старых университетских марионеток? Меня это немного интересует, но я нахожу, что лучше выбрать другую сцену, где было бы больше публики. В мире таком, как он есть, власть обратно пропорциональна затраченной работе. Самую счастливую жизнь современное общество дарует самому бесполезному. Хороший оратор, умный человек завоюет салоны, женщин, даже любовь народа. Ты помнишь выражение Лабрюйера [31]31
ЛабрюйерЖан де (1645–1696) – французский писатель, мастер афористической публицистики.
[Закрыть]: «Достоинства выдвигают человека на видное место, и это ему сберегает тридцать лет». Достоинства в нынешнее время – это покровительство нескольких великих мира сего, министров, лидеров партий, крупных чиновников, более могущественных, чем были когда-то Людовик XIV или Наполеон».
– Ну и что же? Ты займешься политикой?
– Нет, я не останавливаюсь на каком-нибудь определенном плане. Я нахожусь «настороже»: я ухвачусь за каждую возможность… Есть тысячи карьер вне политики, которые, обладая ее свойствами творить «чудеса», не обладают в то же время ее опасностями. Человек, отдающий себя политике, должен все-таки нравиться народу, а это трудно и полно неожиданностей. Я хочу нравиться политическим деятелям – это значительно легче. Некоторые из них очень культурные и очаровательные люди: Треливан говорит об Аристофане [32]32
Аристофан(ок.445 – ок. 385 гг. до н. э.) – древнегреческий поэт-комедиограф, «отец комедии».
[Закрыть]гораздо интереснее, чем наши учителя, и при этом с тем пониманием жизни, которого им не хватает. Ты не имеешь представления о его откровенном цинизме, об этом великолепном бесстыдстве!
После этого мои хвалы провинциальной кафедре, четырем часам лекций, свободе предаваться размышлениям должны были ему казаться очень пресными.
Около этого времени я узнал от одного из моих товарищей, отец которого бывал у Треливана, что Лекадьё там не всем нравился. Он не умел скрывать, что считает себя равным великим мира сего. В нем не было естественной почтительности. Странное впечатление производило также на окружающих постоянное присутствие при хозяйке дома этого слишком грузного для его возраста молодого человека, этой маски а-ля Дантон; в нем чувствовались одновременно робость и раздражение своей робостью, сила и слишком ясное сознание своей силы. «Кто этот Калибан [33]33
Калибан, Просперо– герои пьесы В. Шекспира «Буря» (1611–1612).
[Закрыть], говорящий языком Просперо?» – спросил однажды Леметр.
Другой неприятной стороной этой истории было то, что Лекадьё теперь всегда нуждался в деньгах. Костюм играл большую роль в новом плане его жизни, и в этом пункте этот блестящий и умный человек доходил до ребячества. В течение трех вечеров я выслушивал его описания белого жилета, который носил один молодой чиновник министерства. На улице он останавливался перед обувными магазинами и долго изучал фасоны. Затем, видя, что я неодобрительно молчу, он говорил мне:
– Ну, начинай выкладывать… У меня достаточно аргументов, чтобы возразить тебе.
* * *
Комнаты учеников в Нормальной школе представляют собой нечто вроде лож, закрывающихся занавесями и расположенных вдоль коридора. Моя комната находилась направо от Лекадьё; налево помещался Андре Клайн, теперь депутат от Ланд.
За несколько недель до экзаменов меня разбудил странный шум. Сев на кровати, я ясно услыхал рыдания. Я встал. В коридоре встревоженный Клайн прильнул ухом к занавеси комнаты Лекадьё. Оттуда и раздавались стоны.
Я не видел моего товарища с утра, но мы так привыкли к его отсутствию, что я не обратил на это особенного внимания.
Посоветовавшись со мной, Клайн отдернул занавес. Лекадьё, одетый, лежал на кровати в слезах. Вспомните, что я вам сказал о силе его характера, о нашем к нему уважении, и вы представите себе наше удивление.
– Что с тобой? – спросил я. – Лекадьё, отвечай мне!.. Что с тобой?
– Оставь меня в покое… Я уезжаю.
– Уезжаешь? Это еще что за история?
– Я должен уехать.
– Ты с ума сошел? Тебя исключают?
– Нет… Я обещал.
Он покачал головой и снова упал на кровать.
– Это глупо, Лекадьё, – сказал Клайн.
Лекадьё быстро приподнялся.
– Что случилось? – спросил я его. – Расскажи наконец, в чем дело… Клайн, оставь нас, пожалуйста.
Мы остались одни. Лекадьё уже овладел собой. Он встал, подошел к зеркалу, привел в порядок волосы, галстук и сел рядом со мной.
Тогда только, лучше его разглядев, я заметил страшную перемену, происшедшую в его лице. Его взор как будто потух… Я почувствовал интуитивно, что в этом удивительном механизме разбилась какая-то главная часть.
– Госпожа Треливан? – спросил я.
Я подумал, что она умерла.
– Да, – сказал он со вздохом… – Не сердись… я все тебе скажу… Да, сегодня после урока, Треливан через лакея передал мне просьбу зайти к нему в кабинет. Он работал. Он сказал мне: «Здравствуйте, мой друг», спокойно окончил свою статью и не говоря ни слова протянул мне два моих письма… Я имел глупость писать письма не только сентиментальные, но и такого содержания, которые лишали меня всякой возможности защищаться. Я начал бормотать сам не знаю что, какие-то бессвязные фразы. Я не был подготовлен; я жил, как ты знаешь, в сознании полной безопасности. Он был совершенно спокоен; я же чувствовал себя преступником.
Когда я замолчал, он стряхнул пепел своей папиросы, – какая выдержка, Рено!.. Несмотря на свое состояние, я им залюбовался. Это большой актер. Он начал говорить о «нашем» положении с беспристрастностью, отрешенностью и ясностью суждений, поистине удивительными. Я не могу тебе дать представление о его речи. Все казалось мне ясным, очевидным. Он говорил мне: «Вы любите мою жену; вы ей об этом пишете. Она тоже любит вас и, как я думаю, ее чувство к вам очень искреннее, очень глубокое. Вы вероятно знаете, чем была наша супружеская жизнь? Я не могу винить ни в чем ни вас, ни ее. Больше того, у меня тоже есть причины желать в настоящий момент свободы, и я не буду препятствовать вашему счастью… Дети? У меня, как вы знаете, только сыновья: я помещу их в лицей… Все устроится при желании и доброй воле. Дети от этого нисколько не пострадают, наоборот. Средства к жизни? У Терезы небольшое состояние, а вы будете зарабатывать на жизнь… Я вижу только одно препятствие или, вернее, одно затруднение: я нахожусь на виду, и мой развод наделает некоторый шум. Для того чтобы низвести скандал до минимума, мне нужно ваше содействие. Я вам предлагаю вполне корректный выход. Я не хочу, чтобы моя жена, оставаясь в Париже на время развода, давала невольно пищу сплетням. Я прошу вас уехать и увезти ее с собой. Я сам извещу вашего директора и устрою вас преподавателем какого-нибудь провинциального коллежа». – «Но, сударь, – сказал я ему, – я еще не получил степени». – «Ну так что же – это необязательно. Будьте спокойны: я пользуюсь еще достаточным влиянием в министерстве, чтобы назначить вас преподавателем в шестом классе. Кроме того, ничто вам не препятствует готовиться к вашим экзаменам и сдать их в будущем году. Тогда я устрою вам лучшее место. Не беспокойтесь, я не собираюсь вас преследовать… Наоборот, вы находитесь в затруднительном, неприятном положении… я это знаю, мой друг, – я вас жалею, понимаю вас… В этой истории я забочусь о ваших интересах столько же, сколько о своих собственных, и если вы примете мои условия, я вам помогу выпутаться… Если вы от них откажетесь, то я буду принужден прибегнуть к законным путям».
– Законный путь, что это может означать? Что он может с тобой сделать?
– О, все… процесс об адюльтере.
– Что за глупости! Шестнадцать франков штрафа? Он был бы совсем смешон!
– Да, но такой влиятельный человек может закрыть двери к всякой карьере. Сопротивляться было бы безумием и, наоборот, уступая… Кто знает?
– Ты согласился?
– Через неделю я с нею уезжаю в коллеж Люксейля.
– А она?
– Ах, – сказал мне Лекадьё, – она достойна удивления. Я провел сегодня вечер с нею. Я ее спросил: «Вас не страшит жизнь в маленьком городе, отсутствие роскоши, скука?» Она мне ответила: «Я уезжаю с вами, и мне этого достаточно».
Тогда я понял, почему Лекадьё так легко подчинился: он был опьянен тем, что может жить свободно со своей любовницей.
* * *
В те времена я тоже был еще очень молод, и этот театральный поступок носил такой драматический характер, что я принял его как фатальную необходимость, не рассуждая. Позже, когда я размышлял об этих событиях, уже обладая некоторым знанием людей, я понял, что Треливан искусно воспользовался неопытностью мальчика, чтобы устранить затруднения с собственного пути. Уже давно он хотел освободиться от надоевшей ему жены. Впоследствии мы узнали, что он решил тогда жениться на Марсе. Он знал о первом любовнике, но колебался поднимать скандал, который вследствие отношений с этим человеком мог бы отразиться на его карьере. Власть научила его подчиняться, и он ждал благоприятного случая. Он не мог найти ничего лучшего: юноша, подавленный его престижем, его жена, принужденная надолго уехать из Парижа, если она захочет последовать за своим любовником, а это было вполне вероятно, потому что она была еще молода и любила его; и в конце концов не такой уже громкий скандал благодаря исчезновению героев драмы. Он был уверен в благополучном результате этой партии и выиграл ее без труда.
Через две недели Лекадьё исчез из нашей жизни. Он писал редко, не явился на экзаменационный конкурс ни этого, ни следующего года. Волны, вызванные этим падением уменьшились, исчезли. Пригласительный билет на свадьбу уведомил меня о его женитьбе на госпоже Треливан. Я узнал от товарищей, что он получил степень адъюнкта через одного из главных инспекторов, что он был назначен, «благодаря своим политическим связям», в лицей в Б., – пост, которого многие добивались. Затем я покинул университет и забыл о Лекадьё.
В прошлом году, попав случайно в Б., я из любопытства зашел в лицей, расположенный в старинном аббатстве, в одном из самых красивых во Франции, и спросил у привратника, что стало с Лекадьё. Привратник, человек услужливый и общительный, приобрел некоторого рода педантизм, ведя в атмосфере, насыщенной наукой, журнал недостаточно успевающих.
– Лекадьё? – сказал он мне. – Лекадьё состоит в числе преподавателей этого лицея уж более двадцати лет, и мы надеемся, что здесь же он дождется и отставки… Если вы хотите его видеть, пройдите через парадный подъезд и по левой лестнице спуститесь в школьный двор. Лекадьё, наверное, беседует там с надзирательницей.
– Как? Разве лицей не закрыт на каникулы?
– Да, конечно, но мадемуазель Септимия согласилась брать к себе на дневные часы несколько детей из городских семейств. Директор это разрешил, и Лекадьё ей помогает.
– Вот как! Но ведь Лекадьё женат, насколько мне известно.
– Он был женат, сударь, – сказал мне привратник с укоризненным видом и трагическим голосом. – Мы похоронили госпожу Лекадьё год тому назад, двадцать восьмого января.
«А ведь правда, – подумал я, – ведь ей должно было быть около семидесяти лет… Семейная жизнь этой пары была, должно быть, очень необычна».
И я спросил:
– Она, ведь, была гораздо старше его?
– Сударь, – сказал он мне, – это самое удивительное, что я видел в этом лицее! Госпожа Лекадьё стала сразу старой… Когда они приехали сюда, она была, я не преувеличиваю, как молодая девушка… белокурая, розовая, прекрасно одетая… и гордая. Вы знаете, кто она была такая?
– Да-да, я знаю.
– Да, она была жена председателя совета министров и… вы понимаете, в провинциальном лицее… Вначале она нас очень смущала. У нас здесь царит большое согласие, сударь… Господин директор говорит всегда: «Я хочу, чтобы мой лицей был для нас всех семьей». Когда он входит в какой-нибудь класс, то говорит всегда профессору: «Господин Лекадьё (я называю его имя, как сказал бы – господин Небу или господин Лекаплэн), как поживает ваша супруга?» Но госпожа Лекадьё не хотела ни с кем знакомиться, ни у кого не бывала, даже не отдавала визитов. Поэтому многие делали кислое лицо мужу, и это вполне понятно. Но, к счастью, сам Лекадьё был очень учтив и улаживал все с нашими дамами. Это человек, который умеет нравиться. Теперь на его лекциях в городе присутствует вся аристократия, нотариусы и фабриканты, префект, все… И затем, все вообще устраивается. Его гордячка, даже и та образовалась: в последнее время не было здесь более популярной и более любезной дамы, чем госпожа Лекадьё. Но она стала старой, старой… Она умерла от рака.
– Неужели? – сказал я. – Хорошо, я пройду к Лекадьё.
Я пересек парадный двор. Это были монастырские переходы пятнадцатого века, немного обезображенные слишком многочисленными окнами, сквозь которые виднелись скамьи и потрескавшиеся столы. Налево крытая лестница со сводами спускалась к меньшему двору, обсаженному тощими деревьями. У ее подножия стояли двое: мужчина, спиной ко мне, и высокая женщина с костлявым лицом и жирными волосами, в фланелевом шерстяном платье, под которым твердым кругом вырисовывался корсет – крепость старинного образца. Эта пара, по-видимому, была погружена в оживленную беседу. Проход со сводами, образуя нечто вроде акустической трубы, усиливал звуки, и до меня донесся голос, напомнивший мне с поразительной четкостью площадку лестницы в Нормальной школе. Вот что я услыхал:
– Да, Корнель, может быть, сильнее, но Расин нежнее, мягче. Лабрюйер очень остроумно сказал, что один описывает людей такими, какие они есть, а другой…
Слышать эти пошлые слова, обращенные к такой собеседнице, знать, что они сказаны тем, кто был поверенным моих ранних дум, кто оказал на мою молодость самое сильное влияние, – мне это показалось таким странным и тягостным, что я быстро прошел несколько шагов под сводами, чтобы увидеть того, кто это говорил, в тайной надежде, что я ошибся. Он повернул голову, и я заметил два неожиданных для меня признака: седеющую бороду и лысый череп. Но это был Лекадьё. Он тоже меня сейчас же узнал, и на его лице появилось неопределенное выражение неудовольствия, почти страдания, сменившееся сейчас же ласковой улыбкой, немного смущенной, немного неловкой.
Взволнованный встречей и не желая говорить о прошлом перед этой надзирательницей с внешностью жандарма, я тотчас же пригласил моего товарища позавтракать со мной и назначил ему на двенадцать часов свидание в ресторане, который он мне указал.
Перед лицеем в Б. есть маленькая площадь, усаженная каштанами; я просидел там довольно долго. «От чего зависит, – говорил я себе, – успех или неудача чьего-нибудь существования? Вот Лекадьё, рожденный быть великим человеком, читает каждый год одни и те же отрывки чередующимся поколениям туренских лицеистов и проводит свои каникулы в скучном ухаживании за нелепым чудовищем, в то время как Клайн, удивительный ум, но все-таки не гений, осуществляет в действительности мечту молодого Лекадьё. Отчего? Надо будет, – решил я, – попросить Клайна перевести Лекадьё в Париж».
И, направляясь к Сент-Этьену, прекрасной церкви романского стиля, которую я хотел вновь посетить, я старался представить себе, что могло вызвать такой упадок: «Сразу Лекадьё не мог измениться. Это был тот же человек, тот же ум. Что случилось? Треливан, должно быть, безжалостно держал их в провинции. Он исполнил свои обещания и дал им возможность быстрого повышения по службе, но он закрыл для них Париж… Кое-кому провинция даже благоприятна… Я нашел там свое счастье. У меня были когда-то в Руане профессора, которым провинциальная жизнь придала удивительное спокойствие, хороший вкус, освобожденный от ошибок моды. Но Лекадьё был нужен Париж. В ссылке его стремление к власти должно было привести его лишь к мелким успехам… Быть выдающимся умом в Б. – сильное испытание для человеческого характера. Быть там политическим деятелем? Это очень трудно, если не принадлежишь к местным уроженцам. Во всяком случае, это требует больших усилий: существуют благоприобретенные права, старшинство, нечто вроде иерархии. Для такого темперамента, как этот, вероятно, уныние наступило очень быстро… Одинокий человек еще может вырваться, работать, но Лекадьё был связан с женщиной. После первых месяцев счастья она, наверное, пожалела о своей светской жизни… Можно себе вообразить целый ряд постепенных уступок… Затем она стареет… У него чувственная натура… Здесь бывают молодые девушки, курсы литературы… Госпожа Треливан становится ревнивой… Жизнь превращается в ряд глупых, утомляющих споров… Затем болезнь, желание все забыть, привычка, счастье удовлетворенного тщеславия, которое показалось бы ему смешным в двадцать лет (муниципальный совет, успех у надзирательницы)… А все-таки мой Лекадьё, гениальный юноша, не мог исчезнуть совершенно; должны же были остаться в этом уме следы былых задатков, подавленные, быть может, но до которых можно еще докопаться.