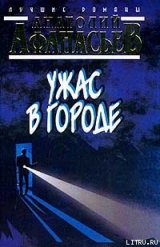
Текст книги "Ужас в городе"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
От первой затяжки его повело, в голове загудели колокола. Но он не променял бы эту сигарету на все свои прожитые восемнадцать лет.
– Ань, у тебя есть парень?
– Наверное, нет.
– Ты ведь не девушка, правда?
– Какой чудной. Разве спрашивают об этом?
– Извини. Но ты любила кого-нибудь?
– А ты?
– До сегодняшней ночи – ничего подобного…
* * *
В паб (по-старому пивная) "Бродвейская гвоздика"
Мышкин вошел около десяти вечера. До того помогал Тарасовне в магазине, с ней же перекусили на скорую руку.
Прошло две недели с печального происшествия. Тарасовна каждый день напоминала: "Ну что, Харитон?" И он каждый раз отвечал: "Рано еще".
Сегодня решил, пора.
В пабе обстановка культурная. Стойка бара, как в голливудских фильмах, музыка, дым коромыслом. Много веселой, поддатой молодежи, но попадались и плейбои средних лет. В задних комнатах заведения можно было перекинуться в картишки и покрутить рулетку. "Бродвейская гвоздика" – один из центров ночной жизни Федулинска.
Принадлежала она, как и прочие игорные точки, Бакуле Вишняку, бывшему секретарю Федулинского горкома партии. Правда, говорили, что управлять ему осталось считанные дни: Алихман-бек сильно давил на него. Вишняк пока упирался из последних сил, не хотел делиться, но уже отправил всю семью (две жены, три тещи и пятеро малолеток) за границу. Весь город с волнением следил за битвой титанов, подробности которой изо дня в день смаковала газета "Федулинская правда". Общественное мнение разделилось: Алихман-бек в случае переподчинения игорного бизнеса обещал пустить по городу бесплатный автобус; Бакула Вишняк, опытный партийный интриган, упирал на то, что он русскоязычный и, следовательно, ему ближе чаяния и нужды простых людей. Недавно Алихман-бек в последний раз предложил мировую из расчета пятидесятипроцентного дележа, но упрямый Вишняк по-прежнему артачился, накликая погибель на свою седую башку.
Оглядевшись, Мышкин направился к бару, где орудовал старый знакомец Жорик Вертухай. Тоже странной судьбы человек. Появился в Федулинске, как и Мышкин, неизвестно откуда, пару-тройку лет, до наступления всеобщей свободы, беспробудно бомжил на рынке, а теперь, пожалуйста, надел сомбреро и устроился барменом в фешенебельное заведение, косил под разбитного кубинца-эмигранта. Иными словами, Жорик являл собой наглядное воплощение американской мечты.
Мышкину обрадовался.
– Какой гость, блин! – зашумел на весь зал. – Сто лет не видал тебя, Харитоша. Чего налить? Пива, водки?
Пиво баварское, прямиком из Мюнхена. Да ты вроде уже на бровях?
– Кружку "Жигулевского", – попросил Мышкин.
– Зачем тебе эта моча? – загоготал бармен. – Шуткуешь, брат?
– Хочу "Жигулевского", – повторил Мышкин, сверкнув оловянным взглядом.
– Сей момент, сей момент, – Жорик мгновенно сбавил тон. – Понимаю, брат. Мне самому для души, кроме квашеной капустки, ничего не надо.
Из-под стойки выхватил зеленую бутылку, сдернул крышку, перелил в массивную, литого стекла пивную кружку.
– Пей, брат, на здоровье. Креветок дать?
– Заткнись! – Мышкин, пьяно петляя, отошел от стойки и бухнулся за ближайший столик, где расположилась компания из трех девушек и двух бритоголовых парней. Девушки были как на подбор, грудастые, полуголые и пьяные, а один из парней – как раз сборщик налогов Витек Жигалин.
Насупясь, Мышкин залпом выдул половину кружки.
Мутно уставился на одну из дамочек.
– Почем берешь? – спросил строго.
– Тебе чего надо, дедушка? – игриво ответила красотка. – Может, баиньки пора?
– Или зачесалось, дедуль? – поддержала подружка, настраиваясь на потеху.
Витек с приятелем молчали, не вмешивались в разговор, но не потому, что чего-то опасались: им было любопытно, до какой наглости дойдет оборзевший сожитель старой сучки, Тарасовны. Да и чего им бояться: они молоды, в стае, за ними будущее, а этот рыночный опенок налил бельмы и куролесит по старой памяти, но одинок, как перст.
Мышкин отхлебнул еще пивка, левую руку невзначай протянул к девушке:
– Дакось сиськи пощупать. Не самодельные?
Красотка, хохоча, отбила нахальную клешню.
– Отстань, дед. Все натуральное, не сомневайся.
И сколько положишь за такую красоту?
Мышкин подумал.
– За всех троих четвертной. Сверх того бутылец. Годится?
Девушки обиделись, загомонили и даже перестали хохотать.
– Ты что, шутишь? За четвертной бери Дуньку со станции.
Мышкин возразил:
– Дунька мне и даром дает. Да вы больше нее и не стоите.
– Почему так, дедушка?
– Потому что порченые, и исколотые, и под всякую мразь ложитесь. Еще неизвестно, какие у вас болезни.
– Ты что, совсем опупел, старый хрыч? Чего несешь?
Мышкин надулся:
– Ничего не опупел. Ежели торговаться, то по справедливости. Ваши ребята все заразные. Я на риск иду, за это полагается скидка. Четвертной – красная цена. Но за всю троицу. Одной мне мало.
– Ой! – хором воскликнули девицы, потихоньку заводясь, с удивлением оборотясь на парней. Витек понял: дальше бездействовать неприлично, пора дать старику урок хороших манер. Ухватил Мышкина за ухо и потянул.
– Ну-ка, встань, поганка трухлявая!
Мышкин только этого и ждал: нападения. Морщась, будто от боли, приподнялся на полусогнутых и с правой руки, почти без размаха, залудил Витьку кружкой в череп. Удар нанес с чудовищной силой, массивная кружка лопнула поперек, соприкоснувшись с височной костью, и ручка обломилась. Костный осколок проник Витьку в ящеровидный мозг, и он умер мгновенно, не успев закрыть рот. Роковая трещина пролегла по перекошенному смертным изумлением лицу точно так, как и рана у Егорки. Для Мышкина это было важно. На всякий случай уже голым кулаком он смахнул на пол второго парня, но убивать не стал.
В пивном зале на мгновение воцарилась глухая тишина, словно ангел пролетел.
Девушкам Мышкин посоветовал:
– Уважайте клиента, и он всегда ответит вам добром.
Глава 3
Гаркави чувствовал, что в городе творится неладное.
И дело было не в Алихман-беке, с ним как раз можно поладить, а в общем климате. Что-то повисло в воздухе непонятное уму. Загадочные происшествия, таинственные исчезновения, бред ночных разборок и дневной дурманной суеты – создавалось впечатление, что весь Федулинск разом обкурился анаши. Главное, люди менялись на глазах, и теперь почти невозможно было угадать, кто преступник, а кто порядочный человек.
Подполковник Гаркави прослужил в органах без малого четверть века, пять лет назад возглавил УВД Федулинска и с этого места собирался уйти на пенсию, заполучив на прощание последнюю звездочку, но никакие самые разумные планы не имели смысла, если под ними не было твердой государственной укрепы. Не утешало, что нечто подобное происходило по всей стране. Страна – одно, а собственная семья, дом и мирный оборонный город Федулинск – все-таки совсем другое. За страну пусть отвечают кому положено, а ему, матерому служаке, дай Господи разобраться с проблемами под родимой крышей.
Нашествию кавказцев он не придавал большого значения: это временное явление. Русский медведь, пугавший весь мир, ослабел, изнемог, брюхо у него прохудилось, по виду он почти околел, но это обманчивое впечатление. Рано или поздно он очухается, продерет сонные зенки, заревет, подымется на задние лапы – и тогда от иноземных и всех прочих насильников не останется и следа. Кто не успеет смыться, тому кости переломает. Гаркави внимательно (хобби!) изучал историю, так что понимал это. Похожая ситуация сложилась в Грузии, где у него полно родичей по отцовой линии; Грузия тоже занемогла и ее тоже раздирают на куски хищные зверюги, но это не страшно, это не конец, а возможно, начало нового, долгого пути. Любой народ иногда погружается в смертельную спячку, подобно тому, как сама природа отдыхает под снеговым покровом, безмолвная, безликая и безгласная.
Удручало, настораживало другое: естественность всеобщей человеческой апатии. Словно, обкурившись анаши, население Федулинска утратило способность к душевным упованиям. Отношения преступника и жертвы стали здесь как бы нормальным фоном жизни. Опасный призрак перерождения общественного организма, мутации социальной среды в сторону первобытных инстинктов.
Утром просмотрел сводку ночных происшествий: Боже ты мой! Два убийства (предположительно, на бытовой почве), семь изнасилований (цифра почти стабильная, если брать за месяц), два с тяжелыми последствиями: у жертв – шестнадцатилетняя и четырнадцатилетняя девушки – отрублены головы; исчезновение пятилетнего карапуза (вечером сидел в песочнице, лепил домики, хватились: ни малыша, ни песочницы); авария на въезде в Федулинск, два "мерса" столкнулись с КРАЗом, трое погибли, трое в реанимации, ни одного трезвого; кражи, налеты, ограбление с применением газовых пистолетов (три девушки раздели загулявшего командировочного из Торжка), куча мелких непроверенных сигналов – хлебай не расхлебаешь! Да еще вопрос, с кем расхлебывать. Из настоящих профессионалов под началом Семена Васильевича осталось три-четыре офицера, да и те, судя по оперативкам, сытно подкармливались у Алихман-бека.
Почему-то особенно задела внимание пьяная драка в пабе "Бродвейская гвоздика". Пожилой мужчина Мышкин Харитон Данилович зарубил пивной кружкой одного из боевиков Алихман-бека Витюшу Жигалина – по показаниям свидетелей, не поделили юную проститутку Клавку "Барракуду", оторву из самых центровых. С Жигалиным и Клавкой все ясно, с Мышкиным – нет. Подполковник его помнил: основательный, немногословный мужик с туманным прошлым. Сожитель и партнер известной федулинской предпринимательницы Прасковьи Тарасовны Жемчужниковой. Не ходок он по ночным притонам, ох не ходок. И непохоже, чтобы из-за распутной девки схлестнулись, ох непохоже. У Витька и у Мышкина уровень преступного мышления совершенно разный, между ними нет точек соприкосновения.
Кликнул дежурного:
– Где Мышкин?
Молодой сержант-новобранец (гостинец из областной милицейской школы) звонко отрапортовал:
– В камере, товарищ подполковник.
– Что делает?
– Я так понимаю, отсыпается после пьянки.
– Давай его сюда… И слышь, сержант, улыбочку эту ехидную прячь, когда разговариваешь с начальством.
– Есть, товарищ подполковник.
Мышкин вошел в кабинет уверенно, будто не был задержанным, а, скорее, напротив, явился с жалобой.
Коренастый, громоздкий, лицо помятое, с тяжелыми веками, пересеченное крупными морщинами, но глаза молодые, ясные, хотя одно с ледяным бельмом. Серьезный, конечно, мужчина, очень опасный, но про это подполковник давно знал.
– Садись, Харитон Данилович, – пригласил Гаркави. – В ногах правды нет.
– Благодарствуйте, гражданин начальник.
– Курить будешь?
Мышкин взглянул исподлобья, с пониманием.
– И за это спасибо.
Подполковник угостил его "Золотой Явой".
– Надо же, – удивился Мышкин. – И я их курю. Ваши ребята отобрали.
– Правила для всех одинаковые, Харитон Данилович… О чем хочу спросить. Картина преступления ясная, не в этом дело. Непонятно другое. Мы с тобой пожилые люди, чего нам баки друг другу крутить. Зачем ты поперся в этот притон? Солидный человек, вполне обеспеченный материально, почти женатый. У вас три магазина, точки торговые, землицы, слышал, прикупаете. Дом – полная чаша. А в этой "Гвоздике" одна шушера вьется.
Чего ты там потерял?
– Бес попутал. Выпимши был.
– Это не ответ, Харитон Данилович. Я тоже выпимши бываю. Ляжешь с сигареткой возле телика, пивко под боком, внучок на пузо сядет – хорошо! А тебя, выходит, на молоденькое мясцо потянуло?
– Выходит, так. – Мышкин как бы смутился, прятал глаза. – Я ведь, Семен Васильевич, плохо помню, что произошло. Все в тумане. Сидел, вроде никого не трогал, ну, может, за дамочкой поухаживал… А этот на меня кинулся, здоровенный такой бугай. Чуть ухо не оторвал. Да их там целая куча, в клочья бы изорвали. У них железки всякие и стволы в карманах. Видно, Господь уберег. Как кружкой махнул – уж не помню. Не повезло хлопцу, просто не повезло.
– Все правильно излагаешь, – Гаркави кивнул одобрительно. – От суда откупишься задешево. Да при ваших с Тарасовной капиталах, полагаю, не дойдет до суда. Мелочевка… Но ведь есть другой суд. Парень на Алихмана работал, Алихман не простит.
Мышкин едва заметно улыбнулся, промолчал. Гаркави вздохнул.
– Ладно, это меня не касается… Но вот гляди, Харитон Данилович, мы одни с тобой, ничего не записываю, жучков нету, признайся по-дружески. Дальше этих стен никуда не пойдет. Зачем убил? Ведь кто ты и кто он.
– А кто я? – удивился Мышкин.
Подполковник надул толстые щеки и глаза сожмурил в приятные щелочки.
– Не стоит, Харитон. У нас дружеский разговор, не допрос. За новыми ксивами прошлое не спрячешь, уж поверь.
Документы у тебя чистые, сработаны на совесть, я проверял. Хоть на экспертизу посылай. Геологоразведчик, экспедитор, охотник, бродяга – может, все и так. Может, ты вообще самый честный человек, каких я встречал за всю жизнь. Не спорю. Верю. Но ведь и я, Харитон, не даром хлеб жую, общаясь с вашим братом. У тебя, Харитон, не в документах, на лбу клеймо. Такое клеймо не сотрешь, чересчур ярко горит. Для тебя такие, как Витек, вечная ему память, на один щелчок забава. Но это раньше было, в прежние времена. Нынче по-другому обернулось. Ты в глухом схороне, а они, Витьки эти самые, правят бал. Разве я не прав?
Мышкин затушил окурок в чугунной пепельнице.
– Сложно говорите, гражданин начальник. Не пойму, куда клоните?
– К тому клоню, что смута на дворе, – подполковник ухмыльнулся. – А в смуте трудно угадать, кто кому друг, а кто враг. Подумай, Харитон.
– Вы мне что же, сговор предлагаете?
– Почему бы и нет? С Алихманом тебе в одиночку не сладить, а я, глядишь, подмогну при нужде.
– Ошибаетесь, Семен Васильевич. Мне Алихман-бек дорогу не перебегал. Он оброк положил, мы исправно платим. Весь город платит, у меня претензий нету. Он в силе, без вопросов.
– Не хочешь откровенно? Да я и не надеялся. Я мент, ты преступник. Через себя не перешагнешь. Но все же, Харитон, запомни мои слова. Не Алихман страшен, а тот, кто за ним придет.
– С вашего позволения? – Мышкин потянулся за второй сигаретой, прикурил. Лед в его глазах чуток оттаял, и это было почему-то приятно подполковнику. – Чудной вы человек, Семен Васильевич. Слышал, что чудной, теперь сам вижу. Или кого боитесь?
– Боюсь, – признался Гаркави. – Иногда, знаешь, такое мерещится… Боюсь, выйду однажды утром из дома, а людей никого не осталось. Одни волки по улицам рыщут.
Или кто похуже. Ты вон, вижу, крест носишь?
Мышкин поправил ворот рубашки.
– Ношу. Как одна женщина в Сибири повесила, так и ношу, – в голосе Мышкина проявилась легкая, домашняя хрипотца: сломал преграду умница Гаркави. – Она так говорила: антихриста ждете, а он давно уже здесь, между нами ходит неузнанный. Издалека его чуяла, как и ты, Семен Васильевич.
– Что же с ней стало, с той женщиной?
– Жива-здорова, надеюсь.
– Любил ее?
Мышкин, будто опомнясь, поднес ладонь ко лбу.
– Любил – не любил, какая разница… Ловко раскручиваешь, начальник, только напрасно стараешься. Я давно раскрученный.
– Все же хорошо поговорили.
– Хорошо, – согласился Мышкин. – Но хорошего помаленьку…
Подполковник вызвал дежурного, приказал отвести задержанного…
* * *
В камере кроме Мышкина еще пять человек: трое алкашей неопределенного возраста, сизых, как ранние помидоры на грядке; дедок, стыривший у соседки из сарая велосипед, и маньяк-приватизатор Генка Чумовой. Маньяк примечательный, известный всему Федулинску. Его Держали то в областной пересылке, то здесь, в КПЗ, то в психушке, но нигде не находили ему постоянного применения. Подержат – и отпустят до нового случая. История его такова. Был нормальный человек, оборонщик, работал чуть ли не начальником отдела, нарожал детей, защитил докторскую, но начитался, видно, газет, насмотрелся телевизора, и однажды в голове у него что-то заклинило.
Лег спать здоровым, а проснулся – приватизатором. Решил, раз капитализм построили и все теперь дозволено, то при небольшом старании и ему кусок обломится. Придумал Гена, тогда еще Чумаков, хитрую штуку. Собрал все сбережения свои и жены в кучу и подкупил мелкого клерка из мэрии, который спроворил ему солидный документ со всеми печатями и необходимыми подписями. По документу выходило, что гражданин такой-то и такой-то, то есть сам Чумаков, на законных основаниях, на конкурсной основе приобрел в личную собственность водонапорную башню на территории опытного завода, снабжавшую, кстати, артезианской водой половину Федулинска.
На праздник 8 Марта пробрался на территорию башни, вывесил на ней самодельную табличку: "Частное владение" и с помощью заранее завербованного за две бутылки водки истопника Демьяна Заколюжного отключил систему водоснабжения. Затем по телефону передал городским властям требование внести немедленно арендную плату в размере ста тысяч долларов, грозя в противном случае штрафными санкциями за каждый просроченный день. На связь с рехнувшимся приватизатором вышел лично мэр Масюта и попытался урезонить безумца.
– Геннадий Захарович, дорогой мой, что же вы такое придумали? Культурный человек, извините за грубость, позволяете себе хулиганский поступок. Наших милых женщин хотя бы пожалели, им, выходит, на праздник ни постирать, ни постряпать. Несерьезно как-то.
– Почему несерьезно? – удивился Чумаков. – Документы оформлены по закону. Башня моя. Извольте платить. Что же тут несерьезного?
– Хорошо, согласен. Приезжайте в мэрию, посмотрим документы, обсудим все в спокойной обстановке. Если бумаги в порядке, заплатим. Если нет, передадим дело в арбитражный суд. Но так, как вы действуете, это же чистое самоуправство.
– Я вам не верю, – отрезал Чумаков. – Какой еще арбитражный суд? Сначала деньги, потом переговоры.
При коммунистах попили бесплатной водички, хватит.
Лавочка прикрыта.
– Можно считать, это ваше последнее слово, господин Чумаков?
– Именно так. Платите за аренду, иначе – санкции.
Пришлось посылать на башню взвод ОМОНа. Чумакова повязали – с купчей в одной руке и с монтировкой в другой. Сопротивления он, в сущности, не оказал и помяли его больше для проформы: сломали руку и отбили почки. Впоследствии, при переводе с места на место (психушка, тюрьма, КПЗ), с ним тоже обращались в щадящем режиме, ибо он был спокойным, тихим сумасшедшим с философским уклоном – сказались полученные до приватизации высшее образование и научная степень. Но все же за долгие месяцы принудительных скитаний от него в натуре мало что осталось от прежнего: самостоятельно передвигался с трудом, мочился под себя, оглох, один глаз выбит, другой затек сиреневой опухолью, да и мудрости у него поубавилось: твердил, как попугай, две заветные фразы: "Бенукидзе, значит, можно, а мне нельзя, да?"; и вторая, почерпнутая из классической литературы: "Правда себя окажет, надо только потерпеть".
Очутившись в камере, Мышкин спихнул с нар чье-то тряпье и улегся на спину, с расчетом подремать. Тут же к нему подполз чумовой приватизатор.
– Харитон Данилович, а, Харитон Данилович?
– Чего тебе, Гена?
– На допрос водили?
– Да вроде того.
– Про меня замолвили словечко?
– Замолвил, Гена, обязательно замолвил.
– И чего ответили?
– Перспектива хорошая. Если не врут, к Ельцину бумага пошла.
– Я же говорил, – в восторге прошептал приватизатор. – Я же всегда говорил: правда себя окажет. Не может того быть, чтобы не оказала. Спасибо вам великое, Харитон Данилович.
– Не за что, Ген.
Алкаши дрыхли, постанывая и ухая, сбившись в причудливый ком. От них тянулся прогорклый, едкий запах.
С другого бока подкатился к Мышкину дед Мавродий.
– Покурить не желаешь, князь?
– У тебя есть?
– А то… – старик ловко скрутил цигарку из газетной бумаги. На вид ему лет восемьдесят – девяносто: седенький пушок на тыквочке, хлипкое тельце, но глаза цепкие, пристальные, как у старой змеи.
– Ты человек знающий, князь… Полагаешь, чего за велосипед дадут?
– В районе десятерика.
– Почему так много?
– Время такое, дед. Чем меньше украдешь, тем больше дадут. Возьмешь миллион, наградят орденом.
Старик не огорчился, прикинул:
– Десять лет плюс к моим – раньше ста не выйду.
Да-а, оказия… Ведь не для себя брал. Правнучек Михрюта весь извелся, у других у всех есть велики, у него нету. Ну уж что, думаю, пусть прокатится хотя бы за ограду. Тут и накрыли. Как думаешь, учтет суд, что не для себя?
– Навряд ли. Если бы "мерседес" угнал, тогда учли бы.
– Понятно… Тебе-то самому что грозит?
– Ничего. Отпустят сегодня. Я человека порешил, в этом преступления нет.
Подремать ему не дали, но хоть покурил. Вскоре пришел сержант, растолкал алкашей, нещадно пиная их ногами, и увел на работу. Следом другой сержант приволок бачок с обедом, который одновременно являлся и ужином: кормили раз в день, на ночь еще наливали по кружке кипятка с какой-то ржавчиной, обозначавшей чайную заварку. Сержант кинул в алюминиевые миски по черпаку горячей пшенной каши, приправленной маслом машинного цвета и запаха. Выдал на троих буханку черняги.
Мышкин снял ботинок и достал из носка смятую денежную купюру пятидесятидолларового достоинства.
– Принеси, соколик, жратвы нормальной и бутылку беленькой.
Сержант сказал: "Будет сделано", – и подмигнул Мышкину.
Значение этого подмигивания Мышкин понял минут двадцать спустя, когда в камеру втолкнули нового постояльца – парня лет двадцати шести – двадцати семи, в кожане, в каучуковых мокасах пехотного образца, с острым и наглым, как у коршуна, лицом. Глаза у парня словно затянуты слюдяной пленкой: ничего не выражают. Мышкину не потребовалось смотреть на него два раза, чтобы уяснить, зачем он пришел. Они с дедом и приватизатором только что разделали на газетке жареную курицу, порезали помидоры и собирались приступить к трапезе.
– Садись, милок, – пригласил Мышкин. – Присоединяйся. За что тебя?
В любом застенке есть добрый обычай: новичок делится своей бедой. В зависимости от поведения и чина его либо прописывают, либо сразу отводят подобающее его положению место. Но последнее – редко, чаще – прописывают. Невинное, но жестокое развлечение для ветеранов-сидельцев.
– Пустяки, – ответил парень, присаживаясь на нары. – Врезал одной падле по сопатке, вот и замели.
– И на скоко? – полюбопытствовал дед Мавродий.
– Чего на скоко?
– Скоко нынче дают за буйство?
– Скоко попросишь, стоко и дадут, – нехорошо усмехнулся вновь прибывший. Заметил бутылку водки, – Ну-ка, ребятушки, дайте глотку промочить.
– Промочи, промочи, – разрешил Мышкин.
Парень поднял бутылку, разболтал, запрокинул голову и толстой струей влил в себя чуть ли не половину содержимого. Красиво получилось. Как в кино.
Торопится Алихман, подумал Мышкин. Телка прислал. Парень, как вошел, ни разу на него не взглянул. Тоже прокол. Так серьезные дела не делаются.
Уже без спроса новичок схватил самый аппетитный кусок курицы и начал методично жевать, рыгая и цыкая зубом. Дед вопросительно посмотрел на Мышкина.
– Ничего, – сказал тот. – Оголодал на воле. Пусть подкрепится.
Подкрепясь, парень вторично потянулся за бутылкой, но Мышкин успел ее убрать.
– Оставь и нам по глоточку, милок.
– Вы что, старичье, – парень зычно загоготал. – Куренка запить – самое оно! Да не жмитесь, пацаны попозже ящик приволокут. Ну-ка, дай бутылку, пенек!
Нахрапом действовал, как таран. Мышкин на секунду усомнился: Алихмана ли гонец? Может, просто придурковатый? Среди нынешней сытой шпаны полно таких.
– Остынь, сударик мой. Зачем людей обижать?
Наконец самоуверенный новичок взглянул на Мышкина прямо, и сомнения развеялись. В хищных зрачках, как на лбу истукана, ясно написано, чей посланец, и примерная цена за услугу и даже его собственная стоимость, несчастного олуха, возомнившего себя суперменом.
– Ты что, пенек, оборзел? – в деланном изумлении прорычал парень. – А ну, говорю, давай бутылку! Повторять не, буду.
Красноречиво сунул руку куда-то себе в штаны. Гена-приватизатор, почуяв неладное, торопко отполз от компании, бормоча под нос:
– Чего можно Бенукидзе, того другим нельзя, что ли?
Мышкин отдал бутылку.
– Бери, пожалуйста, – промямлил, извиняясь. – Действительно, вам, молодым, она нужнее.
– Так-то лучше, пенек, – парень глядел подозрительно, но не уловил подвоха. Дай как тут уловить. Мышкин ссутулился, голову вобрал в плечи, на губах беленькая слюнка – немощный, перепуганный старый сморчок с жалкой, просительной улыбкой. Таких и давить неприятно – вони много. А приходится иногда, если под ноги лезут.
Парня звали Андрюша Суриков, и до того, как он очутился в этой камере, жизнь его текла бурно, красиво.
Отслужил срочную, причем год в спецназе, и там зарекомендовал себя отнюдь не сосунком. После дембеля пометался туда-сюда, даже сунулся сгоряча в Бауманское училище, но вскоре убедился, что бабки даются только смелым и предприимчивым, а без бабок сегодня жить, как без штанов ходить. Вернулся в Федулинск, где его предки по-прежнему вкалывали в "ящике", но уже без зарплаты – смех и тоска. Через знакомых ребят быстро приткнулся к банде Алихман-бека, его приняли как родного. Он вызывал доверие своим простодушным обликом. Алихман-бек два раза удостоил его аудиенции и все чаще бывшему спецназовцу давали ответственные поручения по выколачиванию денег из самых злостных неплательщиков, когда требовалось применить не только силу, но и дар интеллектуального убеждения. Алихман-бек внушал братве: мы не бандиты, мы – новый русский порядок. Быдло должно понимать, что порядок установился навеки и всякое сопротивление бессмысленно. Сурикову приходилось выполнять и щекотливые задания, связанные с большой секретностью, что приятно щекотало его самолюбие, но все же он сознавал, что высокого положения ему в банде не достичь: чужие тут верховодили. Горцы вполне доверяли русским боевикам, которые доказали свою преданность, но лишь до определенного предела. В группировке Алихман-бека иерархия соблюдалась более строго, чем в государственных структурах. Инородец, не имеющий родства на благословенном Кавказе, мог рассчитывать на хороший барыш, на уважение и почет, но никакие на власть. Недовольных карали люто. Если какой-нибудь вольнодумец из россиян начинал задирать хвост, его по-хорошему предупреждали – не горячись! – но только один раз. Потом вывозили за город и публично забивали камнями. "Дисциплина, – учил Алихман-бек, – мать демократии. Без нее русский собака дуреет и поступает себе во вред".
Суриков, краешком глаза заглянувший в Чечню, успевший повидать кое-чего погорячее, чем забивание камнями, не сочувствовал методам Алихман-бека, но помалкивал. Его дело сторона. Ему как раз ничего не нужно: ни власти, ни почета – плати по таксе, вот и все. И тут ему не на что жаловаться, деньги у него теперь по федулинским меркам водились бешеные…
Утром его вызвал Гарик Махмудов, один из советников босса, угостил чачей, порасспрашивал о том о сем: как здоровье папы с мамой, какую телку увел вчера из кегельбана? Будто он, Гарик, слышал, что залетную, под два метра, горбатую и без зубов. Посмеялись оба. Чачу нельзя было не пить – неуважение, хотя она больше напоминала зубной эликсир, чем водку. Потом Гарик процедил сквозь зубы:
– Просьба есть, Андрюха. Сядешь в камеру, приколешь одного старика. Прямо сейчас. С ментами улажено.
Штука, считай, в кармане.
Суриков поморщился.
– Что за старик?
Гарик объяснил: плесень. Давно путается под ногами, но никак не удавалось засечь. А тут сам подставился: в "Бродвейской гвоздике" Витюху Жигалина замочил.
– А-а, – сказал Суриков. – Витюху? Так он сам вечно на всех нарывался.
– Точно, – засмеялся Махудов. – Настырный был пес, но преданный. Бек осерчал. Сказал: тенденция. Никого нельзя убивать без его разрешения. Понимаешь?
– Понимаю. Почему такая спешка?
– Старика вечером его баба под залог возьмет. На улице хуже ловить. У него нор много. В камере удобно.
Сделаешь?
– Сделаю, – согласился Суриков, – За две штуки.
– Штука – цена обычная.
– На воле – да. В милиции, как-никак, – засветка.
Две – это нормально.
Махмудов подумал немного.
– Хорошо, пусть две. Папа тебя любит. Он прибавит.
Не забудь ухи принести…
Напоминание об ушах должно было насторожить Сурикова, но не насторожило. Чем-то он другим был занят в тот момент, может быть, думал о вчерашней Анжеле, которая за вечер выставила его на двести монет, а компенсировала, если трезво прикинуть, от силы полтинник… Напоминание об ушах было красноречивым: известно, что Алихман-бек нанизывает их на нитку и сушит, как грибы, а после развешивает по дому, отгоняет злых духов. Таких ниток с сушеным ушами у него много, но в коллекцию попадают не все подряд уши, а только те, которые принадлежат достойным врагам. Вопрос: может ли быть достойным врагом Алихману некий заполошный рыночный старичок, кокнувший в пьяной драке Витюню Жигалина?.. Не задумался, не насторожился…
Суриков повторил фокус с бутылкой: запрокинул голову и направил толстую струю в пасть, укоризненно глядя на Мышкина поверх донышка, но допить не успел.
Старый пенек с бельмом, уже вроде приготовленный на заклание, хотя пока с ушами, неуловимо махнул пятерней и вбил бутылку ему в глотку. Она вошла глубоко, как энтероскоп при обследовании, показалось, впритык к желудку, и обезоружила, ослепила Сурикова, опрокинула его на спину. Но и в таком ужасном положении он не сдался, заворочался, взбунтовался океаном тренированных мышц… Борьба длилась недолго. Мышкин придавил пальцем его сонную артерию и отключил сознание.
Когда Суриков прочухался, то обнаружил себя связанным по рукам и ногам и увидел сержанта, который только что вошел в камеру.
– Что за шум? – притворно грозно рявкнул милиционер. – Чего не поделили?
– Дерется, – Мышкин протянул сержанту заточку с изящной пластиковой ручкой и узким лезвием чуть ли не в полметра длиной. – Хотел нас с дедушкой на штык насадить. И все из-за водки. Может, алкоголик? Хотя по виду не скажешь.
Генка-приватизатор жалобно хныкал в углу, бормоча:
– Правду не убьешь, она на небесах обретается.
– Ты чего удумал? – еще более грозно обратился сержант к поверженному бойцу. – Ты где находишься, соображаешь?
Суриков хотел ответить, но изо рта вместо слов потекло какое-то розовое крошево.
– Крепко вы его, – тоном ниже оценил сержант.
– Это не я, – открестился дед Мавродий. – На мне, кроме велосипеда, грехов нету.
– В медсанчасть хорошо бы, – посоветовал Мышкин. – Он ведь, когда бутылку вырвал, похоже, от жадности горлышко откусил. Как бы не повредил себе чего-нибудь. Хоть и алкаш, помочь надо.
Сержант развернулся на каблуках и покинул камеру.
Но вскоре вернулся с помощником. Вдвоем они подняли Сурикова и поволокли из камеры. Когда поднимали, он попытался достать Мышкина связанными в узел руками, причем рванулся так сильно, что повалил на себя обоих милиционеров, за что получил от них по пинку.







