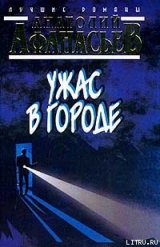
Текст книги "Ужас в городе"
Автор книги: Анатолий Афанасьев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Глава 3
Хакасский ждал важного гостя из Москвы – Симона Зикса. Тот приезжал ежемесячно с инспекцией от старика Куприянова и редко оставался доволен. Угодить ему было почти невозможно, но приходилось лезть из кожи, потому что от его доклада зависело дальнейшее субсидирование программы. По правде, Хакасский на дух не выносил этого лощеного, циничного янки, полагающего, что в России годятся даже такие способы управления, как на Берегу Слоновой Кости. Не просто полагающего, верящего в это, как в Бога. Симон изображал из себя высоколобого интеллектуала, будучи на самом деле мелким, примитивным цереушником. Он не внимал никаким разумным соображениям и следовал лишь тому, что вдолбили в его ишачью башку инструктора из Лэнгли. Быстрей, быстрей, деньги, деньги, дави, дави. У американских спецслужб не было четкого представления о том, с чем они столкнулись в России.
Страх перед дикими миллионными ордами, расплодившимися на необъятных пространствах, слепил им глаза, туманил мозг. Они считали, отчасти справедливо, что если не принять радикальные меры и не довершить так удачно начатое в 1985 году, то не исключено, что красная чума возродится и снова неудержимым потоком хлынет по всему свободному миру. Ко всем явлениям российской жизни эти умники подходили со своими привычными, западными мерками, которые здесь совершенно не годились. Хакасский провел в Штатах на стажировке около года и за это время не сумел убедить ни одного так называемого советолога, что Россия, как ни крути, это особенная, пусть пещерная, пусть неандертальская, цивилизация, со своими законами, экономическими и бытовыми обрядами, а главное, ее население обладает допотопным самосознанием, абсолютно не совпадающим с возвышенным западным стереотипом, столь выпукло выраженным в "великой американской мечте" о всеобщем рынке. Если не учитывать эту кардинальную особенность, то все денежки, потраченные на колонизацию России, окажутся попросту выброшенными на ветер. С русскими бессмысленно разговаривать на языке общечеловеческих ценностей, они будут делать вид, что все понимают (о, это прекрасные актеры, здесь каждый бомж почти что Сара Бернар), но посмеиваться за спиной у миссионеров, а при случае, если зазеваешься, любой из них с удовольствием воткнет тебе в брюхо сапожный нож.
Русские внимают лишь голосу кнута и по-настоящему увлечь их можно только миражами. За красивой сказкой, за своим поганым Белозерьем они побегут на край света, а там – хоть трава не расти. Практицизм им чужд, понятия ответственности и пользы смешны, ленивая созерцательность – вот их родовое свойство, в больном национальном воображении русских все еще неумолчно гудят древние языческие костры. Хакасский ничего не выдумывал, обо всем этом не единожды (иногда с сожалением, иногда с непонятной заносчивостью) писали известные русские историки и философы, а также поэты, начиная с Пушкина и кончая гениальным Бродским.
Симона Зикса он поехал встречать на полевой аэродром, расположенный в десяти километрах к северу от Федулинска. Тот прибыл около полудня на военном вертолете МИ-64, снабженном двумя скорострельными пушками и ракетной установкой класса "воздух-земля". Спустился на землю со своей обычной свитой – двумя телохранителями, черкесами, вооруженными до зубов, как для набега, и юной дамой-секретаршей, которая словно сошла со страниц модного иллюстрированного журнала. Сам ревизор был маленьким, тщедушным человечком, с чистым, ухоженным личиком, с острой черной бородкой и с непомерно разросшейся верхней частью начинающего лысеть черепа. Очки на нем – как два прибора ночного видения.
У трала мужчины обнялись, и Хакасский не отказал себе в удовольствии сжать хрупкие плечики ревизора до хруста. Симон лишь слабо пискнул и поморщился.
– О-о! – восхищенно закатил глаза Хакасский, обратив взор на новую секретаршу. Симон остался доволен:
– Вот тебе и "о-о", Сашенька. Знакомься, Элиза. Можешь поцеловать ручку.
Легкий, псевдоанглийский акцент придавал речи Симона неуловимо подлый оттенок.
Хакасский галантно облобызал даме ручку, окатив секретаршу Зикса алчным взглядом, кивнул янычарам и через поле повел гостей к охотничьему домику, где все было приготовлено к встрече. За столом они болтали о разных пустяках, и постепенно Симон оттаял, смягчился, засиял лукавым взглядом из-под окуляров. Дождавшись этого момента, Хакасский безразлично поинтересовался:
– Как там наш дед? По-прежнему не в настроении?
Торопит?
Симон повел окулярами на потягивающую лимонный коктейль Элизу.
– Давай об этом потом, хорошо? Впрочем, старик, как всегда, в боевой форме, можешь не сомневаться.
В программу визита входили обязательная прогулка по городу, проверка офисных бумаг и, разумеется, дружеский ужин в сугубо интимном кругу.
Начали с традиционного заезда в мэрию. Там их ждали с раннего утра: вся площадь и величественное здание бывшего горкома партии украшены гирляндами цветов, но не в живописном беспорядке, как бывало в старину, а собранными (сюрприз сезона) в прелестную композицию американского флага. Огромный звездно-полосатый флаг гордо реял и над крышей мэрии, висел там с прошлого посещения. На импровизированной концертной сцене духовой оркестр военного округа, едва кавалькада машин свернула на площадь, грянул могучую ораторию "Славься, Америка, навеки!". Среди встречающих вся городская знать – бизнесмены, чиновники крупного ранга, милицейское начальство и для полноты картины с десяток творческих интеллигентов, среди них – очень известный, специально доставленный накануне из Москвы знаменитый правозащитник Сергей Ковальджи.
Улыбающийся Гека Монастырский в сопровождении стайки цветущих девушек-аборигенок в сарафанах и кокошниках (славянский колорит) самолично отворил дверцу головного "мерседеса" и помог Симону Зиксу ступить на гостеприимную землю Федулинска. Тут же краснеющая от выпавшей на ее долю чести, с похотливыми глазами девчушка (дочь бывшего мэра Масюты) с низким поклоном поднесла высокому гостю хлеб-соль на вышитом красными петухами рушнике, а бледнолицый отрок, наряженный Лелем, подоспел с чаркой водки на серебряном подносе. Благосклонно соблюдая дикарский обычай, Симон отщипнул кусочек каравая, опрокинул чарку и милостиво потрепал Машеньку Масюту по худому заду, заодно многозначительно подмигнув синеватому Лелю. Площадь одобрительно загудела: не брезгует барин!
Взойдя вместе с городским начальством на трибуну, Симон отвлекся на любимую забаву: раздача денег населению. Хакасский щелкнул пальцами, и кто-то из подручных подал гостю кожаный мешочек, набитый под завязку металлической монетой. Симон начал горстями разбрасывать серебро в толпу. В мгновение ока мирная площадь обернулась стадом разъяренных, орущих, сплетенных в немыслимые клубки человеческих существ, с неистовыми проклятиями вырывающих друг у друга добычу. В забавном представлении чувствовалась некоторая отрепетированность, для натуральности из города специально подогнали несколько семей бедняков, которых с неделю вообще не кормили, но все равно зрелище впечатляло, и на душе Симона Зикса привычно потеплело. Магнетизм примитивной халявы подействовал и на некоторых представителей федулинской элиты, и уж разумеется, вся творческая интеллигенция во главе с правозащитником Ковальджи, мосластым старичком с неопрятным пухом на голове, чуть помешкав, с первобытным улюлюканьем ринулась в самую гущу схватки. Военный оркестр, побросав инструменты, весь целиком сиганул с помоста вниз. Весело порхали серебряные монетки, трещали черепа, истошно вопили задавленные ребятишки, казалось, желтоглазое солнышко, выглянувшее из-за туч, тоже счастливо улыбалось, глядя на эту идиллическую картину. И так продолжалось до тех пор, пока кожаный мешочек в руках Симона не опустел.
Жертв на сей раз было немного: несколько растоптанных трупов подоспевшие санитары железными крюками уволокли с площади, кого-то, покалеченного, но разбогатевшего, увели домой родственники, да еще, как ни чудно, тяжело пострадал Сергей Ковальджи, хотя, бывая по своей должности и в более серьезных переделках (та же Чечня), он, как правило, оставался невредим. Окровавленный, с расколотым черепом и полуоторванным ухом, он поднялся на помост и, застенчиво, по-детски улыбаясь, показал Симону целую горсть медяков. Пояснил самодовольно:
"Одни, считай, рубли. Мелочевку не брал".
– Вот она, истинная Россия, – задумчиво сказал Хакасский американскому советнику. – Другой никогда не было и не будет.
– Дай-то Бог, – согласился Симон.
Перед тем как увести гостей во внутренние покои, Гека Монастырский обратился к поредевшей толпе с приветственным спичем:
– Россияне! Дорогие федулинцы! Как мы жили раньше, все помнят и об этом говорить грустно. Но и забывать не следует. Перевернута последняя страница позорного прошлого, где нами правили, а вернее, нас уничтожали так называемые комиссары и прочая нечисть. Да, с этим позором покончено, впервые мы вдохнули полной грудью свежий ветер свободы, но все же рано еще говорить, что каждый из нас выдавил из себя раба, к чему призывал писатель Антон Чехов. О нет, так говорить рано!.. – Гека Монастырский картинно простер взыскующую длань над притихшей площадью, и в ответ раздался единый, умиротворенный вздох. – Сегодня нас почтил своим присутствием представитель великой братской державы, вот он перед вами, и я скажу, в чем вижу сокровенный, мистический, если хотите, смысл его пребывания среди нас. Давайте рассуждать здраво, где бы мы сейчас были, если бы не протянутая к нам бескорыстная рука Америки, не ее суровый, спасительный присмотр? Скорее всего, барахтались все на той же помойке, где просидели семьдесят лет. Скажу больше, новейшая история учит: так называемый россиянин сотни лет подряд находился в принудительном свинском состоянии, о чем знает нынче каждый школьник… Но свершилось чудо, под напором демократических сил распахнулся железный занавес, и Америка обратила на нас благосклонный взор. Борис Николаевич облетел на вертолете трижды статую Свободы и в три раза помолодел. Он первым понял: кроме рынка, россиянину ничего не нужно, и как бы его сейчас ни проклинали, мы не имеем права забывать об этом. Именно благодаря президенту бедный российский обыватель получил возможность увидеть переполненные магазинные прилавки, как во всем цивилизованном мире…
Монастырский увлекся и будто прирос к микрофону, но Хакасский, приблизившись, незаметно ткнул его локтем в бок, и Гека тут же опомнился.
– Извините, заканчиваю, – под гул восторга смахнул с глаз скупую слезинку, дал знать рукой, и оркестр вновь грянул: "Боже, храни Америку!"
В кабинете мэра Симон Зикс устроил городскому голове выволочку. Выволочка тоже носила обязательный, отчасти ритуальный характер. Едва Монастырский почтительно заикнулся об очередной субсидии, Симон резко отрубил:
– Хрен тебе моржовый, а не транш! Обнаглели тут, понимаешь. Никакой ответственности, честное слово!
Только дай, дай!.. Не получишь больше ни цента.
– Но почему, почему? – Монастырский театрально обиделся, надул щеки, вылупил прозрачные, как виноградины, глаза. – Мы же выполняем условия. Вот и господин Хакасский может подтвердить.
– И на сколько же сократилось поголовье в твоем паршивом городишке?
Монастырский приосанился, здесь он был неуязвим.
– В полном соответствии с программой, дорогой Симон. В этом году на одну треть. Остальной контингент практически стерилизован. Создана видимость естественной убыли. Все цифры под рукой, можете проверить.
– Медленно, – сказал Симон. – Пора сделать поправку на азиатский финансовый коллапс.
– Уже сделали. Но в Федулинске, если я правильно понял, отрабатывается мягкий, бархатный вариант. Или я не прав?
– Какое имеет значение, прав ты или не прав… – Симон заметно смягчился. – Пригляди за моими черкесами, а мы с Сашей прогуляемся по городу. Встретимся за обедом.
Поехали на отечественном пикапе втроем – Хакасский, Элиза и Симон, да еще молчаливый водила Григорий, которого всегда подряжали для именитого гостя.
Григорий, пожилой, бородатый мужик из местных, чем-то американцу с первого раза приглянулся. Напоминал ему матерого энкаведешника на пенсии. Сведения об НКВД американец, как догадывался Хакасский, почерпнул из учебных лент разведывательного управления, в которых правдивой информации столько же, сколько в кукише в кармане, зато рассуждал Симон об этой зловещей организации с таким сокрушительным апломбом, словно сам провел половину жизни в российских застенках, в чем проявлял поразительную схожесть с любым российским реформатором-интеллектуалом. Водила Григорий держался с могущественным инспектором независимо, солидно, на подначки отвечал с достоинством: дескать, мели Емеля, твоя неделя, – но сердцем, видно, тоже тянулся к жизнерадостному разведчику и всегда угощал его яблоками с собственного садового участка, ядреной антоновкой с голову младенца.
Сперва, как водится, заглянули в центральный супермаркет. Хакасский разделял мнение американца о том, что атмосфера в торговых рядах лучше всяких референдумов отражает настроение в умах обывателей. В двухэтажном здании провели около получаса, бродя от прилавка к прилавку, прицениваясь к товарам. Симону понравилось, что в магазине полно людей, и, хотя практически никто ничего не покупал, лица у зевак озаренно-восторженные, как у лунатиков. Оценил он и то, что публика в основном состояла из молодых дебилов обоего пола, задумчиво и сладострастно, как на рекламе, жующих жвачку.
Секретарша Элиза выклянчила у хозяина золотое колечко, усыпанное крохотными бриллиантами, и, пока они делали покупку, вокруг мгновенно собралась толпа любопытных. Когда Симон отслоил из пухлого портмоне несколько стодолларовых бумажек, по толпе пронесся счастливый вздох, будто при виде материнской соски.
Воспользовавшись случаем, Симон вступил с народом в летучий контакт.
– Что, девчата, – обратился к трем аборигенкам в живописных попсовых лохмотьях, а точнее, полуобнаженным, – хотите такие колечки?
Девицы ошалело захлопали ресницами и сытно зачавкали жвачкой, как разбуженные свинки.
– О, господин! – пропели в один голос и жеманно захихикали.
– А что, граждане, – повысил голос Симон. – Кто хочет заработать лишний доллар?
В толпе зевак произошло хаотическое перемещение, и вперед выдвинулся высокий, крепкий паренек, тоже со жвачкой, тоже просветленно улыбающийся, но с выбитыми передними зубами, отчего речь у него была несколько приглушенной и невнятной.
– Скажи, барин, что делать, а мы сделаем, – произнес он, приняв характерную позу бычка.
– Кто это мы?
– Да вся здешняя братва.
– А кто я – знаете?
– Еще бы не знать, – в глазах идиота сверкнуло неподдельное восхищение. – Вы – Брюс Виллис. Из "Крепкого орешка".
Симон обернулся к Хакасскому, тот задорно улыбался.
– Здорово, – признал американец. – С виду никаких отклонений. Хоть выставляй на Брайтон-бич.
– В том-то и суть воздействия. Внешний рисунок личности остается узнаваемым. Эксперимент-пси. То ли еще сегодня покажу.
– К боли они чувствительны?
– Минимально. Как бультерьеры.
– Так чего делать, батя? – напомнил о себе идиот. – Кого мочить-то?
– Тебе, видно, все равно кого?
– Так ведь за доллары, не за деревянные, – парень гулко хохотнул, и шелапутные девицы поддержали его эротическим повизгиванием. Видно, слыл у них остроумцем.
На выходе из магазина Симон кинул десятку в пластиковый пакет старухи нищенки с кирпичными щеками и озорными глазами. Вокруг нищенки расположилось с пяток цыганят, на груди у нее висел плакат: "Помогите, Христа ради. Очень кушать хочется".
Симон поинтересовался у Хакасского:
– Как понять? Деталька-то выпадает из общего настроения.
– Не думаю. Тут замысел глубже. Провинция духовно тянется к Москве, а это чисто столичный штрих. Впрочем, нищих в Федулинске немного. Несколько еще на вокзале. У церкви двое. Причем строжайшая ротация. В некотором отношении нищенские точки федулинцы воспринимают как награду. Очередь на полгода вперед.
Из супермаркета подъехали к центральному прививочному пункту, расположенному не в обычном туалетном вагончике, а в двухэтажном доме со ступенчатым крыльцом и с геранью в окнах.
– Сейчас, Симон, познакомлю с одним человечком.
Не пожалеешь.
Сделал знак, и из дверей на асфальт, прямо к ним под колеса, выкинули какого-то ханурика в темном плаще и со всклокоченными, как у лешего, волосами. Полежав немного, ханурик заворочался, закряхтел и начал вставать. На вид ничего примечательного: лет пятидесяти, серая, нездоровая кожа, тусклый взгляд, как у любого полуголодного россиянина. Но опытный ловец душ Симон Зикс подметил в нем какую-то несуразность. Ханурик поднимался с земли с молчаливым, тупым упорством жука, которому оторвали лапы.
– И кто это? – спросил американец. – Чухонец, что ли?
Хакасский объяснил. Это городской поэт-вольнодумец Славик Скороход. При прежнем поганом режиме он уже набрал популярность, издал пару книжек, но у старой власти был на подозрении за свои диссидентские наклонности. По пьяной лавочке его то и дело сажали в кутузку. При наступлении рыночной благодати, как ни странно, поэт ничуть не изменился, разве что книжки у него перестали печатать. Но это понятно: когда на прилавках такое изобилие, кому нужны чьи-то говенные вирши.
Славик Скороход как был, так и остался буйным, пьяным, непримиримым, невыдержанным на язык хулиганом, только если раньше поносил советскую власть, то теперь в открытую, иногда в самой непристойной форме клеймил демократию. Но это все забавные штрихи к портрету, главное в другом. Или удивительно другое. Направление мыслей поэта-вольнодумца не меняли никакие наркотики, даже безупречный "Аякс-18" на синтетической основе. Также он не поддавался гипнотическому зомбированию, что с научной точки зрения вообще необъяснимо.
Как показали новейшие исследования (сенсационные выводы психологов из Мичиганского университета), россияне в массе своей обладали чрезвычайно слабой психикой и в силу этого были склонны к галлюцинациям даже в обычных бытовых условиях, не говоря уж о форс-мажорных обстоятельствах. В сущности, всю российскую, так называемую историю правильнее рассматривать не в контексте мировой цивилизации, а как отдельный, социальный, многовековой мираж. Условно говоря, никогда эта нация не была самостоятельным историческим субъектом, а всегда управлялась внушением извне. Если же по каким-то причинам внушение ослабевало, в России начиналось ужасное метаболическое брожение, как в колбе с бактериями, откуда откачали кислород. Умные правители славянских племен отлично это сознавали и, когда ситуация на их территории выходила из-под контроля, сразу бежали за помощью к соседям. Но это азы историологии, известные ныне каждому образованному европейцу. Однако если вернуться к Славику Скороходу, то получается, что по своим личностным качествам, не совпадающим со славянским стереотипом, он является выродком, мутантом и именно поэтому незаменим для проходящего в Федулинске психосоциального эксперимента. В городе есть еще один похожий на Славика индивид, некто Фома Ларионов по кличке "Лауреат", но о нем особо…
– Я понял, – сказал Симон Зикс. – Позови его.
Хакасский открыл дверцу и поманил вольнодумца пальцем:
– Иди сюда, Славик, разговор есть.
Поэт, волоча ногу и утирая ладонью разбитый рот, приблизился.
– Чего надо, сыч?
– Зачем же так грубо? Давай по-хорошему поговорим. Вот к нам приехал образованный человек, интересуется местными знаменитостями. Ты ведь у нас знаменитость, да, Славик?
Поэт заглянул в салон и неожиданно озорно подмигнул разомлевшей на заднем сиденье Элизе.
– Ты, что ли, образованный, рожа? – спросил у Симона. – Откуда причухал? Никак из Вавилона?
– Славик, ты культурный человек, поэт, а ведешь себя иногда, как сявка, – укорил Хакасский. – Какая тебе разница, откуда он? Говорю же, гость, знакомится с городом – и вдруг такое хамство. Стыдно, ей-Богу! Что о нас могут подумать? Или ты не патриот, Славик?
– Дать бы тебе по сусалам, – мечтательно заметил вольнодумец. – Да мараться неохота.
Симон Зикс, немного шокированный, на всякий случай вдвинулся в глубь сиденья, но Хакасский его успокоил:
– Не суетись, Симоша, он совершенно безобидный.
– Какой же безобидный, натуральный фашист.
– С виду, конечно, фашист, не спорю, но нутро у него мягонькое, как у дыньки. Плохо ты изучал Россию, господин советник. В ней что с виду грозно, то на самом деле рыхло, податливо. Феномен вырождения. Верно, Славик?
– А ты зачем с ними, с оккупантами? – неожиданно обратился поэт к Элизе. – Такую красоту за доллары продаешь. Грех великий. Брось их, айда со мной в лес.
– Хватит, Славик, базланить, я тебя по делу позвал.
– Какое у нас с тобой может быть дело? Ты палач, я жертва. Может, голову отрубишь? Руби, не жалко.
– Может, и отрублю, но попозже, – отшутился Хакасский. – Десять баксов хочешь?
Вольнодумец насторожился.
– Без обману? И чего надо?
– Садись, подъедем к аптеке. По дороге объясню.
Хакасский подвинулся, поэт втиснулся в салон. Симон брезгливо зажал нос, но Элиза оживилась, маняще заулыбалась. И поэт, при виде юного, сияющего лица, оттаял.
– Все химеры, – сказал строго, – кроме любви. Запомни, девочка, она одна правит миром, но не доллар. У нас в отечестве про это забыли. Заменили любовь случкой, а это не одно и то же. Хочешь проверить?
– Увы, я на работе, – зарделась прелестница.
Вокруг дома с аптекой в три кольца стояла очередь.
Накануне объявили по радио, что в городе на исходе запасы гигиенических прокладок, и все жители, у кого оставалась хоть какая-то наличность, с утра сбились к аптеке. Таким образом, уточнил Хакасский, здесь фактически цвет города, средний класс, ради которого затевалось рыночное царство и которому, по словам великого экономиста Егорки Гайдара, уже есть, что терять. Вся эта прослойка в экспериментальной программе проходила под кодовым обозначением: советикус бизнесменшн. Многие из них искренне полагали, что десятый год живут в раю.
– Гостю нужен валидол, – сказал Хакасский. – Сходи, Славик, купи тюбик. Тебя все знают, пропустят. Но с одним условием. Плакатик с тобой?
Вольнодумец достал из кармана пиджака замызганную белую ленту, расправил, любовно погладил. На белом шелке черной вязью выведены слова: "Палача-президента – на суд народа!"
– Он всегда со мной. Чего-то ты химичишь, сыч. Зачем за валидолом с плакатом? Это же не митинг.
– Десять долларов, – Хакасский показал уголок зеленой бумажки.
– Ну, коли так, годится. Прощай, девушка, может, больше не свидимся. Береги себя от СПИДа.
Хакасский подогнал пикап вплотную к очереди, чтобы лучше видеть.
– Гляди, Симон, как интеллигенция относится к провокаторам.
Опоясанный белым шарфом, Славик Скороход смело врубился в очередь, громко вопя:
– Дорогу, купцы! Американская вошь помирает, валидолу просит.
Под азартным напором вольнодумца очередь сперва расступилась, но тут же зловеще сомкнулась.
– Господа, – раздался удивленный, сильно простуженный голос. – Никак коммуняку отловили!
Больше никаких разговоров не было. Вольнодумца молча повалили на землю, потом четверо дюжих мужиков подняли его за руки и за ноги и понесли. Очередь, действуя вполне согласованно и осмысленно, образовала узкий проход, по которому бедолагу дотянули до кирпичной стены. Там дружно раскачали и с размаху, на счет раз-два-три, шмякнули об угол. Снова подняли и снова шмякнули. И так несколько раз. Экзекуция проводилась при глухом, одобрительном молчании толпы. Только какая-то сердобольная женщина горестно присоветовала:
– Хребтом его, хребтом приложите, ребятушки. Чего ему зря мучиться.
В конце концов мужики утомились и оставили Славика в покое, правда, для пущего куража, на него помочились. Их примеру последовали зеваки из очереди. Постепенно вокруг лежащей на земле неподвижной туши вольнодумца образовалась лужа, цветом напоминающая разлитый бурячный сок.
Пресытясь неожиданной потехой, очередь снова выстроилась в прежнем порядке и как бы окаменела. Многие стояли здесь с ночи, и хотя уже два раза на дверях аптеки вывешивали объявление, что сегодня прокладок не будет, никто и не думал расходиться.
Элиза жалобно всхлипнула:
– Он мертвенький, да? А ведь он в меня влюбился.
– Ничего с ним не будет, – успокоил Хакасский. – Отлежится. Он же писатель. У писателей у всех кумпола железобетонные. Сто раз проверено.
– Давайте его положим в багажник.
– Заткнись, – оборвал ее Симон. – Да, Саша, впечатляет. Однако, как я понимаю, это же все химия. Генные структуры не затронуты. Где гарантия, что, когда препарат иссякнет, эти существа останутся в прежнем состоянии?
– Не только химия, дорогой Симон. Точнее, да, химия, но с поправкой на российский менталитет. Помнишь, в "Докторе Живаго" есть сцена? Перед стадом овец натянули веревочку. Вожак, головной баран, веревочку перепрыгнул, и тут же ее убрали. Но все остальные овечки все равно прыгали через уже несуществующую веревочку. Это инстинкт – быть как все. Он заложен в гены.
Химия, наркотики – всего лишь дают направление корневому инстинкту. В том-то и суть опыта. Уверяю тебя, далеко не все в этой очереди получили свежую прививку.
Мы начали экономить препарат. И представь, ничего не изменилось. Они действуют по собственной, как им кажется, воле, точно так же, как раньше. Улавливаешь, какие открываются перспективы?
– Куда теперь? – буркнул Симон, и непонятно было, убедил его Хакасский или нет.
– Школа. Вторая экспериментальная. Собственно, она у нас одна осталась.
Со средним образованием в Федулинске обошлись как и в большинстве других поселениях бывшей России.
Те родители, которым средства позволяли, попросту покупали подросшим чадам аттестат, а впоследствии дипломы о высшем образовании. Дети бедноты проходили полугодичный курс в церковноприходских школах, где их натаскивали различать дорожные знаки. Особо одаренных учили алфавиту и арифметике, показывали, как складывать и вычитать числа в пределах сотни. Но имелась небольшая категория горожан, достаточно обеспеченных (мелкие клерки, менеджеры, сутенеры, бизнесмены), готовых отстегивать немалые бабки за то, чтобы их отпрыски годик-другой посидели за партой, как они сами когда-то. Для таких в Федулинске сохранили Вторую экспериментальную школу, в которой, правда, осталось всего два класса – старший и младший.
Обучение, естественно, велось по новейшей западной методике, в чисто игровом ключе, и директором назначили массовика-затейника из бывшего Дворца культуры, пенсионера и балагура Германа Архиповича Кудрявого.
Перед тем как осесть в школе, Герман Архипович пил по-черному, пару раз попадал в больницу с приступом белой горячки и среди местных алкоголиков носил кличку "Сатана". Директором его поставили по рекомендации Монастырского, коему он приходился дальним родственником, но и объективно трудно было подобрать лучшую кандидатуру на эту должность. Большинство прежних учителей (в основном совкового помета) уже поумирали, а те, что остались, едва волочили ноги от хронического недоедания, и слава Богу, если у них хватало сил проводить по два-три урока за смену, учитывая даже то, что уроки, в соответствии с постановлением Министерства образования, сократились с обычного академического часа до двадцати минут. Дольше всех из прежнего состава держалась ботаничка Мария Ивановна, крепкая сорокалетняя женщина, фанатичная приверженица Макаренко и Ушинского, что уже свидетельствовало об умственном надрыве. Мария Ивановна считала всех детей несчастными жертвами общего бескультурья и уверяла, что при соответствующем присмотре и воспитании из любого ребенка можно вырастить героя и гения. Коллеги незлобиво посмеивались над ее шизофреническим идеализмом и предрекали, что при таких архаичных представлениях она, скорее всего, плохо кончит. Так и случилось. Старшеклассники, которым она изрядно поднадоела своим вечным нытьем о "добрых чувствах", "спасительной благодати цветов и трав" и всякой подобной чепухой, однажды затащили ее на переменке в туалет и всем классом дружно изнасиловали, вдобавок пригласили на потеху особо продвинутых пацанов из начальной группы. После этого происшествия Мария Ивановна до конца так и не оправилась. Начала прихварывать, а потом и вовсе уволилась под предлогом душевного дискомфорта. Иногда ее встречали в пришкольном саду, где она бродила среди поникших яблонь и разгромленных оранжерей, в которых в стародавние годы выращивала свои экзотические орхидеи, и если к ней обращались с теплым приветствием: "Как поживаете, Мария Ивановна? Почитываете ли Ушинского?" – пугливо вскрикивала и убегала прочь.
Вместо прежних учителей в школе теперь работали так называемые опекуны-наставники, набранные из вернувшихся с войны милицейских сержантов.
На директорство Герман Архипович подходил по всем статьям: высокообразованный, с крепкой организаторской жилкой, вечно пьяный и немного чокнутый, но умеющий держать себя в руках, и плюс ко всему – прирожденный реформатор-западник с неумолимой склонностью к разрушению. Как он сам пошучивал, в этом вопросе он мог посоперничать с самим президентом. Даже в его рабочем кабинете не осталось ни одной вещи, которую он не раскурочил бы, приспосабливая к нуждам своего вечно алчущего организма. Кличку "Сатана" он приобрел за то, что как-то на спор выпил пол-литра сырой тормозухи, отлакировал ее стаканом "Рояла", закусил вишенкой, и ничего с ним не произошло худого, только из глаз сыпануло зеленоватое, с яркими искрами, дьявольское пламя. Когда он проходил по школьному коридору, за ним тянулся дымный, серный след, стук опрокидываемых стульев и звонкие шлепки раздаваемых направо и налево оплеух. Оба класса, и старший и младший, его боготворили, самые лютые опекуны-наставники побаивались, веря на слово, что он бессмертный, и за глаза уважительно называли его Герман Сатанинович.
Директор, уведомленный заранее, лично встретил почетных гостей на пороге школы и провел в актовый зал, где должен был состояться совместный для обоих классов показательный урок истории под звучным названием – "Суд идет".
Детишек набился полный зал: те, что постарше, сидели в обнимку с девицами, младшие сбились в отдельную кучу, жевали жвачку, гоготали, визжали, тайком дымили в рукав. В проходах между рядами прохаживались дюжие опекуны, с непроницаемо-угрюмыми физиономиями, с каучуковыми дубинками в руках. Герман Архипович занял председательское место, чуть ниже, на противоположных скамьях, расположились педагоги, изображающие прокурора и защитника, и две изможденные, пожилые женщины, одетые почему-то в серую арестантскую униформу.







