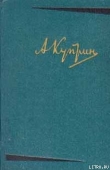Текст книги "Прогноз на завтра"
Автор книги: Анатолий Гладилин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Гладилин Анатолий
Прогноз на завтра
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
– Закрой дверцу, все равно одна пыль идет, – сказал Кузьмич, и я захлопнул дверцу, а «газик» на первой скорости продолжал натуженно карабкаться на перевал, и казалось, вот сейчас его силы кончатся, он остановится и мы покатимся вниз, – и так в этом месте мне всегда казалось, хотя ездил я по этой дороге сотни раз. А потом мы понеслись к обрыву, и я знал, что дальше – крутой поворот и Кузьмич обязательно притормозит, но все равно я каждый раз представлял, как мы загремим с обрыва – перевернемся? а ведь этого не могло быть, Кузьмич изучил все выбоины на дороге, да и я тоже. Я посмотрел через плечо Кузьмича в окно, и далеко внизу мелькнули домики станции, вытянувшиеся в линейку, и озеро, и буро-зеленая долина, и дальше обступившие ее со всех сторон сопки, но пыль, которую поднял «газик», нагнала нас, когда мы затормозили на повороте, и я взглянул вперед, вверх, где на самой большой горе расцвел гигантский, в красных и белых полосах, цветок радиорелейной установки. Солнце оставалось сбоку, но оно сияло во все небо, его лучи били повсюду – такой жары здесь никогда не было. На дороге проступали темные пятна, кое-где даже блестели лужи – но последний дождь прошел неделю назад. Берег озера перед самым поселком был усеян людьми. «Как в Крыму, как на пляже в Ялте, – сказал Кузьмич. Мужчины в трусиках и женщины в купальниках брели через дорогу на сопку. – Надо бы кабинки построить», – сказал Кузьмич. Он родился в Симферополе, он год назад приехал из Крыма, он мыслил еще по-южному. «Ну вот, – сказал я, только кабинок тут не хватает для полного счастья». А потом началась свалка, куски железа, разбитые ящики, ржавые придавленные бочки, мусор, разбитые бутылки – мы въезжали в поселок. Улица швыряла нас вверх, вниз, влево, вправо, трехэтажные и двухэтажные дома, желтые, синие или вообще каких-то бордово-оранжевых диковинных расцветок, пытались создать некоторую благопристойную видимость, но она нарушалась длинными деревянными бараками и маленькими будками известного назначения, стоящими как раз на проезжей части. У здания почты мы пробуксовали по огромной луже, потом вылезли на бугор, потом свернули налево и дальше вниз мимо всевозможных построек эклектическая архитектура, пока еще не получившая названия, – мимо бухты, где у берега сгрудилась разная деревянно-железная дрянь, а большие суда, гордые и одинокие, тихо дымили на рейде. И тут уж Кузьмич погнал вовсю. Справа оставалось море, слева начинались сопки и вдоль дороги тянулся водопровод – словно заживо перенесенный из учебников древней истории, тот самый, «сработанный еще рабами Рима».
В аэропорту я купил билет на Москву.
На обратном пути в поселок Кузьмич остановил машину.
– Смотри, – сказал он, – как далеко отогнало лед!
На горизонте синего, по-южному сверкающего моря низко дымилась белая полоса.
– Это не лед, – сказал я. – Это туман.
– Все равно, – сказал Кузьмич, – завтра утром ты улетишь. Небось часы уж перевел на Москву.
Вечером я позвонил в радиометцентр. Он сказал, что сегодня было 28 градусов – немыслимая жара для этих мест, – и завтра ожидается хорошая погода. Часы показывали час ночи. По-московски – семь вечера. Но я не стал переводить стрелки, я все-таки оставался суеверным. Я завесил окно плащом, ибо солнце било прямо в стеклянную дверцу книжного шкафа, а зайчик расположился как раз на моей раскладушке, и лег спать.
***
Странные цветные сны, которых не помнишь. И только часы, часы – помесь циферблатов различных приборов, часы с четырьмя стрелками – остались. На часах четыре стрелки!
– Скажите, пожалуйста, сколько времени?
***
В комнате было сумрачно. Я натянул свитер и, стараясь не глядеть в окно, вышел на улицу. Холодный ветер ударил в лицо, и это было привычно и знакомо. Низкие облака спускались с сопок на мягких лапах. Туман навис в нескольких метрах над озером и, словно щупальцами, высасывал тепло из воды. Дорога исчезала в начале подъема к перевалу. От дизельной шел человек в ватнике и зимней шапке. Он делал несколько шагов, потом поворачивался спиной к ветру.
***
Я позвонил Васе. Он меня поздравил. Сказал, что туман на неделю. А впрочем, никто точно не знает. Посоветовал связаться с метео в аэропорту. Может, там ожидают прояснения.
Знакомая по голосу девушка-эстонка подробно обрисовала мне карту. Картинка не из радостных. Аэропорт закрыт до двенадцати.
В двенадцать:
– Аэропорт закрыт до шести.
В шесть:
– Аэропорт закрыт до десяти. Самолет из Анадыря прошел в Хатангу. Московский сидит в Норильске.
В десять мне посоветовали спать. Собственно, так и должно было быть. Не могла Арктика простить вчерашнего теплого воскресного дня. В двенадцать я позвонил еще раз, и мужской голос ответил, что Тикси закрыт. Закрыт до семи утра.
...Я действительно суеверный. Я не боюсь черных кошек, но верю другим приметам: понедельникам, тринадцатым числам, счастливым билетам. Я часто вспоминаю тот день и думаю, что мне надо было оставаться. Надо было, хотя понимаю, что нельзя сразу изменить все планы, переиграть давно решенное, начать сначала. Я не первый раз покидал обжитые места, хорошую работу, расставался с друзьями (естественно, договариваясь о скорой встрече, клянясь, что буду писать и т. д.), никогда не писал и никогда их больше не видел, – это какой-то фатум, болезнь, географическая лихорадка: мчаться куда-то в поисках лучшего и потом сознавать, что там, откуда ты уехал, тебе было хорошо. Я никогда не возвращался на круги своя.
Но это неправда. Я всегда ходил по кругу. Кружил вокруг себя.
2
Летом ветры дуют в основном с севера. А зимой – с юга. Южный ветер самый страшный. Он приносит пургу.
В пургу люди ходят по кругу. Подставляешь плечо, отворачиваешься, а правая нога делает шаг чуть больше левой. Опытные полярники это знают и, когда чувствуют, что потеряли ориентировку, идут просто по ветру. Идут, пока не наткнутся на кабель или на ЛЭП, а уж по кабелю можно добраться до Тикси.
Девочка-радист, приехавшая под Новый год на станцию, не была опытным полярником. Она не знала, что надо предупредить товарищей, когда идешь в соседний дом. Она замерзла на следующий день. Ее хватились не сразу, и на поиски бросилась вся станция. Шли, обвязавшись веревками. Вероятно, несколько раз проходили около нее. Ведь она лежала в двадцати метрах от столовой. Она кружила рядом с домом, пока не замерзла. Все это выяснилось, когда стихла пурга.
И потом протянули леер.
Но это случилось до меня. Я уже ходил по лееру.
Весной и осенью видно, как идет пурга. В сером полумраке над стальными застругами воет, надрываясь, поземка, а с юга приближается клубящаяся тьма.
Зимой ничего не видно. Лишь по лееру скачут белые электрические огни.
Считают, что красный свет пробивает пургу. Не знаю. Красный фонарь над своим домом я не замечал. Зато в десяти метрах от столовой я видел белое пятно обыкновенной лампы.
Пурга на станции – это полное одиночество. Обедать идешь через день. В столовой кто-нибудь из ребят мрачно ковыряет вилкой котлету. "Привет". "Привет". – "Как дела?" – "Нормально". И все. Нечего говорить.
Сидишь в домике, обходишься чаем и консервами. Уютно, по-домашнему горят лампочки приборов. Самописец чертит по ленте замысловатые красные узоры. Связь пропадает. Передатчик берет эфир.
Записываешь данные, ковыряешь какой-нибудь аппарат, или просто сидишь, читаешь, или просто сидишь, думаешь, или делаешь вид, что думаешь.
Тепло. Хочется спать. Лишь бы работал дизель. Но дизель при мне ни разу не отказывал.
Однажды из-за меня поднялась тревога. Мы со сменщиком разошлись по лееру. Были рядом, но смотрели в разные стороны, прикрывая глаза рукой, и не заметили друг друга. В столовой Андрей сказал, что меня не встретил. Начальник поднял людей. Хорошо, что догадались заглянуть в наш домик. А я еще удивился: дескать, чем обязан такой делегации?
Сначала кажется, что время остановилось. Потом удивляешься, как стремительно летят недели.
Зайдешь в соседний домик к ребятам. Просто так, посидеть. Или устроишь шахматный турнир с Андреем из двадцати партий. Или заглянешь к Тимофеичу и он достанет бутылку спирта, а жена его приготовит пельмени.
Одиночество на станции? Сидишь и смотришь на разноцветные лампочки приборов. Но связь идет со всем миром. Поступают данные с Востока и Запада, с Якутска и островов, с Аляски и Канады. И ты сам звено в этой цепочке, охватившей ледяные, дымящиеся снежными бурями материки.
Но мне надоело ходить по лееру, и я прочно засел в Москве и потерял себя в огромном городе, городе миллиона лиц, а потому и безликом.
Иногда меня еще спрашивают:
– Ну как там в Тикси?
И я тут же ловлю себя на мысли: "Неужели я там был?" Я чувствую, что мой собеседник ждет каких-то необычных историй, но что я могу ему рассказать? Одиночество на станции? Он не поймет. И я хожу с туза, козырного туза всех полярников:
– В Тикси? Ничего, нормально. Плохо, когда пурга. Мороз тридцать девять градусов. Ветер пятьдесят пять метров в секунду. Три шага от дома и ничего не видно. Будешь кружить, пока не замерзнешь.
Потом я достаю сигарету, закуриваю и смотрю в глаза собеседнику.
3
Я один из шести миллионов. Я капля в реке. Я ощущаю это каждый раз, когда попадаю в метро, – людской водопровод Москвы.
Встаньте на переходе между станцией "Проспект Маркса" и "Площадью Свердлова". По пологой трубе течет людской поток, нескончаемый, в течение семнадцати часов в сутки. Шаркающий, монотонный гул шагов. Сначала вы будете различать пестрые изломанные ряды женщин, островки детей, торопящихся мужчин, которые как-то пытаются лавировать в толпе... Вы сначала будете запоминать отдельные лица – потом все расплывается, уже нет лиц – колышущиеся призраки, волна за волной, бесконечно. Иногда в течение дня вы можете увидеть самого себя, второй, а то и третий раз проплывающего в этом потоке, – опять вы ходите по кругу! Но вот поток замедляется, густеет, возникают водовороты, все медленнее шаг. Спрессованные тела, тяжелое дыхание, спертый воздух. Вы уже не принадлежите себе, вы не можете остановиться, повернуться, вы не упадете – вам остается покорно ждать, пока вас не вынесет на лестницу. Вы не личность, вы беспомощная песчинка в толпе, вы подчиняетесь общему закону медленного движения. Стены сдавили толпу, над вами низкие своды, кажется, сейчас раздастся чей-то истошный крик и начнется что-то страшное – но что, что тогда? Вы вдавлены в людские спины, вы бессильны. Так кто же вы? И существуете ли вы? И что изменится, если вас не будет?
Город – это тысячи лиц, тысячи лиц, которые мы видим в метро, в троллейбусе, на улице. Среди этой тысячи десяток, ну максимум сотня, нам знакомы. Мы невольно улыбаемся им, или, наоборот, отворачиваемся, или тщетно пытаемся вспомнить, где же мы встречали этого человека. Но чаще всего, усталые, замученные своими заботами, мы никого и ничто не хотим видеть. Но это невозможно. Мы втиснуты в вагоны метро, нам ехать долгих двадцать минут, у нас отвратное настроение, – а перед нами опять лица людей, лица, наверное, прекрасные, но нам сейчас они кажутся карикатурами мы не знаем, куда отвернуться, нам просто некуда деться! Мы закрываем глаза или достаем старую газету, вновь читаем про американских империалистов, израильских агрессоров и боннских реваншистов и уже слышанную утром по радио информацию. Нет газеты – и мы с завистью смотрим на счастливчиков, что сидят, уткнувшись в книги, на обладателей свежей "Вечерки", добросовестно проглатывающих объявления типа: "Организация снимает складское помещение на длительный срок". Прошла молодость, когда каждую минуту мы мечтали о встрече случайной, о том, что раскроется дверь и войдет она, прекрасная незнакомка. Прошло время, когда в каждом человеке мы пытались отгадать характер, профессию, семейное положение. Увы, ежедневно три часа на транспорте, и так много лет, складывающихся в годы непрерывного метро – тысячи вагонов, миллионы лиц... Вы выходите (вздохнув с облегчением) на своей остановке. Попробуйте вспомнить тех, кто только что сидел с вами, – куда там!
А эскалатор, как конвейер на выставке, услужливо демонстрирует вам еще несколько сотен человеческих разновидностей – старых, молодых, красивых, уродливых, – но вы зеваете, отворачиваетесь: для вас они все на одно лицо.
Наверное, это не только привычка, это защитная реакция городского жителя – забывать всех, кого он видит за день. А если бы вы их помнили? Представляете, ночью вы закрываете глаза и перед вами мелькает вереница лиц? Но нет, этого не случается. Спите спокойно, сумасшедший дом вам не грозит. Правда, во сне вас посещают разные люди. Приходят друзья и враги, но появляются еще какие-то непонятные лица, тени. Утром вы их не помните. Но откуда они, эти странные незнакомцы?
Вы их когда-то где-то видели. Где и когда – неважно. Вам только кажется, что вы всех забыли, – они возникают, выплывают неожиданно, помимо вашей воли.
Утром, поджарив яичницу на маргарине и испив вчерашний чай, вы блаженствуете в кресле. Вам некуда торопиться, воскресный день, вы просто ждете условного звонка. Взгляд автоматически скользит по обоям. Но что это? Абстрактные черточки на стене (утвержденная в инстанциях фантазия фабричного художника) складываются в нечто знакомое, принимают осмысленное выражение. Вот около выключателя мелькнуло лицо: удлиненный нос, обвисшие щеки, запавшие глаза. Кто это? Не напрягайте память, вы его видели вчера, в вагоне метро – да, тот самый старичок, что сидел напротив.
Все лица людей, которых мы когда-то встречали, фиксируются в нашем мозгу. Мы этого сами не знаем, но это так. Ленты микропленки хранятся в нашей голове, их никогда не проявить, но они существуют и мстят нам за нашу забывчивость. Поэтому все неодушевленные предметы имеют для нас свое человеческое лицо.
И даже на небе облака нам корчат рожи. Они появляются в казацких шапках с окладистой бородой или расплываются легким шаржированным профилем нашего соседа.
Но зачем так высоко забираться? Каждый лист на дереве может состроить любую гримасу.
Присмотритесь внимательнее.
Дома новостроек вытянулись как солдаты с одинаковыми послушными физиономиями.
Азиатский разрез глаз у нового рынка в Черемушках.
У Малого театра сытое выражение толстой пожилой женщины с сонными глазами.
А сухопарые дома на Новом Арбате – вставные челюсти Москвы – те, что находятся справа, если ехать от центра, стоят болваны болванами.
У всех машин слегка вытаращенные глаза, словно они еще не могут отдышаться от быстрого бега. Ощеренное лицо "Волги" и беззубая улыбка "Москвича".
Даже тупые морды троллейбусов и те разные. Один помятый, как после запоя, с подбитым глазом. Другой – новенький, лоснится от самодовольства. Третий сложил дуги, как длинные уши, присел перед прыжком, выжидает.
О животных и говорить нечего. Мордочки кошек напоминают лица знакомых женщин (у каждого свои ассоциации), а все собаки глядят глазами сослуживцев. В длинноногой, неврастеничной борзой с настороженными ушами я узнаю – это мой ночной кошмар – своего начальника.
Мы входим в свою квартиру, и сверху притаившийся электросчетчик облизывается красным языком.
Дверная ручка скосила глаза на свой большой, искривленный, совсем не арийский нос.
Шкаф доступен, беззащитен, сосредоточен на своих мыслях, разложенных по полочкам.
По-наполеоновски нахлобучив трубку, как треуголку, следит за нами телефон.
Чемодан, плотно сжав губы, весь ушел в себя.
Кофейник гордо подбоченился и лихо сдвинул крышку набекрень.
Уж на что унылое рыло у телевизора, а ведь тоже – как идиот от рождения, с большим пустым лбом, – изображает из себя мыслителя.
Ботинки со шнурками, потупясь, выглядывают из-под кровати. У всех моих ботинок всегда одно выражение: они разбиты жизнью, изношены, хотя иногда и пытаются скрыть это под внешним глянцем.
Кровать, словно проснувшись, приподняла голову...
Но хватит. Попробуйте вспомнить лица своих близких, представить их застывшими, как на фотографии. Нет, выражение лиц меняется, колеблется, принимает сотни оттенков. Устоялись, неподвижны лица только тех, кого уже нет. Давно нет. Они врезались в нашу память, но это – копии последней карточки, что глядит на нас со стены крематория.
Теперь закройте глаза. Давайте вспомним свое лицо.
А имеем ли мы свое лицо?
4
Но на забор можно влезть.
Нечто вроде стройплощадки – бревна, ящики, большая катушка с кабелем. И вот с этой катушки я подпрыгнул и вскарабкался. Правда, сначала я оказался на четвереньках, потом сразу выпрямился. Представляю, странное зрелище, человек на каменном заборе среди бела дня, ну не совсем белый день, шесть вечера, но все-таки. Привлекать чье-то внимание, позировать не хотелось. Внизу кусты и открытые участки травы, куда можно было благополучно приземлиться. Полминуты я раздумывал – нельзя ли как-нибудь слезть. Отпадало. Я понял, что пройдет минута, и я ни за что не спрыгну. Тогда я бросил папку. Теперь путь назад был отрезан. "Парашютисты прыгают с трехметровой вышки – подбадривал я себя, – а тут максимум четыре метра". Итак, долго я буду загорать на заборе? Ну!
Я встал, поднял папку, потер ладони. На правой руке проступала ссадина. Ничего. Оказывается, я на что-то еще способен.
И дальше – через кусты я вышел на дорожку – солидный, респектабельный молодой человек – уже не совсем молодой, послушно откликающийся на "дяденьку".
Больные в серых халатах и одноцветных пижамах неторопливо прогуливались по саду. Человек пять ребят играло в волейбол. Нянечки, заняв "узловые пункты", там, где дорожка поворачивала и все просматривалось, мирно беседовали между собой. Кажется, мое появление прошло незаметным.
Она сидела на скамейке с двумя своими новыми подругами. Я окликнул, она обернулась и, конечно, очень обрадовалась. Подруги как-то сразу исчезли, а я смотрел на ее улыбающееся, некрасивое, а может быть, и красивое – я уже давно не знал, какое оно, – лицо моей жены, лицо всегда милое для меня, лицо моей девочки.
– Как ты попал сюда? Через забор? Вот и зря. Сегодня как раз хорошая сестра. Она бы пропустила тебя через первое отделение. Почему ты не поздоровался с Олей и Наташей? Да? Я не слышала. Ну ладно. Как дома? Как Алена?
Я беру ее под руку, и мы идем по аллее, и я говорю с ней так, как разговаривают с маленьким ребенком – растягивая слова, добродушно покровительственная интонация, знак вопроса в конце каждого предложения.
Ну? Ты совсем прекрасно выглядишь, ты, наверное, поправилась? Играешь в пинг-понг? Так у вас тут просто санаторий? Такой глупый – и играет в пинг-понг, разве такое бывает? Ну пойдем сыграем?
И мы играем две партии, а потом делаем круги по аллеям, не торопясь, в общем потоке, и нас обгоняет только сухонький старикашка, он вежливо просит чуть посторониться, он деловито семенит, размахивает в такт руками – почти спортивная ходьба, – он делает два круга, пока мы проходим один. И я, растягивая слова, с той же покровительственно-добродушной интонацией рассказываю, что Алена здорова, что с деньгами порядок, что дома все прекрасно, а на работе – еще лучше. Все, что просила, принес. Что принести в следующий раз?
Бьют в подвешенный кусок рельса. Гонг. Раунд закончен. А может, наоборот, только надо выходить на ринг? А может, это как в театре, конец очередной картины?
Нянечки на узловых пунктах оживились. Они словно подметают дорожки и люди в халатах скапливаются в одном месте, там, где висит рельс.
Мы в конце аллеи. Самые последние.
– Принеси мне иголку. Ладно? Порвалась кофточка. Только передай незаметно. У нас все острые предметы забирают. Обыскивают. Шарят под матрацами. Только скажи им, чтоб мне не делали уколы. Ладно? Я не хочу. Поговори с ними. Не надо уколов. Возьми меня отсюда.
Я смотрю ей в глаза, и в них сейчас страх, и они даже другого цвета, темные, темные без дна, и мне на мгновение кажется, что это не глаза человека – два черных отверстия куда-то в бездну, в подземелье, где хаос, мрак, – это всего мгновение, но меня пронизывает дикая боль, мне хочется кричать, выть, царапать землю – всего одно мгновение, – я отворачиваюсь, чтоб, не дай бог, она что-либо не почувствовала, и, растягивая слова, покровительственно-добродушно завожу обычную бодягу: дескать, нельзя, врачам виднее, новый курс лечения и т. д., но она меня прерывает:
– Да нет, просто так. Я сама знаю, что нельзя.
Мы подходим к рельсу, где санитарки разбивают больных на четыре группы, и тут я понимаю, к чему я все время прислушивался – пение, поет пожилая женщина, поет тихим голосом, бессвязно, какую-то неизвестную мне песню.
– Не обращай внимания. Это из первого отделения. Она всегда поет.
Отпирают дверь, мы входим в тесный маленький вестибюль, больных считают, дверь запирают, открывают другую, мы на лестнице, а за нами щелкает ключ. Я довожу ее до второго этажа. Лестничный пролет затянут сеткой. Отпирают дверь отделения, уводят больных, щелкает замок. Я спускаюсь, жду, когда мне откроют другую дверь в коридор клиники. По коридору, где всегда электрический свет, в большой мрачный вестибюль, где деревянные кресла, провожаемый подозрительным взглядом санитарки, которая в положенные часы принимает передачи, – по каменным ступенькам вниз, хлопает одна дверь, вторая – я на улице, издалека доносится скрежет и звон трамвая. "Еще светло", – почему-то думаю я, хотя пять минут назад гулял по саду, но то, что было там, мне представляется иным миром.
Я стою спиной к двухэтажному зданию из красного кирпича, на котором нет вывески.
5
Но ведь она ни в чем, ни в чем не виновата!
Она просто обыкновенная женщина.
Но в России испокон веков к женщинам предъявлялись какие-то дикие, несуразные требования. Они работали в поле наравне с мужиком, но потом мужик бежал в кабак, а женщина занималась детьми и домашним хозяйством. Быть хорошей женой и матерью – этого, видите ли, мало. Они еще должны были коня на скаку останавливать и входить в горящие избы.
Еще в детстве я замечал, что большинство женщин ходит в сапогах и валенках. Они вкалывали на стройках, ремонтировали железные дороги и мостили улицы. Войну выиграли женщины, ибо на них держался весь тыл. Тяжелое время, вынуждены? Да. Но почему, почему мужчины воевали так бездарно, что допустили немцев до Волги?
***
Нашим женщинам с малолетства вдалбливали:
ты должна быть хорошей общественницей, передовиком производства;
идти в доярки, свинарки, на целину и на стройки Сибири;
воспитывать детей в духе преданности партии и правительству;
вести дом, повышать свой культурный уровень;
делить с мужем все трудности и невзгоды;
куда-то звать и еще немного шить.
А то, что ты плохо одета, – ничего, главное, чтоб человек был хороший, думать о тряпках– мещанство, тлетворное влияние проклятого Запада.
А то, что муж пьяница и не всегда ночует дома, – сама виновата, не могла сохранить семью.
А то, что ты не знаешь, как жить с мужем – но ведь у нас странная мораль: проблемы, волнующие мужчин и женщин, проблемы их взаимоотношений, то, о чем люди думают половину своей жизни, – все это считается аморальным, об этом принято умалчивать. Вроде бы ничего между мужчинами и женщинами не происходит, а детей приносят аисты. Нет никаких проблем, и все.
Решив, что женщина должна быть полноправным членом общества, мы навалили на нее кучу обязанностей: она и сеет, и пашет, стоит у станка и управляет производством, заседает в исполкоме и грызет гранит науки. Требования к женщине такие же, как и к мужчине, и даже больше.
Но мы забыли, забыли слова нашего Главного идеолога. Что он любил в женщине? Слабость! Что он ценил в женщине? Слабость!
Вот в слабости мы ей начисто отказываем!
Женщина входит в метро, усталая после работы, успев по дороге еще забежать в магазины. В сумке полный набор: все для дома, все для семьи. А ведь женщина не тяжелоатлет. Кто-нибудь ей место уступает? Фигу! Но вот повезло, выскочил пассажир, можно сесть, отдохнуть. Не тут-то было. Иронический, лихого вида мужчина пристально, откровенно рассматривает ее ноги. Господи, что случилось? Опять пополз чулок? Задрался край юбки? У всех желтые туфли, как у меня?
Даже одежду такую придумали, что в ней женщина чувствует себя неуверенно.
***
Шофер Кузьмич, подпольный философ, вечерами пускался в рассуждения... "Женщина, – говорил он, – одевается для удобства мужиков. Она как товар в магазине – должна быть чистой и блестящей. Несамостоятельная у ней одежда. Плохо одета – ей завидно, она не хочет выглядеть хуже других. Принарядилась – опять нехорошо: вдруг платье скрывает те места, которые надо подчеркнуть?"
Когда-то давным-давно у меня была знакомая, которая страсть как любила принимать красивые позы. Сидит она, разговаривает – так нет, не просто сидит, а позирует. И когда я приходил к ней на свиданку, она стояла как-то по-особенному, правда, красиво это выглядело, ничего не скажешь. И жесты у нее были эффектные, она словно застывала. И все, любое движение, было мне знакомо, каждый день, когда я видел ее, застывшую, все это мне что-то напоминало. Потом я понял: все жесты, все позы она копировала с манекенов, выставленных на витринах магазинов женской одежды.
Что ж, все это объяснимо.
***
Истину говорю я вам, одну истину. Человеку очень мало надо. Он может жить в коммунальной квартире. Может и без квартиры. Он может работать как вол и за маленькую зарплату. Может и без зарплаты. Жить на хлебе и на воде. И совсем без хлеба. Только обязательно ему надо все объяснить. Если ему объяснить толково, ссылаясь на классику, он все примет.
Хороший из меня проповедник. Себе, во всяком случае, я все объясняю.
***
Вопрос: что такое средний род?
Это из грамматики. Мы привыкли, что все одушевленное в мире – мужского и женского рода. Что такое средний род? Бесполое? Есть ли в каком-нибудь еще языке, кроме русского, понятие "среднего рода"? А может, это гениальная догадка наблюдательного мыслителя, который однажды, случайно попав в метро, увидел навьюченную сумками работницу – она же служащая, она же общественница, она же домохозяйка – неопределенного возраста, со спущенными чулками, которой было решительно наплевать на пристальные взгляды особ мужского пола – так вот, этот находчивый мыслитель и подумал, что может диссертацию защитить, прямо перед ним его кандидатская восседает, а ведь все просто, ввести в науку новый термин – средний род, ведь существо, навьюченное сумками, оно же не иначе как среднего рода.
***
Но жена моя, глупая больная девочка, она ни в чем не виновата.
Как ловко ты устроился! Как хорошо ты все объяснил!
Виноваты все. Всему виной традиции, тяжелое послевоенное время, укоренившееся отношение к женщине, чрезмерные требования и даже политика.
Только ты, ты сам, ни при чем. Здорово?
Она окончила школу и поступила в институт, ибо папа ее был умным человеком и говорил, что женщина должна иметь высшее образование, и лучше техническое: инженеры всегда будут нужны. И она училась четыре года в одном институте, потом бросила и пошла работать, потому что ей не нравилась специальность. Ей хотелось преподавать историю в школе, – но ведь папа сказал, но уже четыре курса технического вуза! Потом она поступила в другой институт, где ей зачли два с половиной года обучения. Потом она перевелась в третий, заочный. Через десять лет она получила диплом инженера.
Зачем? Кому нужны полиграфисты, когда нет новых типографий, а есть новые выпуски специалистов?
Итак, работа не по профессии. Кто виноват? Папа? А ты, ты женился на ней, когда она была на втором курсе. Ты, конечно, ни при чем?
Далее. Все ее подруги довольны работой. Все ее подруги вышли замуж. Мужья помаленьку продвигаются. Защищают диссертации, строят квартиры, покупают телевизоры и магнитофоны, воспитывают детей. Мужья постепенно становятся солидными, начальниками, специалистами. Все как у людей.
А чем может похвастаться Наташка? Сначала ее муж физик. Приличная работа, платят лучше, чем ожидалось, да и вообще к ее мужу отношение прекрасное. Идет на выдвижение, на повышение, диссертация, считай, в кармане. Он уверен, дескать, вот-вот сделает важное открытие, но тут выясняется, что он ошибается или, как ему кажется, он один прав, а все кругом ошибаются. Методы доказательства своей правоты существуют разные, но выбирается весьма оригинальный: муж бросает науку и играет в ресторане на аккордеоне. Потом он уезжает на Дальний Восток и вербуется на сейнер. Потом кто-то зовет его в Певек, где он вдоволь хлебает романтику Севера и попутно получает новую специальность синоптика. Наконец, блудный муж возвращается в Москву. Пора остепениться? Не тут-то было. Оказывается, семья мешает творческим поискам. Опять ему мерещится жар-птица, которую он знает, где ловить. В погоне за жар-птицей Мартынов (то есть ее муж) отправляется в Якутск, потом в Тикси. Некоторая неувязочка. Только через два года он понимает, что жар-птицу голыми руками не возьмешь. Снова Москва. Рядовой сотрудник в Гидрометеоцентре. Иллюзии остались. Но со стороны виднее. А со стороны получается, что прошло пятнадцать лет, а Мартынов был никто и остается никем.
Странная семейная жизнь. Вроде бы Наташка замужем, но только муж неизвестно где. Женщинам на Севере не место. "Что мужчине нужна подруга это тебе не понять". Муж посылает половину зарплаты и считает, что на этом его обязанности кончаются.
Кстати, всюду ли он был в гордом мужском одиночестве? А Ира, которая прилетела в Тикси и жила там как законная жена Мартынова? Это, конечно, никому не известно, да? И потом он с ней не встречался?
Спрашивается, есть от чего попасть в клинику?
6
Однако к делу, братцы мои, к делу. Не для того я стал бумагу портить, чтобы свою жизнь описать – никому она не интересна, моя жизнь, кроме меня самого, – я хочу историю рассказать, последнюю, что произошла со мной. Думал вроде просто – садись и пиши. Так нет, все время отвлекаюсь: воспоминания, рассуждения, мысли всякие и прочая бодяга. Это только в юности кажется, что жизнь пойдет по прямой. А на самом деле бросает тебя из стороны в сторону, куда-то заносит. Вы сами целеустремленно жили или тоже, так сказать, отвлекались? Ладно, я пишу как умею. Кому не нравится – пусть не читает.
Вспомнил! Во многих книгах авторы тоже так заявляли: дескать, кому не нравится – пусть не читает. А сами надеялись – все равно прочтут. Надейся, надейся.
Так вот, как ни крути, а для каждого из нас главное – это производство. У меня производство особое. Я вроде зам Господа Бога по погоде. Четыре месяца я фурыкаю, листаю справочники, смотрю карты, на меня машины работают, считают (умные машины – уравнения вихря скорости как семечки щелкают, нелинейные модели долгосрочного прогноза мне выдают). И еще фотографии со спутников, и еще данные со всех метеостанций Союза, и еще все то, что синоптики в краевых и республиканских управлениях про это думают – все мне надо. А потом, потом я решаю: вот такая погода будет в таком-то месяце там-то и там-то. Ну не один я решаю. Целая шарага. И не я самый главный. Но и не последний. И хоть потом прогноз обсуждается на всех инстанциях, утрясается, утверждается, но выходит он за двумя подписями тех людей, которые непосредственно отвечают, с кого потом стружку снимать будут, если что не так. И моя подпись – вторая.