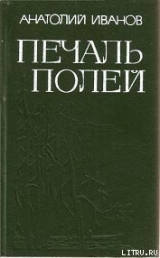
Текст книги "Печаль полей (Повести)"
Автор книги: Анатолий Иванов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Катя кормила Данилку. Еще при появлении Степана, когда он снимал с плеча котомку, из ее рук вывалилась и брякнула об стол ложка. А как раздался его голос, Катя, бледная, как стена, начала медленно подниматься.
– Степа-ан?! – зашлась она криком, чуть не опрокинув стол, шагнула куда-то не то к Тихомилову, не то просто на середину кухни, метнулась, как слепая, туда-сюда, всюду натыкалась будто на глухие стены. И еще раз застонав в последнем стоне, так посреди кухни и рухнула без чувств.
… Придя в себя, долго лежала на кровати без всякого движения. Она понимала, что Степан объявился еще вечером, а теперь вот ночь, чувствовала, что рядом лежит на спине Петрован с открытыми глазами, по его дыханию она всегда узнавала, спит он или так лежит да о чем-то думает.
– Отошла? – спросил он, почувствовав, что Катя пришла в себя. – А я вот слухаю, дышишь, значит, и живая, слава богу.
– Что ж теперь-то… Петрован?! – хрипло спросила она. – Что теперь?
И, затаившись больше прежнего, со страхом ждала его ответа. А он лежал и молчал, будто не слышал ее голоса.
– Поворо-от, – наконец вздохнул он. – Я ему сказал – как решит Катя, так и будет.
– Нет! Не-ет! – дернулась она, будто ее током прошило, цепко ухватилась за его плечо, повернула к себе. Другую руку она просунула под его бок, сцепила замком пальцы на его спине, прижалась щеками к его груди и начала громко и тяжело всхлипывать.
– Ну чего ты? Чего, Кать… – неумело пытался успокоить он ее. – Это уж того, не надо.
– Да откуда… откуда же он объявился-то?!
– В плену, что ли, немецком был. Ну а после войны, грит, в другом. Не всем, дескать, прощали…
– Да это ж… что такое? Да как же?!
– Ну, я подробности не обспрашивал… Сумной он, Кать, какой-то. Говорит, а за каждым словом будто камень утаивает.
– А об детях-то он своих… Али нет?
– Как же… Игнатий, говорю, живой-здоровый, в Березовке счас, учится там в школе. А об остальных у людей, сказал, расспроси. Они те лучше все обскажут. А Катерине ноги, говорю, целуй…
– Ноги… Да зачем ты так?
– А пущай знает.
– Сейчас он где? У нас, что ли, спит?
– Не у нас, – сказал Петрован. – Счетоводиха его, Марунька, к себе увела.
– Марунька?
– Ну. Прибежала она к тебе за каким-то делом, увидела его да так и осела… А потом, значит, и увела. Пойдем, говорит, у меня переночуешь, а там видно будет. Сидорок вон его и палка тут остались…
* * *
На другой день утро поднялось веселое и солнечное, а на душе у Кати было невообразимо как, в сердце, во всей груди жгло горячим огнем. Петрован, несмотря на воскресенье, до зари ушел в свою кузницу, с самого рассвета стучал там на всю деревню. Ребятишки еще сладко спали, Катя топила печь, готовила завтрак, время от времени бросала взгляды на Степанову котомку, лежавшую на полу у стенки. Катя понимала, что мешок лежит не у места, как валяется, что Петрован, придя к завтраку, обязательно скажет – чего не приберешь, мол, он не любил, когда вещи валялись где попало, но подойти к котомке боялась.
Наконец все же подошла, пододвинула в угол, где стояла палка, табурет и положила на него котомку. Мешок был легонький, когда она клала его на табурет, в нем что-то звякнуло, кажется металлическая ложка об котелок. Звук этот вызвал острую боль в сердце. Катя тут же, у дверей, опустилась на голбчик, тяжело и беззвучно заплакала.
В кухню вышла растрепанная и припухшая после крепкого сна Фрося, накинула пальтишко, выбежала торопливо на улицу. Минуты через три вернулась, повесила пальтишко на гвоздь, загремела рукомойником.
– Ух, там какое седни солнышко, мам! – сказала она, вытирая розовые щеки, потом подошла к ней. – А ты все из-за того дядьки плачешь?
Катя привлекла ее к себе, прижала, поцеловала в голову.
– Из-за него, Фросенька.
Девочка о чем-то сосредоточенно подумала и спросила:
– А он чужой нам или нет?
Катя растерялась как-то, не зная, что ответить.
– Он… У тебя был дедушка, который на войне погиб. Вот для дедушки он был как родной сын…
– А-а, – протянула Фрося. – Непонятно только.
– Родимая ты моя! – Катя опять прижала к себе дочь – А мне-то, думаешь, понятно..
Но, как ни странно, этот невразумительный разговор с малолетней дочерью немного привел Катю в себя, она насухо вытерла слезы, вернулась к домашним делам. И когда пришел Петрован, была уже собранной и спокойной. Макеев, видно, не ожидал ее увидеть такой, чуть удивленно двинул бровями, но промолчал.
И завтракал он молча, от чашки глаз не поднимал.
– В воскресенье мог бы и отдохнуть, – нарушила наконец она молчание.
– Да что ж… Посевная-то вот и прикатит.
Завозились и заверещали за дверью проснувшиеся Марийка с Данилом. Петрован, как раз допив чай, поднялся и пошел к ним в комнату. Оттуда донесся его веселый голос:
– Опрудил всю постель молодец-то наш! Ты что же это делаешь, ведь мужик уж почти? Ну-ка, мать, давай нам свежие штаны.
Переодевая сына, Катя вдруг спросила:
– А Марунька вчерась… хмельная прибегала?
– Да вроде бы ничего. Чуток разве припахивало.
Потом Петрован опять молча сидел на голбчике у дверей, курил, глядел на котомку, которая лежала в углу на табуретке. Фрося кормила Данилку, она давно научилась делать и это, и многое другое, на нее и весь дом оставляли теперь чуть не на круглый день. Марийка скребла из чашки сама, а Катя мыла посуду.
– Василиха мне сказала – всю ночь у Маруньки свет горел, потух, как солнце разлилось. И тут же труба задымила.
– Дом-то нам теперь освобождать надо, – сказала Катя. – Ведь в чужом живем.
– Да это что ж, дом. – Петрован поднялся, снял с гвоздя тужурку, стал надевать. – С весны и свой зачнем ладить… коли ты решишь.
Катя как была с полотенцем на плече, так и качнулась к мужу, припала к его плечу.
– Петрован! Я ж ночью сказала… Чего решать-то?! С размолотого зерна уж колос не соберешь. Да и что промеж нас с ним было-то? Все ж у тебя на виду… Ничего и не было.
– Да ладно, Кать… Ну ладно, – сказал он и вышел.
Мария будто караулила, когда Петрован отправится в кузню, через минуту-другую, как он ушел, она распахнула дверь, вбежала простоволосая, в наспех накинутой плюшевой жакетке.
– Катерина! Ну и ночка у меня была! А пуще у тебя!.. – И счетоводиха зашлась слезами. – Вот как ведь выехало! Вот как…
– Ты, Марунь, прибери-ка слезы, – сказала Катя. – Ну, это мне еще плакать, а тебе-то что?
– Да ведь жалко.
– Кого?
– Да что – кого? Тебя, Петрована, его! – сердито прокричала Мария.
– Чего орешь-то? Ну-к, дети, идите к себе, там играйте. Фрося, давай с ними…
Катя выпроводила ребятишек из кухни, обернулась к Марии.
– Я все вроде пережила, Маруня, меня-то жалеть… – промолвила она. – Я и за каленое железо голой рукой возьмусь, так не почувствую.
– Ну да, ну да, – закивала Мария, соглашаясь. Она вытерла слезы, сбросила свою жакетку, прошла к столу. – Дай чаю, что ли?
Катя налила ей в чашку, она отхлебнула.
– Вот те праздничек вышел нам с тобой… Счас он спать лег.
– Рассказывай. Откуда ж он? А то мне Петрован сказал, что будто он…
– Ага, с лагерей. Злобный он на все, аж жутко.
– Вон как… – растерянно произнесла Катя.
– За что, грит, я мыкался? Я в том бою, покуда меня не оглушило, пять танков подбил… Я, Катерина, как привела его к себе, на стол что-то кинула, бутылку поставила. Он выпил – и пошел, пошел с обидой рассказывать. Как он возле пушки там какой-то один остался, других всех побило, как отбивался от танков этих да как в плену у немцев очутился. А после освободили его наши с плена да в лагеря, за то, что сдался, мол, фашистам. А я, грит, не сдавался. А мне не поверили и засудили.
Катя слушала молча, скрестив руки на груди, в глазах ее была разлита сплошная боль.
– До света, Катерина, я с ним так вот за столом и просидела. Спьянел он и орет теперь уж сквозь слезы – ненавижу, мол, все да всех! Поперек ему аж и страшно чего-то сказать было. Потом спросил: расскажи-ка, грит, в подробностях, как дети мои померли, Донька с Захаром, что ж их Катька-то не уберегла?
– Так и проговорил: «Катька… не уберегла?» – выдохнула Катя.
– Этак, – кивнула Мария. – Тут-то меня и прорвало: дурак ты, говорю, дурак, ты мыкался, а мы тут кисель сладкий хлебали. Да и зачала ему рассказывать… про все.
– Про все?! – как эхо повторила Катя слабым, осевшим голосом.
– А что для тебя тут стыдного-то? Али то – как Фроську родила? Пущай, думаю, Степан это все знает. А он… он…
– Ну?!
Мария хлебнула из остывшей чашки.
– А он опять заплакал, Кать.
– Заплакал!
– Ага. Тихо теперь так, неслышно. Зажал лицо-то ладонями, а сквозь них слезы и пошли.
Катя сдавленно всхлипнула, отвернулась к окну, потянула к лицу конец фартука.
– Сердца-то, выходит, у него прежнего еще маленько где-то осталось, вот и проняло. До-олго так сидел. Потом еще водки попросил, выпил и говорит: «Вот за что Катьке ноги-то целовать надо…»
– Перестань! Хватит… – почти простонала Катя, не оборачиваясь.
– А больше и нечего говорить. Просидел он еще молчком да попросил уложить его где-нибудь. Чего, говорю, где, вон моя кровать. Уложила его да к тебе. Чего же делать мне теперь с ним?
– Не знаю я, Марунь. Он сам, наверное, решит, что ему делать. Тут ли останется, уедет ли куда… Погоди ты, может, людской молвы, что ли, опасаешься?
– Что мне, вдовой-то да молодой такой, бояться? – горько усмехнулась Мария. – Тут даже и погордиться можно.
– И не бойся. Пообихаживай ты покуда его, а? Непросто ему счас прибиться куда. С Игнатом тоже вот как у него получится? Он же трехлетним, по четвертому был, как Степан на фронт-то ушел, почти и не помнит его.
Мария допила совсем остывший чай и встала.
– Пойду тогда, а то у меня печка топится. – Она прошла к двери, увидела котомку. – Это его, что ли? Странники с такими вот ходят.
– Его.
– Так я отнесу ему.
Она подняла котомку, постояла в ожидании, видя по Катиному лицу, что та хочет задать ей еще какой-то вопрос, спросить чего-то. И та спросила:
– Что же он… не писал-то после войны? Хоть бы одно письмо… покуда детей у нас с Петрованом не было.
– А я спрашивала, Кать. А он – что, говорит, с тюрьмы-то не мог, говорит.
– Ладно, ступай. Только я прошу тебя, Маруня… Ты никому боле про это… про злобность эту его. Сама говоришь, что и прежнего сердца у него есть еще краешек… А там и все отойдет.
– Да это я понимаю, Катерина, – сказала Мария.
* * *
Весь этот день Катя никуда не выходила, то и дело поглядывала тревожно и боязливо за окна, будто где-то под ними и могла проявить себя стерегущая ее опасность. Но видела лишь, как обычно, ряд домишек вдоль пустынной улицы да сверкающие белым снегом холмы.
Когда солнце пригрело по-настоящему, она велела Фросе с Марийкой покатать маленького Данилу на санках по улице, собрала его, выпроводила детишек, долго сидела одна за пустым столом. Сами собой лезли в голову обрывки пережитого. Свадьба Степана Тихомилова с Ксенией… Ее смерть, в которой глухо обвиняли то Василиху, то эту старую каргу Федотью, неизбывное горе Степана, которое она, Катя, переживала как свое… А потом вокруг ее ребятишки, ребятишки свои и Степана Тихомилова – Мишуха, Николай, Захар, Донька, Зойка, Игнатий, не поймешь, не разберешь, какие их, афанасьевские, а какие тихомиловские. Она всех обихаживала, обстирывала, кормила эту вечно грязную и голодную ораву день за днем, месяц за месяцем… И когда-то вроде она вдруг захотела, чтобы Степан сыграл ей на своей гармошке так же, как играл в свое время для Ксении, а Степан не стал, все отказывался. Вместо этого он, кажется, сказал ей – я б женился на тебе, кабы Ксения забылась. Ну да, так он точно и сказал, а что же она?
Катя наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же она почувствовала и как вела себя после этих слов. Но не могла, время да заботы многое, оказывается, затерли. Да и хорошо, с облегчением отметила она, иначе все то пережитое слишком уж тяжко, а может, и невозможно было бы носить в себе. Но вот что она ясно помнит – проводы Степана на фронт. Всего-то полтора дня дали мобилизованным на проводы, Степан все порывался отвезти детишек своих в детдом, а она, Катя, кричала ему: «Какой детдом? Ополоумел! Будто я уж неживая. Али непривычная к такому делу…»
Вспомнив это, Катя почувствовала, как закапали из глаз слезы. Коли б отвез в детдом их – остались бы живы его Донька с Захаром, а она вот не сохранила их, она, она виноватая в их гибели! Да кто ж знал, что так все получится, что все шестеро, как отец на войну уйдет, с одной с ней останутся, что объявится с фронта Пилюгин Артемий и вместе с матерью своей Федотьей изъедят ее своей ненавистью…
Поплакав, она будто и облегчилась, стала думать, что в гибели его детей она не виновата. Она хотела как лучше. Там, на вокзале, она все кричала ему в ухо: «Не заботься об них… Они же мне давно не чужие… Мамкой, слышал же, зовут…» А Степан отвечал, как пьяный: «… Спасибо, Кать… Спасибо, Кать… Одно скажу тебе, Катя. После смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю как, но ты у меня в душе полный переворот сделала. В общем, как с войны вернусь, и если ты будешь согласная…» Договорить она ему не дала, потому что и так было понятно, что он хотел ей сказать. Когда вагоны уж поползли прочь толстой красной змеей, он все махал ей, свесившись через перекладину поперек дверного проема: «Я тебе обо всем напишу, напишу…»
И вскорости она получила от него письмо, еще с дороги…
Катя встала, подошла к полке, которая тянулась по верху стены от печки до самого угла, – там хранились кастрюли, скалки, сито, деревянная квашня, поварешки, туда же ставились на ночь припасенные к утру всякая снедь, крынки с молоком, чтоб от детишек подальше да кошкам не достать. Полка эта была задернута ситцевой занавеской. Катя отдернула краешек, взяла железную, довоенной еще покупки банку из-под чая, порылась в Степановых письмах, нашла то, первое его письмо с дороги. Катя долго носила его в кармане тогда, конверт весь истерся. Степан писал в нем: «… Катя, Катя, ты в одно поверь, что я тебя полюбил до самого края, а сейчас мне и вовсе стало ясно, какая ты душой необыкновенная. Вот я уехал и во всей полноте почувствовал, сколько тебе придется перенести с моими детьми. Но ты также и знай, как я вернусь – отплачу тебе за все, за все, а коли выйдешь за меня, так я и ветру на тебя пахнуть не дам…»
Такие же письма он писал ей всегда, до тех самых пор, пока они не прекратились. Их не было и месяц, и другой, и пятый, а она все ждала, ждала. Потом сообщили ей о похоронной, и она упала, как в могилу…
Держа листок в обеих руках, она долго смотрела на письмо, больше ничего не различая, строчки слились в темные сплошные линии. Она думала, что из могилы помогли ей выползти добрые люди – дед Андрон, бабка его, Марунька, Дорофеев, Петрован – все. Потянулись, пошли годы, новая жизнь пошла да пошла, а старая проваливалась куда-то все глубже, забывалась все глуше, и вдруг вчера из этого темного провала и объявился Степан Тихомилов. Да как же это, как это?!
Она даже и не слышала, только почудилось ей, что в сенях звякнула щеколда. Но когда заскрипела отворяемая в кухню дверь, Катя, возвращаясь к реальности, вздрогнула, письмо торопливо сунула под клеенку, а сама, напрягаясь всеми жилами, встала, будто навстречу той опасности, которую высматривала все утро через окошки. Но через порог шагнула Лидия Пилюгина, Катя обмякла.
– Что это, Катерина… про Степана Тихомилова по деревне говорят – правда, что ль? – торопливо, обеспокоенно спросила Лидия.
– Да, правда вот.
– Ба-а-тюшки! Да это что ж такое?! – в страхе воскликнула она и села на голбчик, где недавно сидел Петрован.
– Тебе-то чего маяться? Не ты сама, а Пашка твой сгубил в огне сына его Захарку. Так за то получил…
– Да в глаза-то тоже как ему глянуть мне? – простонала Лидия.
После пожара, в котором погибли Захар и Зойка, Лидия, и без того забитая всей прежней жизнью, и вовсе взялась чернотой, будто сама обгорела в том огне, язык у нее как отняли. И лишь когда Пашку увозила милиция, она пробилась к сыну сквозь толпу, подошла к нему вплотную и при всех сказала:
– Чтоб ты сдох там, изверг, такой же лютой смертью. Вот тебе мое последнее материнское слово.
– Что сыну-то родному ворожишь… трясучка голозадая! – взвилась Федотья. – Ишь, Пашенька, какова твоя матерь! Да чтоб у тебя язык отгнил!
Он и вправду будто у нее отгнил. Долго еще после Победы она ходила немее камня, людей сторонилась, в колхозе все годы пастушила в одиночестве. С одними бессловесными животными ей было, видимо, легче.
Катя понимала ее состояние, с лишними разговорами не лезла, за работу хвалила. Лидия к этому, да и ко всем добрым словам других, относилась недоверчиво, оттаивала медленно, как застарелая ледяная глыба, засыпанная землей.
А когда Катя на одном из отчетно-выборных собраний предложила ввести ее в члены правления колхоза, Лидия вскочила как ошпаренная и застыла безмолвным столбом.
– Ты что, Лидия? Не хочешь, что ли? – спросила Катя.
Лидия еще постояла, всхлипнула и, зажав рот концом шали, кинулась из конторы.
Лидию выбрали в члены правления, первое время она вела себя так же нелюдимо, а потом сама пришла в контору.
– Спасибо тебе, Катерина Даниловна, за все… за сердце человеческое. А на меня ты надейся.
– Да я и надеюсь, Лидия.
– Ох, тяжко без людей-то жить…
С того дня Лидия стала меняться быстрее, и вот давно уже была Кате верной помощницей, а душевной щедрости у нее оказалось в достатке на всех. И сегодня Катя понимала, Лидия была встревожена не столько своей, неминуемо теперь предстоящей встречей с Тихомиловым, сколько ее, Катиным, положением.
Посидев какое-то время в унылом безмолвии, Лидия подняла голову, вздохнула и проговорила:
– Ну, я-то уж ладно… хотя голову за то с меня снять по справедливости будет. А вот что теперь-то у вас с Петрованом? Ведь я, как услыхала, аж захолонула.
Катя выслушала эти негромко сказанные слова, подошла к ней, села рядышком. Села, и обе стали сидеть по-бабьи молча и тоскливо, понимая друг друга без слов.
Наконец Лидия вымолвила через силу:
– Откуда ж он объявился?
– Ох, погодим об этом. Схочет, так сам пускай расскажет.
– Сама-то хоть видела его?
– Только и видела, как он в двери вошел… да без воздуха и брякнулась. А сейчас он у Марунькн спит. А может, уже и встал.
– Что же теперь, Катерина?
– Ну что… Вот все утро тыкаюсь между стен как слепая. Петрован-то говорит, добрая его душа: раз такой поворот, то как решишь, Катя, так и будет. А я одно чую – прежнее мое сердце к Степану закаменело, и песок по нему давно пошел да засыпал.
– Так тогда и слава богу, Катерина! – встрепенулась Лидия. – А он разве не найдет кого? Вдов-то сколько нынче сохнет… как пючериц вон в поле.
– Да оно и так можно рассудить, со стороны-то все легко да просто. А ведь мне все это ему сказать надо. И тоже, как тебе, в глаза смотреть и за Доньку, и за Захара…
Лидия только горестно кивала головой, соглашаясь.
Так они, две немолодые женщины, встревоженно судили да рядили – как же произойдет у каждой из них встреча со Степаном Тихомировым. Годы у них разные, Лидия на пятнадцать лет была старше, но по внешнему виду они казались одногодками – обе седоватые, с густыми морщинами вокруг усталых глаз, разве вот только плечи у Кати были попрямее да грудь помоложе, покрепче. Так они, каждая по-своему, этой встречи страшились, а произошла она неожиданно и, главное, была для каждой не столь мучительна. Может, потому, что обе были чуть ньяненькие по случаю возвращения Мишухи.
* * *
О предстоящем приезде своего брата, о котором тот написал еще в январе, Катя как-то и забыла. Появление в Романовке Степана Тихомилова напрочь выбило это из головы. Весь день девятого марта так кругом и прошел. Петрован до вечера ковырялся в своей кузне. Катя, как ушла от нее Лидия, опять бесцельно ходила по комнатам, все у нее из рук валилось, кое-как приготовила мужу и детям ужин.
Ужинали молча, дети тоже сидели за столом притихшие, даже трехлетний Данилка не хныкал, будто понимал, что матери с отцом сейчас не до него.
Когда Катя убирала со стола, а Петрован молча курил на своем обычном месте у порога, она проговорила:
– Ты-то, Петрован, не майся, я же сказала тебе.
– Да я не об себе маюсь. Как ты все объяснишь ему?
– Марунька ему все обрисовала. Она прибегала утром… Он что, на деревне не объявлялся?
– Не показывался. Марунька запершись с ним сидит. Бабенки злословят.
– Дуры если, так пущай.
Десятого марта Петрован пошел на работу поздно, солнце уже высоко играло над холмами. Минуты через две-три, как он вышел, послышался на улице какой-то шум и говор. Катя глянула в окно, увидела бегущую по направлению к ее дому Василиху. Еще увидела из окна, как из двух или трех домов выскочили раздетые, в одних кофточках, бабенки и стали удивленно глядеть туда же, куда бежала Василиха. А тут и в сенях послышался топот множества ног, рванулась дверь в кухню, из сеней ввалился Петрован, обрадованно прокричал:
– Катя! Катерина! Да ты погляди, погляди… Вот!
Он, полуобернувшись, обеими руками показал на распахнутую дверь. Через порог переступил, нагнув голову, широкоплечий парень с большим, сверкающим металлическими уголками чемоданом. Войдя, он поставил чемодан на пол, разогнулся. По одежде он походил на какого-то немалого начальника – на нем было новое драповое пальто с серым каракулевым воротником, из такого же меха шапка, белые дорогие бурки, шея замотана шерстяным, тонкой выделки шарфом. Большими смеющимися глазами, в которых стояли слезы, он несколько мгновений глядел на Катю, затем потянул руку к шапке, сдернул ее. И, прежде чем она сообразила, что это ведь Мишуха, родимый брат ее, он с возгласом: «Ка-атя!» – шагнул к ней, схватил за плечи, прижал к себе и затем, скользя руками по ее телу, упал перед ней на колени.
В кухне у дверей уже толпилось с полдюжины баб, кто-то из них догадался и подставил пошатнувшейся Кате табуретку. Она опустилась на нее, принялась мять у себя на коленях голову брата и, обливая ее теплыми слезами, все повторяла одно и то же: «Мишенька! Мишенька! Мишенька…» А Михаил ничего больше не говорил, только вздрагивала под новым драповым пальто его широкая спина. Бабенки глядели на эту сцену и тоже всхлипывали, а в кухню вваливались все новые и новые люди. Когда она была забита до отказа, Катя будто опомнилась, поднялась с табурета.
– Да что же это мы все плачем-то? Теперь радоваться надо. Бабы, помогите ж мне… на стол чего приготовить. Печь вот заново затоплять надо…
И она припала головой к груди брата.
– Какая счас тебе печь? – закричала Василиха. – Мы сами всего нанесем. Ну-к, бабы, давайте по домам да тащите у кого чего… Да не сразу, а через часок-другой. Пусть Катерина-то с братом повстречаются да наговорятся. Давайте, давайте…
И она принялась выталкивать всех в сенцы.
* * *
Теперь Степан Тихомилов начисто вылетел у Кати из головы, она глядела и не могла наглядеться на брата. Тот, изменившийся до неузнаваемости, превратившийся даже не в парня, а в крепкого, заматеревшего мужика, был все еще немного чужим и незнакомым, хотя она по каждому его жесту, по голосу, по его спокойным и рассудительным словам узнавала прежнего Мишуху.
Когда все из кухни вывалились и они остались одни, Катя беспокойно и растерянно подумала: а как теперь он с Петрованом сойдется? Обо всем, конечно, Катя Михаилу писала в письмах, и он одобрял ее замужество, да ведь письма одно, а как теперь, на деле-то, получится, как примет его Михаил, все-таки Петрован-то инвалид. А Михаил будто мысли ее прочитал. Еще и не вышли все из кухни, он подошел к Макееву, обнял его со словами:
– Спасибо тебе, дядя Петрован, мое большущее… что в самый тяжкий час ты Катю под крыло взял… Человека в ней увидел.
Беспокоилась Катя, как Михаил и Фроську примет, наполовину пилюгинскую. Пока колготились в кухне люди, дети молчком сидели в своей комнате, и Катя краем уха слышала, как старшая ее дочь присмиряла младших. Но и тут все вышло лучше некуда. Обернувшись от расчувствовавшегося Петрована, Михаил спросил:
– Это, слышу, Фрося там, что ли, младших-то наставляет?
– Да кто же еще, – кивнула Катя.
– Ну-к, покажите мне сперва мою старшую племянницу.
Катя вывела Фросю со словами:
– Вот, Фросенька… Это твой родной дядя. Ну что ты, глупенькая?
Девочка, растерянная, молчала.
– Ну, здравствуй, Фрося. Вон ты какая уж большая да красивая. Сколько же тебе годков-то?
– Восьмой. В школу нынче пойду, – ответила она.
– Восьмо-ой! Помощница матери с отцом выросла.
– Да уж и не знаем, как бы мы без нее, – сказал Петрован.
– Ну а коль такая послушница да помощница – глянь-ка, чего я тебе привез.
Михаил, щелкнув замками, открыл чемодан, плотно набитый всякой всячиной, вынул шелковое цветастое платье, косынку, блестящие ботиночки и яркую коробку шоколадных конфет.
– Вот гостинец тебе. На-ко, Фросенька.
Девочка взглянула на отца, который гремел у печки заслонкой, потом на мать.
– Возьми, доченька.
Только после этого она взяла подарки, прижав их к себе, побежала из кухни в комнату. На пороге обернулась с лучистой улыбкой:
– Спасибо…
– Ну, теперь других давайте моих племянников.
Михаил щедро одарил всех – Марийке с Данилом привез ворох всякой одежды и игрушек. Кате подал невиданной красоты шаль с кистями, а Петровану плотного синего бостона костюм.
– Миша, Миша… – только и выговаривала Катя сквозь наворачивающиеся слезы, жалобно и беспомощно. – Да ты чего же… Зачем столько… Это ж какие деньги надо!
– Я ж там работал, Катя, а не баклуши бил. Тюрьма-то – она только для преступников. А вот тебе мой самый главный подарок.
И он протянул ей небольшую коробочку. Катя понимала, что там какая-то драгоценность, невольно отступила назад.
– От ты, как Фрося будто. Так то ребенок. Держи.
Катя подрагивающими пальцами раскрыла коробочку и осела на стул – на бархате лежали большие, крученого золота серьги с искрящимися камнями.
– Это ж… они ж… алмазные! – выдохнула она с неподдельным испугом.
– Да, сказали в магазине, что будто бриллиантовые, – улыбнулся Михаил.
– Да у меня ж… и дырок в ушах нету.
– Теперь проколоть придется.
Оставив коробку с украшениями на столе, Катя поднялась и как пьяная опять упала на плечи брата, глухо зарыдала, затряслась. Михаил, как недавно сама Катя, широкой и сильной ладонью мял ее волосы и говорил:
– Все беды наши, Кать, кончились. Кончились! Теперь жить будем.
* * *
… Через час в дом к Макеевым набился чуть не весь колхоз. Петрован лишь растопил печь, но приготовить они с Катей ничего не успели, да в этом не было и надобности, люди натащили всего сами – и солений, и жарений, и спиртного. И Катя и Петрован от такой людской щедрости поначалу были ошеломлены и растеряны, ведь, – как ни крути, срок отбывал он все-таки за убийство человека, только сам Михаил все принимал как должное, и он же сказал сестре:
– Они ж не за меня, Катя, а за тебя радуются.
– Ох, не знаю, Миша, ничего-то я не понимаю! – воскликнула она. – Все, все на свете почему-то переворачивается.
– А все, кроме человеческого понятия.
Это сказала Лидия Пилюгина. Михаил обернулся к ней и подтвердил:
– Правильно.
Лидия Пилюгина пришла к Макеевым в гости первой, она понимала, что ей надо было прийти вперед других, принесла бутылку водки, кусок розового сала и миску красных соленых помидоров, сказала:
– Вот, Михаил… Примешь ли? – И тут же, глядя ему в глаза, поставила условие: – Только чтоб от всего сердца. Да об Артемии, обо всем прежнем нам с тобой никогда не говорить.
Михаил какое-то время помедлил. Лидия добавила:
– Мы вон с Катериной давно порешили – не было ничего промеж нас с нею прежнего, да и все.
– Приму, тетка Лида, – сказал Михаил, не отворачивая глаз.
– Тогда, Катерина, подай-ка нам стаканчики…
Эта выпитая Михаилом стопка была едва ли не последней, чокался он потом со всеми, чуть пригубливал и говорил:
– Спасибо большое за привет… За Катю вам всем спасибо.
– Да что говорить-то! – воскликнула на это Легостаиха. – Это бабам надо Катерине в ноги кланяться. На каждую у ней души да тепла в такое лихое время хватило. А тебя с возвращением. Если честно сказать, а более ничего и не говорить, так жалели и ждали мы тебя, Михаил.
И Легостаиха, сильно сдавшая и постаревшая за последние годы, выпила целых полстакана.
Раздвижной стол, поставленный в горнице, всех не вмещал, часть людей толпились вокруг него, стояли у стен, а в кухню входили все новые гости, Катя и Петрован метались к каждому, угощали, и каждый говорил им:
– С праздником вас! С возвращением Михаила. С радостью большой.
А откуда Михаил возвратился и по какой причине столько лет отсутствовал – об этом никто ни одним словом даже и не обмолвился.
Наконец Петрован усадил жену за стол рядом с Михаилом. «Ладно, ладно, с остальными да кто еще подойдет я сам покружусь, а ты пристала, попразднуй-ка с братом!» – сказал он ей. Пьяный веселый говор поднимался все выше и выше, послышались уже и песни было, и вдруг все смолкло, сперва на кухне, а потом в комнате – через порог шагнул Степан Тихомилов.
Катя невольно поднялась, а Михаил, державший на коленях трехлетнего Данилку, лишь передал его сидящей рядом с ним Лидии – та с готовностью протянула к ребенку руки – да изумленно поглядел на сестру.
– Мишенька… Я не успела тебе сказать… – промолвила она.
В дверях комнаты застыл Петрован, а за ним стояла, разматывая платок, Мария.
– Что ж… здравствуйте, – в полной тишине хмуро произнес Степан.
– Ты ж, Катя, писала… что похоронная… – проговорил Михаил, ошеломленный.
– Он вчера… ой, позавчера уже приехал.
– Да как же?! Откуда?
– А с того света, – оглядывая горницу, усмехнулся Степан. Он был сейчас чисто выбрит, в свежей рубашке, в поношенном, но хорошо отглаженном пиджаке.
– Был на том, теперь на этом. Ну-к, пусти меня, Петрован, – энергично проговорила из кухни Мария и, войдя в комнату, распорядилась: – Принимай, Катерина, гостя. И всем нечего воздух ртом ловить. Вопросы да расспросы потом, а счас гулять надо. Ну, здравствуй, Михаил Данилыч. Меня-то помнишь, тетку Маруньку?
– Да помню.
– А ты – экий парнина вымахал. Это ж сколько тебе годков теперь?
– Двадцать два вроде.
– Вроде Володи, а зовут Михаил. Ну-к, где наши места, потеснитесь. Садись, садись, Степан, нечего хмуры-то разводить, вот сюда, меж Михаилом да Лидией садись.
Вывалив целый ворох слов, Мария будто заткнула ими ту дыру, откуда пролилась тишина, снова закачался, возникая, говорок.
Михаил налил Степану водки.
– И вправду будет время теперь все друг о дружке расспросить. С возвращением тебя, дядя Степан.
– Что ж, и тебя…
– Лидия, там вон холодца положь, помидорчиков… – протянула Катя чистую тарелку Пилюгиной. Та, придерживая одной рукой ребенка, другой ловко наложила закусок, поставила перед Степаном.








