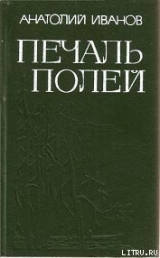
Текст книги "Печаль полей (Повести)"
Автор книги: Анатолий Иванов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
8
… Давно кончились дожди и всякая слякоть, припорошило снегом и село Дубровино, и тайгу, и лесные дороги. Гринька целыми днями катался на лыжах с приобского откоса, возвращаясь домой румяным от морозца, а Обь все катила мимо мазанки Демидова свои черные тяжелые волны, обтекая заснеженный островок посреди реки. Там, за островком, был глубокий омут, богатое зимнее рыбье лежбище, где по первому льду щедро брались на подергушку килограммовые окуни, громадные лещи, «лапти», как называли их рыбаки. Иногда ловилась даже нельма, редкая теперь в Оби рыба.
Наконец могучая река обессилела окончательно, волны стали ниже и ровнее, густо потекло «сало», образовались широкие забереги. Только по стрежню, где течение было на глаз невидимым, но, знал Демидов, тугим и могучим, тянулась полоса чистой воды. У Дубровина стрежень проходил довольно далеко от берега, заворачивал за островок.
Чистая полоса воды день ото дня становилась все уже. По утрам, а иногда и под вечер эта незамерзшая полоса густо дымилась – мороз выжимал из реки последнее тепло, накопленное за лето.
– Ишь мороз-морозило, добрая сила… Молодой, а старательный, – сказал однажды Демидов, глядя на реку.
Гринька привык к неожиданным мыслям отца об окружающих вещах, о природных явлениях, только не всегда понимал их.
– Чго хорошего в морозе-то? – возразил он. – Холодно ведь. Кабы лето все время стояло – это лучше.
– Ну! А вот на лыжах ты кататься любишь… Это как? Без мороза-то бы, без снега? А?
– На лыжах – это хорошо. Только не обязательно, чтобы мороз был сильный.
– Землю-то тоже надо ему укладывать спать. А она баловница, земля, не легко угомонить ее, как мне, бывает, тебя. Вот он и ярится как я. Но разве я со злом покрикиваю на тебя? И он, выходит, тоже по-отцовски ворчит. Разве не добрый он?
– А для чего земле спать ложиться? – спрашивал, сосредоточенный, Гринька.
– А как же, сын! – хмурясь, будто сердясь от Гринькиной непонятливости, говорил Демидов. – Вот ты не поспи-ка ночь, не отдохни – ну-ка? На другой день какой будешь? Бессильный ты будешь… И земля отдыхать должна. Человек ночью отдыхает, а земле для того зима отведена, сын.
– Да что ей отдыхать-то, – не унимался Гринька. – Она – земля и земля, не живая. Не устает.
– Это как – не устает? Не-ет! Она как раз и живая, Гринь, земля-то. Вот ты подумай сам… Утром человек просыпается – румяный, сильный, веселый. И земля весной – тоже. Человек с утра делом начинает заниматься – кто на работу, кто на учебу… И земля тоже за дело с весны принимается – прорастают на ней травы, всходят посевы, деревья листвой одеваться начинают. Все растет, земля соком питает их своим, какой за зиму накопила. А чтоб каждое хлебное зернышко, каждую ягодку, каждый листок вырастить – сколько сил надо?
Гринька думал, что-то представлял, видио, себе, отвечал уже осмысленно:
– Да… Много.
– То-то и вопрос. А окромя того – сколько еще разных дел земля делает? Река вот все лето пароходы на себе носит, ветры – поля и лес новыми семенами засевают, в этих полях и лесах зверье разное произрастает… И много всего другого. А все для кого, а?
– Что – для кого?
– Земля все это делает?
– Ну так… по природе у нее так получается.
– Для человека все это она делает, Гринька! – пошевеливая бровями, говорил Демидов. Говорил таким тоном, будто не только сына, но и себя хотел убедить в этом. – Ты запомни, сын, два закона, может, самых главных в этом мире. Земля любит человека. И второе – человек тоже должен любить ее, землю. Запомнишь?
– Ага.
– Тогда легко жить тебе будет. Тогда-то и не остынет никогда у тебя душа… какую бы подлые люди ни сделали тебе подлость.
Наверное, подумал Демидов, последних слов сыну говорить пока не стоило, потому что Гринька тут же принялся сыпать вопрос за вопросом:
– А подлых-то много людей на земле?
– Встречаются.
– А земля их тоже любит?
– Нет… Не любит таких.
– А почему они подлыми получаются?
– Не знаю… Такими вырастают вот.
– А тебе встречались такие?
– Попадались, сынок.
– А что ты с ними делал?
Да, что он с ними делал? Не надо, не надо бы произносить ему тех слов. Как вот теперь ответить на простой, на очень простой и бесхитростный вопрос сына?
– Пошли спать, сынок. Айда, айда, поздно уж, – заторопился он.
И уж там, в комнате, лежа в постели, чувствуя, что сын ждет все же ответа, проговорил:
– Что я с ними делал, Гринька? Ох, Гринька, Гринька!.. Вырастешь, может, и лучше меня поймешь, что с ними надо делать.
– Значит, ты плохо понимаешь?
– Плохо, видно, сынок.
– А я хорошо, – сказал мальчишка, помолчав.
– Ну? – Демидов даже привстал на кровати, поглядел в ту сторону, где лежал еын, будто и в самгом деле Гринька моог сообщить ему чте-то необыкновенное, какое-то великое откровение, которое он искал всю жизнь и никак до сих пор не мог найти.
– Ихнадо, папа, один на один с землей оставлять и никогда-никогда не помогать им.
– Что-что? – Демидов еел на постели.
Сквозь мрак он не видел сына, слышал лишь, что и Гринька поднялся с подушки.
– Я ведь тоже думал, пап, что земля, наверное, живая я добрая к тому, кто ее любит, кто понимает и умеет с ней обходиться, – сказал Гринька почему-то со вздохом. – И ягодкой в лесу угостит, и с ручейка напоит…
– Ну?..
– А вот ты помнишь – мы еще в сторожке жили – браконьерщик один лося застрелил?
– Как же… Я сколько эа ним гнался тогда, за паразитом, по тайге, пока на берег Оби не выгнал.
– Ну да. Он еще стрелял в тебя.
– Стрелял, сынок. Не попал только, торопился шибко.
– Я знаю, ты рассказывал. А потом, как выскочил на берег, чтобы в лодке уплыть, – ногу в каменной расселине завязил и сломал.
– Так… Так что?
– А то… Добрых людей она любит, а нехороших и сама наказывать умеет. Земля – она с ним и рассчиталась, раз он подлец. И надо было его там и оставить, пущай бы… – сурово проговорил Гринька. – А ты его… на его же лодке в больницу отвез.
– Так… Так, так, – опять трижды произнес Демидов глухо и неодобрительно.
– А чего же с ними, раз они… – воскликнул горячо Гринька. – Он же еще и в тебя стрелял, не только в лося. А ты ведь не животное, а человек.
Что было ответить на это сыну? А отвечать надо, Демидов это чувствовал и понимал.
– Ты вроде, с одной стороны, и прав, Гринька… – Демидов взбил подушку. – А с другой, выходит, и нет. Сердце-то у меня есть али что вместо него? Он, верно, мошенник, тот мужик… Да ведь и человек же, какой ни на есть. Подыхать, что ли, его оставлять было?
– А он бы тебя повез в больницу, коли б ранил?
– Да… С одного боку-то, говорю, правильно ты. А с другого…
– С одного, с другого… По справедливости надо действовать, – не сдавался Гринька.
– Справедливость… Это тоже, сынок, штука мудреная, много сторон имеет. Каждый ее по-своему, видно, понимает.
– Чего – по-своему? Есть же самая справедливая справедливость?
– А вот вырастешь – поймешь: есть ли, нету ли… Ты лучше меня поймешь. А теперь спи, спи, допросчик этакий.
Последние слова Демидов произнес сердито. Сердился он на самого себя, понимая, что не объяснил, не смог объяснить сыну чего-то очень важного и нужного для него.
9
Наконец и самый речной стрежень схватило ледяной корочкой, присыпало снежком, и широкая река стала совсем пустынной и унылой. От берега до берега лежало белое, чистое пространство, такое чистое, что казалось, никто никогда не посмеет ступить на него, никто до самой весны не потревожит покоя уснувшей наконец-то реки.
Но Демидов знал, что это не так, что еще день-два, окрепнет еще немного ледок – и истопчут это белое покрывало люди. Первыми появятся на реке рыбаки. В самом Дубровине, кроме мальчишек, рыбаков почти нет, разве вот Денис Макшеев, всегда жадный на это дело, да еще два-три старика. А из города, что лежит километрах в семидесяти вверх по течению, нахлынут тучи их. Все знают эту зимнюю рыбью стоянку за островком. Сегодня среда, а вечером в пятницу и нахлынут под двойной выходной. Мария это тоже знает, вчерась еще завезла с райцентра неисчислимое количество ящиков водки. И чуть не до утра будет гореть в Дубровине «волчье око». Сама-то Мария к полночи ляжет спать, а Денис до утра будет торчать за красноватой занавеской, выдавая каждую бутылку без сдачи.
При воспоминании о «волчьем оке» Демидов вдруг подумал, что он с тех пор, как разбил бутылку об стену макшеевского дома, не выпил ни капли. И странное дело – ему не хотелось. «Неужто не потянет больше? Да хоть бы! Гриньку надо доращивать… Побалую-ка его ушицей завтра. Правда, самое уловистое место, самая богатая окунем яма – за стрежнем, поближе к тому берегу, туда еще идти опасно, на самом стрежне лед не окреп. Да и тут, у самого островка, ничего ловится… Завтра встанет Гринька, а у меня уж уха! Ешь, сынок, да в школу…»
На другой день Павел действительно поднялся до зари, взял приготовленную с вечера наживку, удочку, пешню. Когда вышел на улицу, ночь еще была настоявшаяся, плотная, звезды горели крупные, перезревшие. Но самая яркая звезда, названия которой Демидов не знал, падала в кустарник на острове. Это означало – скоро будет светать.
Лед, когда Павел шел к острову, тихонько иногда потрескивал. Но треск был нечастый и тихий, неугрожающий, Демидов в этом разбирался. «А вот на стрежень нельзя, – думал он, – там не выдержит, проломится…»
Еще он думал о Гриньке, о том, что так и не сумел разъяснить тогда парнишке, как поступать с подлецами и есть ли на свете самая справедливая справедливость. И что надо теперь, если и потянет к бутылке, ни за что за нее не браться…
Пока шел так, не спеша, и думал – начало зориться, краешек неба на востоке чуть разжижился.
Возле островка Демидов остановился, выбрал место, ударил пешней, с одного раза проткнул ледяную корку. Пешню он положил на лед и не успел разогнуться, как услышал хрипло-истошное:
– Э-эу! Спаси-ите! Люди! Лю-юди!
Голос был искажен смертельным страхом. Но, сколь ни был он искажен, Демидов мгновенно, едва послышались первые звуки, понял, кому принадлежит этот голос. Более того, Павел будто ждал его и не удивился, когда услышал. И еще более того – он уже знал, наверняка знал, что произошло там, за крохотным мыском острова, откуда раздался крик. И внутри у Демидова что-то радостно екнуло, какая то живая пружина, больно растянутая, соскочила с зарубки, сжалась, в одну секунду уняв многолетнюю боль. «Ага… ага!..» – дважды мелькнуло в мозгу удовлетворенно, успокаивающе. И охватило его чувство, будто неимоверной тяжести работа, которую он делал всю свою жизнь, наконец то сделана, закончена, цель, к которой он стремился все эти годы, наконец-то достигнута..
Непонятно иногда, что происходит с человеком. И позавчера, и вчера, и сегодняшнее утро Демидов находился в смутном предчувствии чего-то небывало важного для него, ощущая, что приближается, все ближе и ближе подступает что-то такое, ради чего он мучительно жил все эти годы, ради чего, может, и родился. И это «что-то» было не объяснить, не понять…
– Люди-и! Лю-юди! – опять разнеслось над пустынной рекой, под темным холодным небом, на котором горели миллионы звезд, не дававших света.
«Вот оно!.. Вот оно!» – вспышками сверкало в мозгу Демидова, и он, понимая, что надо идти, надо спешить на крик Макшеева, не трогался с места, ноги его будто прикипели к ледяной корке.
Да, непонятно, непонятно иногда, что происходит с человеком. Полчаса назад, выйдя из жилья, и несколькими минутами позже, шагая неторопливо по тонкому льду, Демидов Павел каким-то чутьем ощущал, что Денис Макшеев, ненавистный и смертельный ему враг, где-то здесь, неподалеку. Перебирая в памяти недавний разговор с Гринькой, слушая, как слабенько потрескивает под ногами, Павел думал еще, что неокрепший лед выдержит и грузную тушу Макшеева, лишь сильнее будет прогибаться и трещать. И у Макшеева тоже хватит ума не ходить пока за стрежень, к богатой рыбной зимовальной яме.
– Спаси-ите! – в третий раз донеслось до Павла.
Голос Макшеева был теперь слабый, безнадежный, обреченный. «Ну да, понимает – кто ж услышит в такой час? – равнодушно подумал Демидов. И так же спокойно отметил: – Пошел-таки за стрежень, не хватило ума. И – пущай, бог-то, видно, есть на свете».
Думая так, Демидов, однако, торопливо шагал уже к островку, приближаясь к песчаному мыску. Почувствовав под ногами присыпанный снегом смерзшийся песок, вдруг обнаружил странное несоответствие своих мыслей и действий. «Пущай, а сам помочь вроде Макшееву тороплюсь! Нет уж… Я только издали гляну – как он… Нет уж!»
Но и подумав так, Демидов не сбавил шага. Выбежав из-за мыска, он увидел впереди, в начинающей синеть темноте, черное пятно на льду, пошел прямо на него, отчетливо понимая, что идти не надо бы, что тоже может каждую секунду провалиться, ухнуть в холодную воду. Он даже представил себе, как это он ухнет – и сразу с головой. Течение тут сильное, за одну-две секунды тело его пронесет подо льдом на метр-полтора и понесет дальше, он будет биться какое-то время головой об ледяную корку, пытаясь проломить ее, понимая, что не проломить, будет биться, с каждым мгновением задыхаясь все больше. «А там, дома, Гринька спит еще… Он проснется, станет ждать, когда я вернусь с улицы…» Это будет последнее, что мелькнет у него в сознании, мелькнет – и потухнет…
– Скорей! Скорей, милый!
До Макшеева было метров десять. Но то ли этот крик, то ли угрожающий треск под ногами, а может, собственные мысли остановили Демидова, заставили бессознательно лечь на лед. Он лег, растянулся плашмя и ощутил, как больно колотится сердце. «Дурак, и в самом деле чуть не булькнул. А за-ради чего бы?..» И еще ощутил под животом, под грудью, под локтями ужасную бездонную пучину, прикрытую тонкой и хрупкой скорлупкой, услышал, хоть и понимал, что услышать этого нельзя, как тугие струи лижут из-под низу эту скорлупу. «Назад, назад! – стрелял кто-то ему торопливо в самый мозг. – Змеей ползи назад… вставать теперь не вздумай!..»
– Еще маленько придвинься, милый, – прохрипел Макшеев. – Лед сдержит. И брось мне чего нибудь… Ремень…
– А ведь я это, Денисий.
– О-о-о!
Бессильная ярость, обреченность, предсмертный хрип – все было в этом возгласе Макшеева, разрезавшем стылый воздух. Демидов ясно различил каждый оттенок в его голосе, усмехнулся, опять чувствуя удовлетворение, холодок в своем сердце.
«А может, нахолодало оно сквозь полушубок ото льда?» – явилась вдруг откуда-то к нему непонятная мысль и заставила поморщиться.
Утро занималось по-зимнему трудно и медленно, темнота все больше наливалась синевой и, казалось, не рассасывалась, а плотнела.
Но Демидов все отлично видел в этой предрассветной мгле, различал даже потухающий блеск Макшеевых глаз.
Голова его торчала из полыньи, не очень широкой, но длинной, метров в шесть… Поперек полыньи лежал шест. Макшеев, обессиленный, висел на нем, а тугое сильное течение пыталось оторвать его тело от шеста, уволочь под ледяную корку ногами вперед. «Видно, все же понимал, что, проходя стрежень, может провалиться, взял с собой шест на всякий случай…» – отметил про себя Демидов.
– Павел, Павел! – дважды воскликнул Макшеев. – Погибаю ведь…
Демидов видел, что Макшеев погибает. Павел давно понял, что тут произошло, почему такая длинная полынья. Провалившись, Денис торопливо пытался выползти из полыньи, опираясь на шест, но хрупкий, тонкий лед подламывался и подламывался. Обломки немедленно затягивало под ледяную корку, уносило. Туда же тянуло и самого Макшеева, но он снова вылезал на стылую кромку, и она снова обламывалась. А тело сводило судорогой от холода и страха, силы уходили, и вот уж не хватает, чтобы еще раз лечь грудью на лед. Он висел на шесте крючком, ноги были где-то подо льдом, за них словно кто тянет все сильнее и сильнее и скоро сдернет его со скользкой обмерзшей жердины.
– Ты к кому за помощью-то обращаешься? Ты подумал бы.
– Павел! Павел! Павел!! – в голосе Макшеева была мольба, способная пронять, казалось, и камень.
– Ишь ты! – бросил ему на это Павел зло и насмешливо. – А вот Гринька этак мне выложил недавно: подлюков человечьих с землей наедине надо оставлять. Порядочных-то людей земля любит, а подлюков и сама умеет наказать. И не надобно ей мешать в этом… В этом, говорит, самая справедливая справедливость. А?
– Павел… Поимей человечность!
– Ведь ребенок, а верно рассудил.
– Поимей, говорю…
– А ты имел ее, когда там… в Колмогорове, возле риги молотил меня? Когда самолично в милицию отвез и поджог на меня свалил? Когда с моей невестой в кровать ложился?
– Я не имел… Я подлый, знаю… Но я ведь и оплатить свою подлость по-всякому пытался. Ты не захотел…
– А человечья подлость разве цену какую имеет? Нет ей цены. Ты это-то понимаешь?
– Не знаю… Не понять мне. Я думал…
– И не за подлость ты расплатиться хотел. Ты от меня избавиться хотел. Потому что боялся.
– Нет, я не боялся. Я знал, что ты не убьешь меня, пальцем не тронешь.
– Это уж врешь.
– Правда, правда. Ну сперва, может, и думал, что… В самом деле боялся, что… Потом понял – нет, не станешь ты…
– Мараться?
– Ага. Неприятно только было, что ты за нами все таскаешься… все рядом.
– Напоминало, что ль, это… об том, когда возле риги…
– Напоминало.
– Пожалел хоть когда об том?
– Что тебя убеждать? Не поверишь.
– Не поверю…
Они, эти два человека, два старика, разговаривали теперь спокойно, будто сидели вечером за самоваром, вспоминали прошлое, пережитое. Если бы кто увидел, услышал – только по отдельным словам мог догадаться, что разговор их необычный какой-то. Да по тем обстоятельствам, в которых они находились: один лежал на льду животом вниз, другой торчал в полынье, повиснув на тонкой жердине.
Но видеть их было некому.
Поговорив, они замолчали. Плечи Макшеева, торчащие над водой, были льдистыми, мохнатая баранья шапка тоже обмерзла недлинными густыми сосульками. Неослабное речное течение все тянуло и тянуло его под лед. Силы Макшеева, видно, покидали, он потихоньку сползал с шеста, плечи его все больше погружались в воду.
– Прощай, Денисий, – сказал Павел. – Сейчас тебя… Последние секунды дыхаешь.
Этот ровный голос, эти безжалостные слова будто вернули Макшеева к действительности, будто помогли до конца осознать то положение, в котором он находился.
– Павел… Павел Григорьевич! – воскликнул он, подвывая по-звериному.
– Ишь ты, и отчество вспомнил.
– Помоги же! Остаток дней буду молиться за тебя! Стелькой выстелюсь, а заслужу прощение твое… за все, за все! Помоги же…
– А как я, если б и захотел? Лед и подо мной лопнет.
– Не лопнет. Выдержит. Ты – худой, легонький.
– Да и сладостно мне на твою гибель глядеть.
– Я тебе деньги обещал… ты не принял. Мало, может? Помоги – все отдам, все…
– А сколько это – все?
– Ну три тыщи… Пять тысяч… Семь! Слышишь, семь!
– Мало. Рискую все же.
В голосе Демидова была насмешка, но Макшеев не заметил ее, не до этого ему было.
– Девять дам, девять! – закричал он, чувствуя, что его вот-вот сорвет с жердины. – Нету больше. Нету!
– Врешь, больше наворовал с Марией. Что ты все набавляешь по две тыщи? Прибавь еще… сразу с пяток.
И тут Макшеев завыл в полный голос, зарыдал, закричал, пропарывая сильно уже засиневший речной простор:
– Сволочь ты! Не человек ты! Все, все, сказал, отдам. И эти пять! И еще… Дом, все манатки продам… И все тебе, тебе. Бери все, подавись. Павел! Люди, люди!
«От падаль… мразь такая! – пламенем заметалось в мозгу Демидова, опаляя все под черепом. И там, под черепом, что-то начало трещать, но Демидов понимал, что это не под черепом, это лед трещит все сильнее и угрожающе, потому что он ползет, извиваясь, к полынье, а под черепом больно отдается этот треск. – Еще и в самом деле провалюсь. А там дома Гринька… Конечно, он не останется один, его Надежда возьмет с Валентином и вырастят. Муж у нее славный парнишка, он сроду не обидит Гриньку…»
Когда до полыньи осталось метра три-четыре, Демидов, все чувствуя, как прогибается под ним тонкая ледяная корка, перевернулся на спину, расстегнул полушубочный ремень, выдернул из-под себя. Затем расстегнул и выдернул брючный, начал их связывать.
– Скорее, Пашенька… Скорей! – услышал он.
– Ништо, продержишься… сволота вонючая… А нет – туда тебе и дорога.
И еще маленько подполз к страшной полынье Демидов, потому что и связанные ремни не доставали до Макшеева.
– Теперь так, Денисий… Хватайся за ремень, я потяну, а ты попробуй вскарабкаться на лед. Да чувствуй его крепкоту, шибко не дрыгайся. Без лишних толчков чтобы, иначе… А то я отпущу свой конец – и пропадай тогда.
– Я легонько, я легонько…
– Держи тогда.
Демидов свил в кольцо связанные ремни, бросил, стараясь попасть в голову Макшеева. И попал. Макшеев тотчас ухватился за спасительный конец. Демидов почувствовал – ухватился крепко, намертво.
– Теперь вылазь, – подтягивая ремень к себе, приказал Демидов. – Да, гляди, потихоньку…
Лед, присыпанный снежком, все же был скользкий. Макшеев за рсмень только держался, к себе не дергал. Он понимал, что, если начнет лихорадочно дергать, Демидов заскользит к полынье и тоже провалится, если раньше не бросит свой конец.
За ремень Макшеев держался правой рукой, а левой, обламывая ногти, хватался за кромку льда, пытаясь поднять тело из полыньи. Но это ему никак не удавалось. Видя это, Демидов прокричал:
– Вверх по полынье продвинься. Вверх…
– Ага, давай…
Демидов, слыша, как стучат зубы Макшеева, не выпуская ремня, перевернулся на спину, потом снова на живот, откатываясь влево. И опять потянул, помогая продвинуться Макшееву вверх по полынье.
– Теперь так… Ноги не свело судорогой?
– Не знаю… Не чую их. Нет вроде.
– Попробуй сейчас закинуть ногу на лед. Ну? Понял?
– Ага, ага… Счас…
Макшеев понял, зачем Демидов приказал продвинуться вверх по полынье и что требует сделать теперь: течение распластало его тело вдоль полыньи, надо чуть подогнуть левую ногу и выбросить ее наверх, на лед, а потом… Только ноги вот не повиновались…
– Правильно, волк тебя съешь, – услышал вдруг он и понял, что хоть ноги и не повиновались, хоть он и не ощущал их, а сделал, видимо, что следовало. – Теперь я потяну, а ты спружинь ногой – и выкидывайся поосторожнее на лед. Ремни у меня крепкие, на твое счастье. Ну, по команде. Раз, два…
Слова «три» Макшеев не услышал. Он только почувствовал, что находится уже не в воде, что лежит на льду. Почувствовал и от охватившей его радости опять заплакал.
– Спасибо… Павел. Спасибо-о!
Первое слово он прошептал, последнее выкрикнул.
– Ты еще погодь радоваться, страмота. Отползай теперь от полыньи подальше. Ползи! В воде не скрючило, так сейчас замерзнешь.
И Макшеев беспрекословно пополз, лед под ним трещал, но выдерживал.
– Падаль ты, а приперло – людей на помощь закричал! – донеслось до Макшеева.
Тот оглянулся, увидел, что Демидов сидит на льду, пытаясь развязать ремни. Будто испугавшись, что старый лесник подойдет сейчас к нему и примется безжалостно, как Марию когда-то, полосовать тяжелым полушубочным ремнем, будто забыв, что снова может провалиться, встал на коленки, потом на ноги, пошел прочь. Пошел сперва осторожно и медленно, разминая ноги, а затем постепенно стал прибавлять шаг. И наконец, чувствуя, что лед под ногой все крепче, что он почти не пружинит уже, побежал рысцой.
Демидов все сидел на льду, все глядел вслед Макшееву, пока тот не пропал за синим утренним сумраком.








