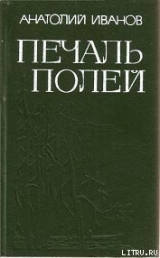
Текст книги "Печаль полей (Повести)"
Автор книги: Анатолий Иванов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Всю неделю потом он казнил себя за то, что вел себя в тот вечер как идиот. Сперва неуклюже топтался в клубном зале, глупо, конечно, улыбаясь, потом сидел, надувшись как индюк, на скамейке в скверике, потом шел с ней по улицам и молчал. И наконец, грубо и нахально потянул к ней свои руки. Не придет!
Но временами он вспоминал, как смеялись ее узкие глаза, как они лучились синеватым светом. В такие минуты ему казалось, что все будет хорошо и что она придет.
Наступило воскресенье. Когда миновала первая половина дня и жестяные дребезжащие часы-ходики показывали десять минут первого, Алексей выбежал из дома, вскочил на велосипед.
Отъезжая, заметил, что из своего дома вышел Борис и поглядел ему вслед.
… Шура сидела на пожухлой уже траве печальная и усталая. Когда Алексей подъехал, она медленно повернула голову к нему, тихонько улыбнулась.
– Что так долго? – спросила она. И, не дожидаясь ответа, добавила: – А мне грустно почему-то.
– Почему? – спросил он, чувствуя, что вопрос ненужный, что говорить надо не об этом.
– Садись, Алеша, – сказала она, не шевелясь. – Помолчим.
Лес был тихий, поредевший, прозрачный, и воздух тоже прозрачный, холодный. И лес, и белесое небо, и усыпанная сухими березовыми листьями земля словно ждали чего-то.
– Ты слышишь? – спросила вдруг девушка.
– Что? – Алексей прислушался.
– Разве ничего не слышишь? Кто-то и где-то тихонько шепчет и шепчет одно и то же: «Печаль полей, печаль полей…»
– Кто шепчет? Никто не шепчет. А грустно – это правда. Осенью всегда грустно.
Девушка пошевелилась, вытянув онемевшие, видно, ноги, чуть откинувшись назад, упершись руками в землю, запрокинула голову к небу.
– А я не хочу, чтобы было грустно! Ты понимаешь, я не хочу!! – вдруг закричала она. – Не хочу, не хочу, не хочу-у!
Шура упала на бок и зарыдала. Плакала она тяжело и горько, как ребенок, который никак не мог понять, зачем его обидели взрослые так глубоко и несправедливо.
– Шура! Ну, что ты… – растерялся Алексей. – Не надо так. Ты слышишь? Ты слышишь?
Он дотронулся до ее плеча сперва робко, потом, осмелев, погладил ее, убрал с лица вымоченную в слезах прядь волос.
– Не надо…
Девушка поднялась, села, всхлипнула. Вытерла глаза маленьким белым платочком, сунула его обратно в узкий рукав розовой блузки.
– Ничего… это на меня находит иногда. Видишь, какая я, – сказала она, жалуясь кому-то. Что она жаловалась кому-то – не ему, это он уловил и впервые почувствовал, какблизка и дорога ему эта непонятная девчонка и что, если бы ее не было на свете, тогда непонятно, для чего был бы и для чего жил бы он сам.
Ему вдруг захотелось сказать ей что-то такое необыкновенное и хорошее. Но слов не было, была только нежность и уважение к кому-то. И к этой девушке, конечно, и к осеннему лесу, и к земле, засыпанной листьями. И даже к тому голосу, который шептал откуда-то: «Печаль полей, печаль полей…» Алексею казалось, что он тоже слышит теперь этот голос.
– Это хорошо, когда грустно, – сказал он вдруг и вспомнил, что Шура кричала ведь только что: «Я не хочу, чтоб было грустно». Вспомнил и все равно повторил: – Это хорошо, когда грустно…
Он сидел, чуть отвернувшись, глядя на прислоненный к дереву велосипед, но чувствовал, что Шура смотрит на него, смотрит удивленно, будто видит первый раз, как смотрела на него уже дважды.
– Правда? – прошептала она еле слышно.
– Конечно. Почему всегда должно быть весело? Когда тяжело, муторно – это плохо. А грустно – это хорошо.
– Почему? – так же тихо спросила она.
– Ну… не знаю. Отдыхаешь тогда от всего. И раз грустно, – значит, чего-то хочешь. И потом сделаешь это. И будет тоже хорошо.
Он замолчал, и Шура притихла, притаилась. Молчали так минуты три, может и больше, а может, и меньше – Алексей определить не мог.
– Интересно, – проговорила она осторожно. – Значит, и лес, и вся земля сейчас отдыхают. Это правда. И чего-то хотят. А чего?
– Чтоб ветры были… Чтоб дожди, грозы… И солнце… И листья, и цветы, наверное. Я не умею об этом сказать.
Алексей говорил и сам удивлялся, что говорит. Он никогда не подозревал, что может так говорить.
– Интересно, – опять произнесла девушка. И дотронулась до него. Он обернулся. Шура стояла на коленях, смотрела на него не мигая, строго и холодно. Лицо ее было каким-то странным – лоб, нос, подбородок смертельно бледными, а щеки горели, полыхали розовым огнем, будто их натерли жесткой суконной тряпкой.
– Ты… чего? – невольно спросил Алексей.
– А ты скажи… ты любишь меня?
Алексея окатило жаром, он отшатнулся и как-то неестественно улыбнулся.
– Вот еще… выдумываешь. С чего бы я…
И почувствовал, что покраснел, покраснел густо и жарко. Он вскочил на ноги, отвернулся, отошел, пошатываясь, остановился.
– Нет, любишь, любишь, любишь! – закричала на весь лес девушка, подбежала и схватила за плечо, поворачивая к себе. – Любишь, я это знаю… Ну-ка, гляди мне в глаза, гляди!
Она поворачивала его к себе, а он отворачивался.
– Повернись, говорю. Повернись! – требовала она, теперь не прикасаясь к нему.
И когда он обернулся, пересилив себя, она, оказывается, стояла уже за высокой березой, прижавшись к ней грудью. Из-за ствола были видны только ее плечо, голова да одна нога в белом носочке и коричневой тапочке.
– Шура! – Он шагнул к ней.
Она, хохоча, отбежала к другому дереву и опять выглянула из-за ствола.
От дерева к дереву они бегали долго. Шура звонко смеялась, волосы ее растрепались, она то и дело их поправляла. «Догоню – поцелую… И поцелую! – колотилось у Алексея в голове. – И тогда не надо ничего говорить, все и так будет ясно…»
И он уже почти догнал ее, но в это время тренькнул где-то велосипедный звонок. Алексей обернулся и увидел Бориса.
Он поставил велосипед к тому же дереву, возле которого стояла машина Алексея, и с корзинкой в руке подошел к ним.
– Играете, молодежь? – спросил он, сел на траву, поставил рядом корзинку и достал папиросы. – Закуривай!
– Играем! – тряхнула головой Шура. Она произнесла это тем голосом, каким говорят, когда хотят не оправдаться, а предотвратить все дальнейшие вопросы, вопросы, может быть, необходимые для одного, но абсолютно ненужные теперь для других. Таким голосом говорят, когда хотят отрезать для себя враз и бесповоротно все другие пути и возможности, кроме одной.
– Понятно, – сказал Борис негромко, безразлично. И обоим – и Шуре, и Алексею – было ясно, что ему понятно.
Девушка села на сухие листья. Алексей стоял и курил. Он стоял перед Борисом и сам чувствовал, что у него, вероятно, сейчас виноватый и нелепый вид.
– Сядь, Алеша, – не глядя на него, произнесла Шура.
Алексей помедлил и сел.
Борис и Алексей молча курили, было всем неловко, и деревьям было неловко, они стали будто еще молчаливее. На небе неподвижно висело единственное белое облако с рваными краями и синеватым плоским днищем, и ему тоже, казалось, было неловко торчать одному в пустом небе.
– А я вчера последний экзамен свалил, – проговорил Борис, стряхивая пепел с папиросы почему-то в свою корзину. – С первого сентября – на занятия.
– Поздравляю, – сказал Алексей.
Шура играла с большим рыжим муравьем. Муравей куда-то спешил по своей тропинке, а девушка ставила на его пути сухой листок. Муравей останавливался, обнюхивал листок, отползал назад, будто размышлял о чем-то, пошевеливая усиками, и снова устремлялся вперед.
Из рукава ее платья торчал беленький платочек.
– Приползет домой и расскажет, какое необыкновенное приключение случилось с ним в пути, – усмехнулся Борис, глядя на муравья.
– Разве они умеют говорить? – спросил Алексей.
– А что ты думаешь? – Борис потушил папиросу и бросил ее в траву. – Я вот иногда думаю о всяких формах жизни на земле. Ну, человек – это понятно. Высокоразумное, мыслящее существо. А может, муравьи тоже и высокоразумные, и мыслящие. По-своему. Вот читал я где-то, что у муравьев есть свои рабовладельцы. Есть рабочие, есть солдаты. Интересно, брат, да… Ну, чего не смеетесь?
Борис поднял злые глаза. Алексей о чем-то думал, опустив голову, а Шура, оказывается, с интересом слушала, давно забыв про своего муравья.
Борис холодными глазами улыбнулся ей, она отвернулась и стала глядеть в сторону. И так, не поворачивая головы, тихо вдруг заговорила:
– Да, интересно… Ох, до чего интересно! Может, у них есть и свои музыканты, художники всякие, писатели, архитекторы. Своя наука и своя культура. И может, они уже кое в чем и перегнали человеческую культуру, если взять в сравнении…
– Какое там перегнали, если рабовладельцы, – упрямо сказал вдруг Алексей.
– Эх, ну какой ты! – воскликнула Шура. – Это люди так называют – рабовладельцы. А может, они, такие муравьи, не рабовладельцы вовсе, может, они – какие-нибудь огромные светила ихней науки и… общественной мысли. А? Что мы знаем? Ничего мы не знаем! Может, они сидят и думают – как им, муравьям, лучше жить и что это за непонятные великаны ходят по земле, которые иногда разворачивают их муравьиные жилища, и как с ними бороться. Они думают, за это их уважают другие муравьи. Да… может, людям еще поучиться бы кое-чему у муравьев, если бы разгадать смысл их жизни.
– Фантазируешь ты, – сказал Алексей. – А интересно.
– Интересно, – согласно кивнула Шура. – Если… была бы возможность, я бы пошла на биологический факультет.
– А когда они в спячку ложатся? – спросил Алексей. – Зимой-то они спят, наверное?
– Я не знаю, – сказала Шура. – Может, спят, может, живут какой-то своей жизнью. Утепляют свои муравейники чем-то таким… абсолютно не пропускающим холода, и живут. Чем утепляют – люди не знают. Или вот дождь муравьи чувствуют. А как? Задо-олго ведь свое жилье закупоривают.
– Раз не ложатся пока в спячку, – значит, долго еще тепло стоять будет, – не то спросил, не то просто раздумчиво произнес Алексей.
– Будет, должно… – произнес Борис, взял свою корзинку, с удивлением обнаружил там пепел от своей папиросы, вытряхнул его. – Ну ладно, я ведь, собственно, за грибами. Знаю одно место, где опята сплошными коврами растут.
– Где это? – произнесла с любопытством Шура. Борис поглядел на нее долгим-долгим взглядом. Глядел спокойно, чуть улыбаться продолжали одни глаза, а правый уголок рта несколько раз дернулся. И когда дернулся, Шура поняла, что и глаза его давно не улыбаются, это он просто смотрит на нее с прищуром, зло и хищно.
– Пойдем, покажу, – сказал он.
– Нет, нет, – быстро произнесла она, зябко повела плечами, будто замерзла, и прибавила: – Боюсь я тебя.
– Чудачка! Что меня бояться, – рассмеялся Борис. – Я не зверь какой-нибудь.
Он смеялся как-то очень искренне и просто, и Шуре стало неловко, стыдно за свой испуг и за то, что она заподозрила вдруг Бориса в чем-то нехорошем.
– И ты меня тоже боишься? – спросил Борис у Алексея.
– Чего мне тебя бояться?
– Ну, ладно, Шуреха… Я ведь все понимаю, – сказал Борис тихо и грустно. И еще тише прибавил: – Желаю вам с Алехой всего…
– Спасибо, Борис, – сказала она.
– Не стоит, – в голосе у Бориса была и грусть, и горечь. – Правда, немного непонятно мне: чем таким он передо мной… Хотя кто вас, женщин, разберет! А в общем – ладно.
Опять всем троим стало неловко, неуютно, все смотрели в разные стороны.
– Да, в общем – ладно, – еще раз сказал Борис, встал и пошел. Он шел сутулясь, как старик, и корзинку нес тоже как-то по-стариковски, будто боялся выплеснуть что-то из нее. Шуре стало жаль его, и она крикнула:
– Боря! Борис…
– Не надо, может, а? – робко и неуверенно сказал Алексей.
– Что не надо? Что не надо?! – дважды выкрикнула девушка почти со злостью. На глазах у нее были слезы. – Неужели ты деревянный?
– Я не деревянный. Только я знаю, что не надо… – чуть обидевшись, сказал Алексей.
В это время Борис обернулся и закричал:
– Шура! Скорее! Тут – мужичок-грибовичок.
Девушка встрепенулась и вскочила.
– Где? Где? Сейчас… – крикнула она и повернулась к Алексею. – Пойдем, Алешка!
– Никакого там нету мужичка. Ты ведь знаешь, что нету…
– Я знаю. А поиграть – плохо, да? Разве плохо?
– Не плохо. Только не надо сейчас. Он, Борька, какой-то сейчас… Не надо, понимаешь?
– Эх, ну какой ты…
– Скорее же, а то он уйдет! – крикнул опять Борис.
– Иде-ем! Пошли, пошли, Алешка!
И девушка побежала к Борису.
Алексей помедлил, потом встал и торопливо пошел следом.
Он шел быстро, но догнать Шуру с Борисом не мог, их голоса звучали все время где-то впереди. Несколько раз между деревьями мелькала розовая блузка, и Шура махала ему рукой, но когда Алексей подходил к тому месту, ее смех и голос Бориса раздавались далеко впереди.
Потом умолк вдруг и смех и голос. Алексей шел и шел, а ничего не было слышно. Его охватили тревога и беспокойство. Он тоже видел, как несколько минут назад со злым прищуром глядел на Шуру Борис, как дернулся уголок его рта. Он пытался как-то предостеречь Шуру, но она не послушалась, и вот теперь их нет…
– Шура, Шура-а! Бори-ис… – крикнул он. – Вы где-е?
И тотчас донеслось:
– Алешка! Скорее… Але-еш!..
И голос смолк, будто девушке закрыли рот.
Откуда кричала Шура, Алексей понять не мог. Не то сбоку, не то спереди.
– Шура! Где ты? Где?
Но теперь она не откликнулась. Он побежал вперед, путаясь в жестких травяных стеблях, бежал до тех пор, пока не кончился перелесок и впереди не открылась рыжая степь, вернулся и снова принялся кричать. Но Шура и Борис словно провалились сквозь землю.
Он нашел их после того, как охрип от крика. Он, усталый, возвращался к тому месту, где стояли велосипеды. «Наверное, они уехали уже домой. Борька посадил ее на свой велосипед и увез», – думал он. И вдруг услышал, как кто-то плачет.
Он пошел на голос, продираясь сквозь заросли колючего шиповника. И то, что он увидел, сначала его не удивило и не испугало. Шура лежала на боку, свернувшись калачиком, в траве валялись слетевшая с ее ноги тапочка и белый носовой платок. Борис сидел нахохлившись, втянув голову в плечи, облокотившись о колени. Он сидел, курил и, казалось, с недоумением разглядывал валяющиеся перед ним тапочку с платочком.
Услышав шаги Алексея, он сперва одернул на Шуре смятую юбку и медленно обернул к нему обескровленное яростью лицо, что-то проговорил. Его голоса он не услышал, только догадался, что Борис сказал: «Пошел отсюда!». Не расслышал потому, что в ту секунду, когда Борис одернул на девушке юбку, Алексей понял, что тут произошло, почему плакала Шура, и у него перед глазами пошли круги, а в голове стало больно, точно ее разрывало, разворачивало чем-то изнутри.
Алексей схватился за тонкий стволик березки. Потом без сил опустился под дерево.
Как в тот день, когда пришла похоронная на отца, сердце Алексея что-то сдавливало, оно словно истекало кровью, а в животе была холодная пустота.
Посидев так несколько минут, он встал. Поднялся и Борис, сунул руку в карман, спросил:
– Драться будем? Давай. Я на этот случай одну штучку с собой захватил.
Он вынул руку из кармана и показал кастет.
– Эх ты… мыслящее существо…
Кастета Алексей не испугался, но и драться не хотел. Он испытывал лишь к Борису небывалую брезгливость да испытывал желание бросить в лицо ему что-то тяжелое и гадкое, чтобы слова сами по себе убили, раздавили его.
– С тобой не драться… Тебя, подлеца, в тюрьму надо. И сгноить там.
– А это ее дело, – усмехнулся Чехлов и кивнул на Шуру. – Только она в суд не подаст. Не посмеет.
– Нет, подаст! – почти теряя контроль над собой, выкрикнул Алексей. – Потому что… потому что и убить тебя мало!
Он резко отвернулся от Бориса, нагнулся, погладил девушку по плечу.
– Пойдем, Шура… Вставай, пойдем, – сказал он.
Девушка шевельнулась, приподняла разлохмаченную голову. Лицо ее было страшно, глаза горели ненавистью, губы искусаны, изжеваны, и она продолжала их кусать. Они – Алексей и Шура – поднимались с земли одновременно. Поднимались медленно, будто суставы срослись, разгибались с болью. И, встав, некоторое время глядели друг на друга. Алексей глядел виновато и жалостливо, а глаза девушки горели все той же ненавистью, презрением и гадливостью, будто это не Борис, а Алексей сделал с ней то, что раздавило и опустошило ее.
– Пойдем, Шура. Пойдем, – снова повторил он. – Ты для меня такая же…
– Такая же?! В суд? – Шура дышала тяжко и с хрипом. – А я ненавижу… Ненавижу тебя! Ты это понимаешь? – произнесла она шепотом. И вдруг истерично выкрикнула: – Понимаешь ты это или нет?!
И, размахнувшись, ударила Алексея сперва по одной, потом по другой щеке.
Борис все так же сидел на траве, покуривая, разглядывал тапочку и платочек. Девушка постояла немного перед Алексеем, глядя в его удивленные глаза, и, чуть не падая, отбежала к высокой сосне, схватилась за ствол и, зарыдав, осела, сползла по шершавому стволу на землю.
Алексей повернулся и побрел прочь, не разбирая дороги, натыкаясь на деревья.
Больше Шуру он не видел до самой зимы. Несколько дней она болела, не выходила на работу, а потом и вовсе уволилась с завода, поступила на такую же работу в какую-то артель.
Обо всем этом Алексею сообщил Михаил Брага.
– Что-то у вас произошло, кажется, – спросил он.
– Ничего не произошло, – угрюмо сказал Алексей
– А что ты высох весь? Один нос остался…
– Ничего не высох…
– Ну, пошехонцы, – сказал Брага и больше речи о Шуре не заводил.
Поздней осенью, когда уже выпал снег, Алексея призвали в армию. Он обрадовался этому, потому что ему было невыносимо тяжело ходить на работу по той же улице, по которой ходила она, работать на том заводе, где и пропахшая табаком проходная, и серое здание заводоуправления, и даже бухгалтерские ведомости на зарплату напоминали о ней.
За несколько часов перед отправкой, когда призывников разбивали на группы перед посадкой в машины, чтобы отвезти на вокзал, Алексей неожиданно увидел Шуру. Она стояла в толпе народа, прижавшись к самой ограде военкомата, и сквозь штакетник смотрела на него. Поймав его взгляд, помахала рукой. Алексей подошел к ограде.
– Здравствуй, – грустно и как-то виновато сказала она. – Уезжаешь?
– Приходится, – ответил он – Положено отслужить.
Девушка выглядела бледной, уставшей, даже измученной. Глаза ее были такие же раскосые, в таких же длинных ресницах, но прежнего блеска в них не было, они не смеялись, а глядели на мир задумчиво и печально.
– А как ты… живешь? – спросил Алексей.
– Да так… Живу, – проговорила она, на щеках ее вспыхнул тяжелый румянец. И, будто боясь, что он спросит еще о чем-нибудь, поспешно прибавила: – Работаю и учусь на бухгалтерских курсах. В школе ненавидела цифры, понимаешь, а вот теперь… Ничего, нравится. Судьба, видно.
Постояли, помолчали; неловко Шура глядела куда-то вниз, в землю.
– Ты прости меня, Алеша, за все, – сказала вдруг девушка.
– Ну, что ты… За что я тебя должен прощать?
– Я желаю тебе счастья. До свидания.
– Прощай, – сказал он. – Когда я вернусь из армии, ты уж будешь замужем. За Борисом.
– Вот уж нет! – воскликнула она, поднимая голову. – Никогда я за него не выйду. Ты слышишь – никогда!
– Выйдешь! Я это знаю, – спокойно проговорил он.
Она усмехнулась – что, мол, за нелепая уверенность, но промолчала.
– А я, Шура, тоже теперь слышу тот голос, который шепчет: «Печаль полей, печаль полей…» Я, наверное, всегда буду теперь его слышать. И наверное, всегда… всю жизнь мне будет от этого голоса грустно.
Шура и тут ничего не сказала. Но глаза ее заблестели вдруг, стали наполняться слезами. И она опять проговорила:
– Замуж я за Борьку не выйду. Но я чувствую, что пропаду. И ты будешь виноватым в том. Ты не уезжай, а?
– Да как же я могу остаться? – печально спросил он.
– Это верно. Ты не можешь…
Она оттолкнулась от ограды, выбралась из толпы н, опустив голову, быстро пошла вдоль улицы. Алексей, пока можно было, смотрел ей вслед.
… Весной Михаил Брага написал Алексею, что Шура вышла замуж за Бориса Чехлова.
1981
Повесть о несбывшейся любви
1
Валентин Михайлович Чернышов, известный на всю страну писатель, давным-давно удостоенный всех возможных почетных званий, государственных наград и премий, стоял на высоком яру. Сверху отчетливо различалось высохшее русло небольшой речки, засыпанное белесым песком, мелкой галькой и во многих местах поросшее травой. Стеблистая, почти без листьев, трава росла пучками, берега исчезнувшей речки были покрыты тоже всякого рода чахлой растительностью, поближе к ярам торчали жиденькие кустарники.
Рядом с Чернышовым стоял Сапожников Леонид Гаврилович, его друг и товарищ с детских лет, учитель и директор местной школы. Ни слова не сказав ему, Чернышов повернулся и пошел в сторону крутого спуска к бывшей речке. Несмотря на то что спуск был каменист и тверд, словно кость, узкая тропинка тоже во многих местах затравенела, ибо люди ею почти не пользовались.
Исчезнувшая речка звалась Белояркой, потому что текла когда-то меж крутых яров с выпиравшими из земли известняковыми глыбами, по ней и возникшую в незапамятные времена деревеньку наименовали Белояркой, и весь район назывался Белоярским. Это была родина Валентина Михайловича Чернышова, здесь он родился и, как говорится, крестился, тут окончил среднюю школу, а потом, в голодном сорок шестом, уехал на учебу в Новосибирск. Теперь же, где-то еще с середины пятидесятых, живет в Москве, но почти каждый год приезжает в родную Белоярку, ставшую после войны большим районным селом.
Еще в прошлом году умирающая речка немного дышала, по камешкам, хоть и едва-едва, сочилась вода, а нынче русло высохло совершенно. Сбежав вниз, Чернышов встал посреди него, топчась на песке, поворачивался то в одну, то в другую сторону, будто все еще удивляясь, что с верховьев вода больше не течет, что остатки влаги скатились вниз без остатка.
Сапожников тоже сошел вниз, и когда остановился возле Чернышова, тот воскликнул:
– Чудовищно! Мы сами себе роем могилу.
Сапожников, не однажды бывший свидетелем различных эмоциональных состояний своего друга детских лет, только грустновато усмехнулся.
– Нынче с самой середины лета дождей не было, – тихо сказал он. – Вот и высохли последние капли.
– При чем тут – были дожди или не было дождей? Там, где шумели когда-то древние цивилизации, ныне простираются пустыни.
– Ну, не везде так, обобщать не надо, – сказал Сапожников. – Но планета наша, видимо, сохнет, воды становится все меньше.
– Видимо… Без всяких видимо, – опять начал горячиться Чернышов. – Ученые и писатели давно бьют тревогу, что варварски сводятся леса, уничтожается травяной покров, нарушается структура почв, бездумно проводятся мелиоративные работы. Поговаривают даже о возможности переброски части сибирских вод на юг. Это может вызвать какие-нибудь необратимые природные процессы… для людей, для земли…
Валентин Михайлович, несмотря на шестой десяток, по-юношески стройный и подтянутый, как-то сразу вдруг отяжелел, еще потоптавшись на песке, медленно опустился на бережок сухого русла.
Стоял на земле конец сентября, золотое время, если погода теплая и солнечная. Погода как раз и была такой. Небо, то ли от того, что уже утратило густую голубизну, или по той причине, что поредели в нем птицы, стало еще выше и безбрежнее. Все просторнее становилось и на земле, потихоньку сгорали на ней леса и перелески. Деревья, росшие отдельно, тоже сыпали вниз янтарные угли, эти угольки медленно гасли, а сверху подсыпались и подсыпались свеженькие.
Чернышов любил и понимал природу. Из всех времен года он, как Пушкин, больше любил осень, из всех состояний земли он лучше всего понимал и умел выразить в повестях и рассказах вот эту ее высокую осеннюю целомудренность, когда она, очищаясь от пыльных летних бурь, отдыхая от буйных огненных гроз, готовилась к чему-то огромному и таинственному, как сон, как небытие. Таких теплых и светлых сентябрьских дней в иной год и не бывает, тогда Чернышов чувствует себя усталым и будто обкраденным, душа его стонет от обиды и надолго закрывается для восприятия тех главных, тех единственных красок, звуков, запахов, которые ему надо услышать, чтобы отразить их потом в своих произведениях. В такие времена он бывает хмур, раздражен, избегает друзей, говорит грубости. В душе он был музыкантом и, пытаясь победить такое свое состояние, включал магнитофон, без конца слушал обожаемых им Бетховена, Глюка, Вебера, Гайдна, Генделя, Россини. Но великая музыка их вдруг начинала казаться ему примитивной, нисколько не выразительной, а главное – чужой, и в памяти сами собой всплывали все те саркастические слова, которыми эти гиганты награждали друг друга: Россини говорил, что музыка Вебера вызывает у него колики, Гайдн называл Бетховена всего лишь великим пианистом, а Гендель всерьез убеждал друзей, что его повар лучший музыкант, чем Глюк… И Чернышову на время казалось, что и Россини, и Гайдн, и Гендель, увы, правы. Валентин Михайлович слушал, наконец, самого Мусоргского, которого ставил на самую высшую точку мировой музыкальной пирамиды, а у Мусоргского – величайшее из величайших, по его мнению, творений – «Рассвет над Москвой-рекой» из так и не законченной им «Хованщины». Но и здесь слышал нагромождения беспорядочных тягучих звуков, унылый и бессмысленный плач флейт и скрипок.
Но зато, если сентябрь был солнечный и теплый, в душе его открывалась не одна дверца, а все, сколько там их ни было, он весь превращался в какую-то ненасытную губку, в него обвалом лилась и лилась гремящая на тысячи мелодий музыка всего этого бесконечного и непонятного бытия.
А сейчас ни одна дверца не открывалась, хотя и было много теплого осеннего солнца, никаких мелодий он не слышал. Как бы ни велики были любимые им композиторы, их музыка была ничто в сравнении со звуками обыкновенного ручья. Речка Белоярка как раз и была большим ручьем с неширокими перекатами, с небольшими, хотя и довольно глубокими омутками и заводями. В весенние паводки она гремела и ревела, но этого шума Чернышов не любил. Зато летом и особенно осенью, когда воздух чист и легок до того, что малейший шорох разносится на сотни шагов, Белоярка нежно позванивала и на сотни мелодий пела бесконечную и в каждое мгновение всегда новую свою песню.
«Бесконечную… – усмехнулся Чернышов. – Веками текла она по земле, поила людей и зверей. И вдруг стала слабеть, мелеть с каждым годом – и вот исчезла. А как написать об этом? Как создать прозаическую поэму о гибели целой речки?»
Чернышов подумал, что композитору сделать это было бы проще. Вот у Мусоргского по мере наступления рассвета Москва-река звенит и поет все чище, все радостнее и торжественнее, во всяком случае, он, Чернышов, слышит в музыке все нарастающий, все более певучий звон прозрачной и текучей речной воды. Здесь же надо делать все наоборот, наоборот… И когда затихнет последний всплеск ручья, когда мучительно умрет песня живой воды, каждый инструмент оркестра должен исторгнуть человеческий стон, в музыке должна прозвучать не выразимая никакими словами человеческая боль по поводу этой уже никогда не восстановимой потери, которая обездолила не только живущих на земле сейчас, но все последующие человеческие поколения…
И Валентин Михайлович Чернышов, как бывало уже не раз и не десять раз, пожалел, что не стал профессиональным музыкантом, ему всегда казалось, что он мог бы стать выдающимся композитором и сделать в музыке намного больше, чем сделал в литературе.
Да, «чем сделал в литературе…». Эта мысленная фраза задержалась в сознании, причинив щемящую боль в сердце. И раньше, давненько уже, подобные мысли приходили ему в голову, вызывали какие-то неприятные и неосознанные ощущения, портили настроение, но сегодня боль в сердце была настоящей и острой, и Чернышов достал таблетку валидола.
– Тебе плохо? – тотчас вскинул брови Сапожников.
– Да нет… Это я для профилактики, – улыбнулся Чернышов, но как-то мучительно, через силу, и снова стал угрюмым.
Помолчав так некоторое время, он вдруг произнес:
– А я ведь знаю, Леонид, ты не высоко ставишь мои литературные творения.
– Вот это… сказал! – растерялся Сапожников, уронил горький смешок. – Тебя знает вся страна, твои книги издаются за рубежом…
«Меня знает вся страна, мои книги издаются за рубежом, – уныло думал Чернышов. – Это верно. Но это еще не значит, друг мой Ленька, что их высоко ценят. И ты вот не стал сейчас убеждать меня в этом. Ты лишь сказал очевидное. И не ты первый мне это сказал. А кто же? Да, действительно, кто же? Или мне лишь кажется, что об этом кто-то говорил раньше?»
Но вопрос этот, возникнув, исчез, Чернышов стал думать, что Ленька Сапог, как он называл его в юности, да и теперь частенько так именует, никогда не высказывал восторгов по поводу его произведений. На присланные ему и его жене Марии Ивановне книги с автографами он каждый раз откликался благодарностью, при встречах поздравлял с выходом новых повестей и рассказов, прибавляя при этом что-нибудь шутливое, вроде – даешь, мол, прикурить этим самым радетелям дряхлых деревень с их курными избами. И по таким, даже самым общим, фразам чувствовалось, что все его книги Сапожников читал. «Ну, а все-таки, что тебе нравится в моих вещах, а что нет?» – спросил однажды Чернышов напрямик. И Сапожников уклончиво ответил: «Видишь ли, я физик по образованию, в литературе разбираюсь плохо. О книгах твоих спорят, это, наверное, хорошо». Но, увы, о его рассказах и повестях не спорили. Лишь о первых его произведениях в газетах и журналах появлялись разноречивые мнения, но это было еще до переезда в Москву. Здесь он встретился с Сеней Куприком, работавшим в одном захудалом литературном журнальчике. Встретился в ресторане Дома литераторов, куда робко зашел пообедать. Он не доковырял еще какой-то салат, как к столу подошел невысокий, полноватый, но юркий человечек с темными острыми глазами и огромным пустым портфелем. «Если не ошибаюсь, В. Чернышов?» – «Да…» – несмело сознался Чернышов. «Узнал вас по портрету в книге. Я читал вашу последнюю удивительную повесть „Ненастье“. – „Так уж и удивительную?“ Хотя он и возразил таким образом юркому человеку, все равно приятно было слышать похвалу в адрес своей повести, которая в прессе получила разноречивую оценку, и в общем-то, к обиде Чернышова, не очень лестную. И этот человек с острыми глазами, будто почувствовав обиду Чернышова, проговорил: „Читал я также критику на вашу повесть и с большей ее частью не согласен“. – „Ну, критики – это такой народ… Им не укажешь“. – „Да? – строго не то спросил, не то возразил человек с пустым портфелем. – Без указаний жизнь невозможна. Позвольте представиться – Семен Куприк, тоже в некотором роде критик“. Сказав это, в некотрром роде критик замолчал. Стоял и сверлил Чернышова колючими зрачками. И как-то само собой у Чернышова сказалось: „Если располагаете временем, присаживайтесь“. – „Временем располагаю, – сказал Куприк. – А деньгами, извините, нет. Я постоянно беден, как церковная крыса“. Произнес это он с такой интонацией, что Чернышову стало неловко и за свое приглашение, и за то, что у этого полнеющего, с виду благополучного и сытого человека нет денег. „Да что вы, раз я приглашаю… У меня есть“, – сказал Чернышов, встал и пододвинул ему стул…








