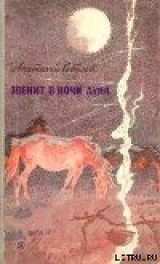
Текст книги "Тихий пост"
Автор книги: Анатолий Соболев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)

В условленный час пятый пост не вышел на радиосвязь. Штаб вызывал каждый день – ответа не было.
Прошла неделя, пост молчал.
И вдруг с метеостанции, находящейся в ста с лишним километрах восточнее «пятого», в Архангельск поступила радиограмма: «В т у н д р е п о д о б р а л и н а ш е г о м а т р о с а и н е м ц а. О б а б е з с о з н а н и я. С т а р а е м с я в е р н у т ь к ж и з н и. Ж д и т е с о о б щ е н и й».
* * *
Этот пост был одним из постов Службы наблюдения и связи, раскинутых по побережью Баренцева моря.
Бревенчатый домик с надстройкой в виде капитанского мостика с антеннами и прожектором напоминал выброшенный на берег корабль. С трех сторон к нему подступало море, с четвертой – безмолвная тундра на тысячи километров.
На посту несли службу шестеро матросов. Война не докатывалась сюда – фронт был очень и очень далек. И матросы роптали на свою спокойную службу. Они были молоды, нетерпеливы и хотели воевать, но командование держало их здесь, на перекрестке судоходных путей.
Начинался заснеженный и морозный сорок четвертый год. На всех фронтах наступали наши войска, и здесь, на посту, жадно ловили сообщения Совинформбюро.
Однажды радист Пенов, белобрысый застенчивый паренек, часами сидевший у рации, восторженно крикнул:
– Блокаду с Ленинграда сняли!
– Ура-а! – заорал всегда шумный Мишка Костыря и первым кинулся к карте, висевшей на стене.
Подошли и остальные матросы.
– Заняли города и населенные пункты… – начал было говорить Пенов и замолчал, одной рукой прижимая наушники к голове, другой стараясь отрегулировать слышимость рации.
– Да не тяни ты кота за хвост!
Мишка Костыря – подвижный, чернявый, коренастый крепыш – нетерпеливо глядел на радиста и держал в руке крохотные бумажные флажки.
Петя Пенов вспыхнул и захлопал белыми ресницами. Смирный паренек с телячьими доверчивыми глазами, он почему-то всегда смущался, когда к нему обращались. Наконец он отрегулировал слышимость и стал перечислять освобожденные села и города, а Костыря втыкать красные флажки на карту.
– Ого, густо! – полюбовался Костыря на скопление флажков вокруг Ленинграда и ослепил матросов белозубой улыбкой. – Теперь дело за Одессой. Жмем, кореша, по всем фронтам!
– Жмем, да не мы, – резонно заметил Виктор Курбатов, высокий красивый юноша с тонким, от природы смуглым лицом.
Костыря досадливо поморщился – он не любил, когда ему напоминали, что он не на фронте. А Пенов уже перечислял отличившиеся войска, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего.
– Сегодня салют грохнут в Москве, – заверил Костыря. – Старшой вернется, надо с него потребовать по чарке в честь победы.
* * *
В это самое время старшина первой статьи Чупахин шел на лыжах по ровной заснеженной тундре, освещенной луной, и глядел на широкую полосу ледового припая, что тянулась вдоль обрывистого берега. За торосами чернело тяжелое море.
Чупахин не переставал удивляться: по часам был день, а все кругом – как ночью. И хотя Чупахин служил на Севере не первую полярную ночь, он все равно не мог привыкнуть к тому, что в часы, когда по всем законам должно светить солнце, светят луна и звезды.
Красивы эти лунные дни! Сверкает холодным синим светом заснеженная тундра, вспыхивают зеленые звезды на черном бездонном небе, и великое древнее молчание вселенной окружает тебя. Звук в этом безмолвии слышен далеко-далеко. Вот кто-то кашлянул у поста, от которого Чупахин отошел, пожалуй, с километр, но слышно так четко и ясно, будто человек стоит рядом. Чупахин даже хотел угадать, кто именно из ребят кашляет, но кашель не повторился.
В море засветились огни корабля. В этих местах, вдали от фронта, они ходили со всеми отличительными огнями и ходили круглый год, потому что здесь было теплое течение Гольфстрим и море не замерзало. «Сейчас пост запросит позывные», – подумал Чупахин. И действительно, «заговорил» постовой семафор. С корабля ответно замигали. В этом и заключалось главное назначение поста СНИСа – засекать каждый проходящий мимо корабль, будь он военным, пассажирским или транспортным, и докладывать в штаб. Служба своею размеренной однотонностью обрыдла Чупахину и его пятерым подчиненным.
Лыжи скользили легко, и Чупахин, ощущая бодрость и силу в сухом жилистом теле, торопился до ужина проверить ловушки и силки. Он уже вытащил застывшего песца из капкана, песец был великолепен. Когда Чупахин поднял его и тряхнул, по голубовато-белой шкурке дымчато замерцали блестки. Скоро на пост прибудет поверяющий офицер. С ним ненцы – местные жители, – они и привезут офицера на оленьей упряжке. Чупахин сдаст шкурки в фонд обороны. Второй год служит он на этом тихом посту и второй год сдает шкурки лисиц и песцов, которых ловит между делом. И службу флотскую несет, и государству помогает. Конечно, он хотел бы помогать не так, он хотел бы защищать Родину на фронте, но приказано служить здесь, и он служит.
Так думал Чупахин, вытаскивая второго песца из ловушки.
Он не заметил, как по сугробам бесшумно потекли короткие снежные ручьи – первый признак надвигающейся метели. И только когда сбоку ударил ветер, когда воздух мгновенно наполнился снежною пылью, когда с моря, где с хрустом и выстрелами лопался ледовый припай, докатился глухой рокот, у Чупахина екнуло сердце. Он выхватил из ловушки песца и кинулся к посту.
Но было уже поздно.
Рвала и гуляла по тундре пурга. Ревела, забивая ветром и снегом рот, слепила глаза, гнала сплошную стену ледяной крошки. Ветер хлестал наотмашь по лицу, сбивал с ног.

Нагнув голову, задыхаясь, пряча лицо в воротник полушубка, Чупахин медленно двигался в белой замяти по направлению к посту. Лыжи то разъезжались по твердому насту, то с ходу втыкались в сугроб. Ветер вдруг переменил направление, ударило в спину, и старшину стремительно понесло по склону, подбрасывая на кочках. Чупахин балансировал, стараясь устоять на лыжах. «Не сорваться бы с берега! – обожгла мысль. – Костей не собрать». Его закружило, он упал, вскочил и потерял направление: где пост, где берег, где тундра. «Вот влип!» – захолодело под сердцем. Его опять сбило с ног и покатило по склону, два раза перевернуло через голову. Потерял лыжу. Схватив другую и опираясь на нее, пополз сам не зная куда.
Вокруг гудело, снег тучами поднялся в воздух, и не было видно ни зги.
Чупахин остановился. Нет, вслепую нельзя двигаться, можно сорваться с берега на торосы или, наоборот, уползти черт-те куда в тундру! Надо зарыться в снег и переждать. Чупахин, повернувшись спиной к ветру, стал лихорадочно копать лыжей нору в твердом сугробе. Жгучий снег забивался в рукава, за воротник полушубка, ветер толкал то в спину, то в грудь. Старшина выгреб небольшую ямку и прилег. Его сразу же стало заносить. «Не найдут!» – кольнула испуганная мысль. В том, что пойдут искать, старшина не сомневался. Уже занесенный снегом, уже плохо слыша рев метели над головой, он пробил лыжей сугроб и высунул ее стоймя наружу. Ориентир! Теперь пусть заносит, лыжа будет видна над сугробом.
Под защитой снеговой крыши стало тепло. Начало клонить ко сну. Не уснуть бы! Уснешь – пропал! Чупахин продырявил отверстие над головой. Высунулся. Ударило снежной пылью, забило дыхание. Ветер сорвал шапку, и она мгновенно исчезла в ревущей коловерти. Вот черт! Этого еще не хватало. Волосы сразу забило снегом, и голова застыла. Вроде выстрел щелкнул. Прислушался. Нет, показалось. Да разве что услышишь в этой свистопляске! Дело швах! Главное – он не знает, где сейчас находится: может быть, совсем близко от поста, а может, упорол в другую сторону. Попробуй найди его! Да и ребята сами могут заблудиться. Черт побери, здорово он оплошал! Размечтался о шкурках, дурак! О поросенке бы еще помечтать. Недаром ребята смеются над ним: он однажды высказал мысль, что неплохо бы завести на посту поросенка, можно отходами со стола выкормить. Свиновод! Прохлопал первые признаки надвигающейся бури: исчезновение звезд, затишье перед ударом ветра, рождение снежных ручейков. Не почувствовал и первых слабых порывов ветра, будто малый ребенок робко дергает за рукав. Опомнился, когда ударило по сопатке наотмашь. Пролюбовался на песца. Теперь сиди, знаменитый охотник!
Чупахин вдруг вспомнил, как замерз колхозный конюх. Шел с фермы в буран, заплутался и уже перед домом выбился из сил и присел у сугроба, не видя, что рядом забор. От этого воспоминания у Чупахина тоскливо заныло сердце.
– Искать надо, – сказал Виктор Курбатов, прислушиваясь, как злобно и мстительно ревет буря за стенами.
– Пошли покричим, – предложил Костыря.
Вышли и сразу задохнулись от ветра и снежной пыли.
– Старшина! – кричал Виктор, сложив рупором ладони. – Старшина!
– Чупахин! – вторил Костыря. – Старшой! Васька!
– Старшина!!!
Крики гасли в реве и свисте пурги, слова ветром загоняло обратно в глотку. Жохов из автомата выпустил очередь вверх, но ветер тут же заглушил выстрелы, матросы вернулись на пост, залепленные снегом.
– Дело плохо, – сказал Иван Жохов и обвел всех внимательным взглядом маленьких черных глаз. Кряжистый, с мощной шеей борца, по-медвежьи сутулый, он был на редкость молчалив, а если и говорил, то нехотя, будто забытый долг отдавал. «Великий немой» – звали его матросы. Отличался он и невозмутимым спокойствием. Но сейчас тревога за старшину проступала на его широком и всегда добродушном лице.
– Что же делать, ребята? – спросил Петя Пенов, растерянно хлопая белыми ресницами, и, чтобы услышать какой-то утешительный ответ, снял с одного уха наушник. Он неотрывно сидел у рации: на море тоже бушевало, того и гляди раздастся SOS.
– Искать надо, – ответил Генка Лыткин, прозванный за долговязую нескладную фигуру Фитилем.
– Глядите, что творится, – кивнул Костыря на окно, за которым злобно бился буран.
– Искать, – стоял на своем Курбатов, и лицо его побледнело от решимости.
– С тобой никто не спорит, – сказал Жохов. – Дело в другом. Как искать? Давайте обмозгуем.
– Надо сообщить в штаб, – предложил вконец расстроенный Пенов.
– Сдурел? – Костыря выразительно повертел пальцем у своего виска. – Панику поднимать.
– Штаб тут не поможет, – сказал Курбатов. – Сами найдем.
– Вот притихнет малость – и найдем, – уверенно заявил Костыря.
– Неделю будет реветь – неделю ждать будешь? – спросил Пенов. – Он замерзнет.
– Не каркай раньше времени, – огрызнулся Костыря. – Он сибиряк, он знает, что делать. Ему эта буря – раз плюнуть, не то что мне, одесситу. Я человек южный, мороз мне не в жилу.
– В сугроб надо залезать, – сказал Курбатов. – У меня дед так спасся. В степи буран его застал. Три дня в сугробе просидел. Живой остался. Даже не обморозился.
– Раз на раз не сходится, – подал голос Жохов.
– Время же идет! – чуть не стонал Пенов. – Чего вы?
– Давай еще постреляем и покричим, – предложил Жохов и вышел из помещения.
Матросы еще кричали и стреляли.
Ветер сбивал с ног, не давал шагу шагнуть. А главное, не знали они, куда идти, в какой стороне искать Чупахина. Ловушки у него стояли везде. У которой из них застала его пурга?
Когда вернулись в дом, Жохов решительно сказал товарищам:
– Все. Больше ждать нельзя. Слушай мою команду. – Он внимательно оглядел всех. – Со мной идут Курбатов и Костыря.
– Как так? – спросил Генка Лыткин. – А я?
– Со мной пойдут сильные, а ты слабый, – отрезал Жохов и свел широкие густые брови.
– Какой я слабый?! – возмутился Лыткин. – Тоже мне – определил!
– Ты что, хочешь пост оголить? – спросил Костыря, чувствуя свое превосходство над Лыткиным. – А если с нами что стрясется, тогда пост как?
Лыткин нехотя отступил перед доводами Костыри и буркнул:
– Возьмите конец. Привяжите к дому и идите по нему.
– Идея! – одобрил Костыря и хлопнул Генку по плечу. – Не голова, а сельсовет.
Лыткин недовольно дернул плечом, он совсем не разделял настроения Костыри.
– Костыря, бери конец, – приказал Жохов.
Вышли из дому, привязали тонкий пеньковый канат к стойке у крыльца и, распутывая бухту и держась друг за друга, двинулись в белую темень. Ветер сбивал с ног. Ребята падали, поднимались и упорно двигались в ревущую белесую мглу. Кричали. У поста стрелял Генка Лыткин.
Вдруг под ноги Курбатову, который шел вторым за Жоховым, подкатило сбоку что-то круглое и черное. Виктор испугался. Кто знает, что тут может носиться по тундре! Но тотчас рассмотрел – шапка, чупахинская.
– Смотрите! – крикнул он и захлебнулся ветром. – Шапка!
Он схватил ее и показал. Неужели!..
– Пошли на ветер! – закричал Жохов, поворачиваясь спиной к ветру. – Ее оттуда ветром пригнало. Он там!
– Конец кончился! – крикнул, пересиливая пургу, Костыря и подергал за канат.
– Стой тут! – приказал Жохов. – С места не сходи, а мы еще походим вблизи. Пошли! – махнул он Курбатову.
– Пошли! – кивнул Виктор и схватил Жохова за рукав полушубка.
Костыря, оставшийся на месте, сгинул в пурге.
Держась друг за друга, Жохов и Курбатов шли в снежной коловерти. Кричали. Прислушивались. В ответ – свирепый вой ветра. Выбились из сил. И уже хотели поворачивать назад, как Жохов налетел на что-то. Нагнулся.
Из сугроба торчал конец лыжи.
– Лыжа! – заорал он. – Здесь он!
Подергали за лыжу. С того конца, из-под сугроба, тоже дернули.
– Здесь он, живой! – радостно закричал Курбатов и стал яростно разгребать снег.
Они быстро разрыли сугроб. Из логова вылез Чупахин, Виктор облапил его и затряс.
– Живой, Вася, живой! Как тебя угораздило! Еле нашли.
Жохов кричал:
– Тут же совсем рядом! Метров сто до поста!
Чупахин молчал. Жалкая улыбка кривила ему губы, и он отворачивался, боясь, что подчиненные увидят его слабость.
– А где добыча? – спросил Виктор.
Чупахин безнадежно махнул рукой. Песцов он потерял, когда его несло по склону и крутило через голову.
– Пошли, пошли! – торопил Жохов.
Двинулись побыстрее к посту. Прошли мимо Костыри, не заметили. И только когда налетели на канат, подергали ему. Собирая канат кольцами на руку, из белой мглы появился Костыря. Увидел Чупахина, полез обниматься.
– Давай, давай! – торопил Жохов. – Пошли!
По канату вернулись в пост.
* * *
И снова жизнь на посту вошла в свою колею, снова потянулись длинные и скучные сутки, наполненные однообразными вахтами на смотровой площадке, дежурством по камбузу, изучением уставов, стрельбой по целям и строевой подготовкой.
Чупахин был беспощаден и весь день до отказа забивал всяческой работой, как на большом образцовом корабле.
Наутро после того дня, когда он чуть не погиб, Чупахин, проверяя вахтенный журнал, обнаружил – нет записи о том, что произошло накануне.
– Почему не записано? – спросил он Костырю, который вел этот журнал.
– А зачем? – удивился Костыря. – Нашли же тебя.
– В вахтенном журнале должно быть записано все, что произошло на посту.
– Тебе влетит от начальства, – предупредил Костыря.
– Порядок есть порядок, вахтенный журнал есть вахтенный журнал. Понятно? А пока за нарушение службы один наряд вне очереди. Выдраишь палубу.
Костыря с искренним изумлением спросил:
– Ты что, чокнулся?
– Два наряда вне очереди! – повысил голос Чупахин. – Один за журнал, другой за пререкания. Повторите!
– Есть два наряда! – откозырял Костыря и уже другим тоном спросил: – Ну что ты за человек – все время придираешься!
– Дисциплина должна быть. Так что давай начинай драить палубу. Понял?
– Чего тут не понять. Ходячий устав ты.
– Без разговорчиков. А то еще накину. Выполняй приказ.
– Есть! – буркнул Костыря.
Когда Чупахин вышел из кубрика, Костыря сказал Жохову, чистившему оружие:
– «Палуба, палуба». Какая это палуба! Смех сказать. Пол обыкновенный. А он все как на корабле. Спасли человека на свою шею.
– Говори, да не заговаривайся, – оборвал его Жохов.
– Да я в шутку, чего ты окрысился.
– Взаправду или в шутку, а языком не трепли.
– Ладно, ладно – я же не всерьез, – сдался Костыря. – У меня всегда так. Я вот раз мужика из воды вытащил, а он на меня драться полез.
– Правильно сделал, – Жохов хмуро поглядел на Костырю.
– Да ты послушай сначала, а потом резолюцию накладывай.
– Ну.
– Вот тебе и ну. Тонет, понимаешь, мужик, пьяный, а я на спасательной станции работал, «жмуриков» из воды таскал.
– Ну.
– Чего ты заладил: ну да ну. Кобыла я тебе? Так вот, тонет мужик.
– Слышал.
– Слушай дальше. Такого не услышишь. Вытащил я его, как говорится, с риском для жизни. Заволок в лодку, к берегу пригребаю. А по берегу его жена бегает, волосы на себе рвет, в крике заходится. Ну успокоил ее: живой, мол. Откачали мужика. Оклемался он, встал. А жена ему и говорит: «Митя, родный мой, что они над тобой исделали?» Это мы-то! Спасли, а она «что они над тобой исделали?». «Они, – говорит, – тебя за волосья тащили». Мужик ко мне, я ближе всех стоял. Прет медведем. Спрашивает: «Ты как меня достал?» – «За волосы», – говорю. «А кто тебя просил за волосья меня тягать?» А сам наступает на меня, как танк. «Да, – говорю, – сачка не было, чтобы тебя, как сазана, вытаскивать». А он, недолго думая, как врежет мне в нос! От удивления я аж на корму сел. А он орет: «Не имеете права советского человека за волосья тягать! Это вам не ранешнее время! У меня и так этой растительности нехватка!» И опять норовит ударить. Ну я вскочил да как шарахну его. А жена его как завопит: «Караул, убивают!» Двое суток из-за него в КПЗ отсидел, пока в милиции разбирались, кто виноват. Вот и спасай после этого людей. Их спасешь, а они тебя потом… Старшой еще вам всем по наряду сунет. Вот узнает, что два диска патронов высадили в белый свет, так сунет. И до чего он эти наряды любит! Офицеров нету, а он старается. На физзарядку гоняет. А кому она нужна?
Физзарядка была больным местом Костыри. Он любил поспать, а Чупахин поднимал всех в шесть утра и выгонял из дому, несмотря на погоду. Полчаса бегали, прыгали, выполняли комплекс гимнастических упражнений. Жохов выжимал несколько раз большой камень, лежащий у входа в пост. Этот камень никто не мог поднять, только Жохов. Правда, еще Чупахин мог оторвать от земли. А Жохов поднимал его над головой.
– Тебе в цирке выступать, – говорил Костыря. – Я перед войной борца видел в цирке, фамилия Кара-Юсуф. Вот боролся! Всех на лопатки кидал. Р-раз! – и в дамках! А гири какие подымал! Как бог. Мне бы такую силу, я бы!..
После физзарядки один только Виктор Курбатов обтирался снегом. Костыря совал палец в сугроб, держал секунду и говорил:
– Нет, эта ванна не по мне. Я привык купаться в Черном море, или на худой конец в подогретом шампанском, или в молоке, как Гитлер.
Однажды морозным тихим утром Костыря вот так же чесал язык, как вдруг застыл с открытым ртом.
По всему небу внезапно вспыхнула волнистая завеса, переливаясь изумрудным и рубиновым светом. Звезды и луна померкли.
По снегу побежали отблески сияния, и тундра, и призрачная даль – все переливалось, играло, меняло цвет, силу, яркость.
– Красота-то какая! – зачарованно выдохнул Генка Лыткин.
Ребята притихли, будто попали они в волшебную сказку, в хрустальный дворец Снежной королевы.
И вдруг исчезло все. И снова только призрачный рассеянный свет луны, снова безмолвная снежная синяя пустыня и молчащее небо.
– Вот здорово! – обрел наконец дар речи Костыря. – Как в сказке! Было – не было.


Будто бы в доказательство, что это не сказка, опять ударил посреди неба свет, словно взрыв гигантской беззвучной бомбы. Вспыхнула и засияла в зените многоярусная огромная звезда, и лучи ее протянулись в полнеба, многоцветные, яркие, холодно сверкающие. И казалось, что огонь этот гремит в бездонной выси. Захватывало дух от мощи, красоты и необычности величественного зрелища. А стрелы все летели и летели и, постепенно теряя свою яркость и силу на излете, туманно растекались по краям неба, рассасывались в темноте горизонта.
– Вот бы нарисовать, – мечтательно вздохнул Лыткин, во все глаза глядя на это чудо природы.
– Нарисуй, – предложил Чупахин. – Ты же художник.
– Красок таких нет, – задумчиво и сожалеюще ответил Генка. – Никогда не подобрать таких красок.
Долго еще стояли матросы, стояли, пока не погасло северное сияние. И тогда почувствовали, что закоченели.
– Так не заметишь и дуба дашь, – лязгнул зубами Костыря. – Опомнишься, а ты уже в деревянном бушлате и свечка в руках.
Гурьбой ввалились в теплое помещение.
– Пользы нету от твоих рисунков, – сказал вдруг Чупахин Лыткину.
– Как нету? – не понял Генка и даже перестал намыливать руки.
– А так, – убежденно ответил старшина, с наслаждением фыркая под умывальником. – Сам же говоришь – северное сияние не нарисовать, красок таких нету.
– Ну точно не передашь, конечно, – согласился Генка, – а настроение передать можно.
– Ничего не получится. Можешь ты вот, к примеру, лес нарисовать? Ну стволы там нарисуешь. Это и ребятишки смогут, у меня вон братишки тоже малюют. А вот шум в вершинах сможешь нарисовать или птичье пение? А-а, вот то-то! – победно посмотрел Чупахин, хотя Генка не возражал. – А без птиц какой лес! Или вот степь. Перепелки: «Пить-попить! Пить-попить!» Днем. А вечером: «Спать пора, спать пора!» А без перепелок какая степь! Как цветы пахнут, как пчела жужжит, суслик свистит – это ты нарисуешь? Голоса их?
– Голоса, конечно, не передашь, а шум ветра передать можно.
– Это как же? Патефон сзади поставишь?
– Нет, без патефона. Вот есть такая картина художника Рылова, «Зеленый шум» называется. На ней березы под ветром нарисованы, и шум слышно.
– Ну это ты врешь, – усмехнулся Чупахин и стал с удовольствием окатывать ледяной водой из рукомойника свою бурую и жилистую шею.
– Нет, не вру.
– Значит, за картиной воздуходувка стоит.
– Нет, не стоит. Смотришь – и слышишь шум. Представить надо.
– Представить – это не то, – стоял на своем старшина. – Представить я все могу, даже что Костыря сутки слова не скажет. А вот ты нарисуй. Перепелка говорит: «Пить-попить». Или вечером сидишь у озера и слушаешь, как в камышах утка с выводком шепчется: «Шш-ш-ши, ххр-ш-и!» Это она знак подает. Сидите, мол, тихо. А они тоненько так ей: «Пи-пи-ипь, пи-пи-ипь». Сидим, мол, сидим. Или рыба играет. По воде хвостом «чмок!» – и круги! Увесисто так «чмок!». И опять тихо. Ворона каркнет – и тишина. Век бы так сидел и слушал. Вот нарисуй попробуй. Нет, не нарисовать, – убежденно заключил старшина и начал крепко растираться полотенцем. – Вот портрет какой – это верно, это можно нарисовать. У нас завклубом был до войны. Здорово рисовал. По клеткам с фотокарточки. Умрет кто – ему несут фото. Он раз-раз – и готово! Как живой покойник сидит. Ты умеешь портреты?
– Я природу больше, – ответил Генка.
– Большие деньги загребал.
– Кто? – не понял Генка.
– Ну кто. Завклубом. Несколько деревень обслуживал. А долго ли, раз-раз! – и портрет. Легкая работа, только руку набить надо. Озолотиться можно, если участковый или фининспектор не застукает. Так ты не умеешь портреты?
– Не пробовал.
– А ты спробуй. Меня вот нарисуй, – предложил Чупахин.
– Давай, – неожиданно согласился Лыткин.
– Идет, – обрадовался Чупахин. – Только я в парадное оденусь.
– Да не сейчас, потом когда-нибудь, – видя такую поспешность, сказал Генка.
– Почему потом? Вот вечером будет личное время и рисуй.
– Нет. Мне надо приглядеться к тебе, характер понять…
– Чего тебе мой характер! – удивился Чупахин. – Ты лицо рисуй – и все. Чтоб похож был.
– Нет, так нельзя.
– Почему нельзя? К фотографу вон приходишь, он не спрашивает, какой у тебя характер. Чик! – и готово!
– Там готово, а тут нет.
– Не хочешь – так и скажи. Характер ему надо, – ухмыльнулся Чупахин. – Будто ты меня не знаешь! Полгода вместе служим… Завтракать! – приказал старшина и пошел, недовольный, к столу.
В тот день по камбузу дежурил сам старшина. Кок он был отличный и в свое дежурство кормил ребят на славу. Костыря даже предлагал сделать Чупахина постоянным коком, а старшиною назначить Жохова, «великого немого». Двойная выгода была бы: во-первых, каждый день кормились бы вкусно и, во-вторых, не было бы слышно команд.
На этот раз Чупахин сварил на завтрак великолепную рисовую кашу. Костыря уплел тарелку и, попросив добавки, вдруг заявил:
– Если хочешь знать, тебя вообще рисовать нельзя.
– Это почему? – удивился Чупахин и даже перестал накладывать кашу в тарелку Костыри.
– Почему! А бородавка вон на носу. С бородавкой что за портрет!
– Без бородавки можно, – буркнул Чупахин.
Эта проклятая бородавка, прижившаяся на правой ноздре старшины, причиняла ему много неприятностей. Она все время была предметом матросских насмешек и подначек.
– А давай я ее сведу, – неожиданно предложил Костыря.
– Как? – покосился на него Чупахин.
– Раз плюнуть. Накладывай кашу-то, накладывай. Хорош, лишнего мне не надо. Ниткой суровой перетянуть – и все.
– Ври, – не поверил такому легкому избавлению старшина, но по голосу было слышно, что он колеблется.
– Забожусь, – постучал себя в грудь Костыря, поняв, что поймал старшину на удочку.
Все знали, что Чупахин тайно страдал от такого недостатка, вернее, излишества на носу, и теперь замерли, ожидая, какое еще коленце выкинет Костыря.
– Только нитка должна быть черной, а не белой, – на ходу придумывал Костыря. – С белой не получится. – И, секунду помыслив, добавил: – Правда, ее нужно вокруг поста в зубах пронести. Три раза. Тогда получится.
– Я тебе пронесу! – пригрозил старшина и стал наливаться бурой краской.
– Как хочешь, – нарочито равнодушно пожал плечами Костыря и полез из-за стола. – Хотел доброе дело сделать, красоту навести. Спасибо за угощение. А что будет на обед?
Чупахин не ответил. Ребята молчали, наблюдая, чем все кончится: перехитрит Костыря старшину или нет. Чупахин не знал, что делать. Он не доверял Костыре, зная, что Мишка способен на любой подвох, его хлебом не корми, только дай над кем-нибудь посмеяться. И в то же время вкралась мысль, а вдруг и в самом деле можно освободиться от этой проклятой бородавки, из-за которой обходили его девки в деревне.
– Ну давай колдуй, – наконец решился Чупахин. – Только гляди!
Он выразительно посмотрел на Костырю.
– Гляжу, гляжу, – охотно согласился Костыря и незаметно подмигнул ребятам. – Сделаю красавчика первый сорт. Люкс.
Не откладывая дела в долгий ящик – чего доброго, старшина передумает! – Костыря тут же принялся хлопотать. Выдернул из робы суровую нитку и двинулся к старшине.
– У меня у самого вот тут бородавка была, – неопределенно повел рукой возле лица Костыря. – Видишь, нету.
Неожиданно подал голос Пенов:
– Точно, товарищ старшина, моя бабка так же сводила бородавки. Перехлестнет ниткой у корешка – и отпадает.
Эти слова окончательно убедили Чупахина. Пенов не мог соврать. Он был очень уважителен к старшим, не то что эта балаболка Костыря. Пенов побоится разыграть старшину.
– Ну ладно, давай, – сказал Чупахин.
Костыря быстренько перетянул у основания большую, висящую на тонкой ножке бородавку и нарочно оставил длинные кончики нитки. Вид у старшины стал потешный. Чупахин, чувствуя это, еще строже хмурил белесые брови, еще значительнее покашливал, но ребята тайком перемигивались и гасили улыбки, встречая настороженный взгляд старшины. Костыря цвел от своей выдумки.
Но самое удивительное случилось через три дня. Бородавка действительно отвалилась.
– Ну что я говорил! – торжествующе стучал себя в грудь Костыря, хотя больше всех был удивлен таким неожиданным оборотом дела.
– Ладно, – снисходительно махал рукой Чупахин, стараясь сохранить равнодушный вид, но ребята видели – ликовал он! И по нескольку раз в день заглядывал в зеркальце, чтобы лишний раз убедиться, что исчезла-таки чертова бородавка.
* * *
В начале февраля почувствовали матросы приближение далекой весны. Три месяца не видели они солнца. Только звезды мерцали над сине-дымчатой снежной пустыней да лунный свет неясно озарял безмолвные сугробы. Лишь северное сияние изредка вносило радостное разнообразие в постоянно мрачный пейзаж.
И хотя тундра все еще продолжала лежать в нетронутых снегах, и у берега был крепкий припай, и мороз еще был силен, и метели еще были часты, но в тихие часы что-то неуловимое уже говорило о приближении весны, волнующе и грустно наносило с юга теплой сырью, и радостной тревогой наполнялось сердце.
Около полудня на небе притухали звезды, на восточном горизонте проступал неясный розоватый свет. Матросы с нетерпением ждали появления солнца, и все же появилось оно неожиданно. Как-то в кубрик влетел Костыря и гаркнул:
– Свистать всех наверх! Солнце показалось!
Матросы шумно кинулись на смотровую площадку и замерли. На востоке, в бледно-розовой полоске, из-за горизонта робко показалась багровая горбушка, ослепительно яркая и праздничная, а может, просто так почудилось им, давно не видавшим солнца.
– Ура-а-а! – заорал Костыря. Все подхватили его крик, и над тундрой понесся торжествующий клич во славу чуда из чудес – солнца.
А солнце на глазах победно и неотвратимо поднималось и ширилось, и все кругом преображалось. Порозовели снега под косыми и еще слабыми лучами, и странно было видеть снег розовым, а не синим, каким лежал он всю полярную ночь. Ребята зачарованно глядели на диво дивное, на чудо чудное и улыбались. Солнце, солнце! Какое счастье все же – солнце!
– Живем! – Костыря от избытка чувств так ахнул Пенова по спине, что тот задохнулся и долго кашлял.
– Теперь полегше станет, – сказал Чупахин, и все поняли, что он говорит о тех мучительных днях без света, которые миновали. Угнетало, доводило до глухой тоски постоянно темное небо. Утром, днем, вечером, ночью – постоянно черное небо.
А солнце не вырастало больше, оно передвигалось по горизонту, и ребята заметили, что на светлой горбушке появилось какое-то пятно. Матросы глядели на эту движущуюся по солнцу точку и не понимали, что это такое.
– Это что – солнечное пятно? – спросил Генка Лыткин.
– Зверь, что ли, какой бежит, – раздумчиво откликнулся Чупахин.
– Песец у тебя из капкана удрал, – хмыкнул Костыря.
Было и вправду похоже, что какой-то зверек перебегает солнце. Чупахин схватил бинокль, поднес его к глазам и радостно воскликнул:
– Оленья упряжка!
– Ура-а-а! – завопил Костыря. Матросы взволнованно загалдели.
– Даже две, – уточнил Чупахин, не отнимая бинокля от глаз.
Все рвали бинокль из его рук. Каждому хотелось побыстрее своими глазами увидеть долгожданных гостей. Это могли ехать только к ним. Неделю назад Пенов принял радиограмму о приезде на пост поверяющего офицера, с которым прибудут письма, газеты, продукты и боеприпасы.
Уже видно было и без бинокля. Олени неслись по озаренной солнцем тундре, будто мчали за собой не нарты, а само солнце.
– Гляди, гляди, – почему-то шепотом говорил Виктору Генка Лыткин и толкал его локтем. – Какая картина! Олени и солнце. Ух ты! Красота-то какая!
А солнце между тем уже исчезало, оно плющилось, сжималось, будто от мороза, который стал еще крепче. Светящаяся горбушка скользила за горизонт, становилась тоньше и тоньше. И снова стали набирать синеву снега, стало темнеть небо, и уже прорезались первые звезды. Но теперь с легким сердцем провожали ребята солнце, знали: с каждым днем все больше и больше будет оно задерживаться на небосводе, будет все ярче и ярче разгораться, и наконец наступит время, когда уже не уйдет с неба круглые сутки, и начнется долгий полярный день.








