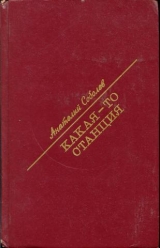
Текст книги "Какая-то станция"
Автор книги: Анатолий Соболев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
В замерзшее окно просачивался лунный свет, и Вася уже различал предметы. Фрося легко и бесшумно ходила по комнате, скинув шубейку и шаль, тряхнула волосами. Подошла к печке и, греясь, приложила к ней ладони, прислонилась всем телом и на какой-то миг замерла.
– Чего стоишь-то, раздевайся.
Фрося подошла к Васе и стала расстегивать шинель, руки их встретились.
– У-у, какие руки у тебя холодные. – Она погладила их. – Поди, сердце горячее?
Фрося вдруг схватила голову Васи ладонями и впилась в его рот сильными губами. Вася задохнулся и так стоял, боясь сдвинуться с места. Он ощутил горячую ее дрожь и вдруг начал дрожать сам. Почувствовал, как она обмякла и стала заваливаться на спину. Он схватил ее, боясь, что она упадет. Какое-то время Фрося продолжала прижимать его к себе, но неожиданно оттолкнула и с досадой сказала:
– Господи, телок какой!
– Я не телок, – хрипло сказал Вася и не узнал своего голоса.
– А чего же ты… – Вася почувствовал, как она напряглась, насторожилась. – Да ты, поди, еще… Погоди, сколько тебе лет?
– Семнадцать, – не посмел соврать Вася.
– Семнадцать! – пораженно протянула Фрося. – Господи! Я думала, старше. Ой, а я-то… совсем угорела. Вот подлая, вот подлая!..
Она отошла к печке и прислонилась к ней щекою, ладошками, грудью. Вася стоял в полурасстегнутой шинели и не знал, что делать. И вдруг он услышал какие-то странные звуки: Фрося не то смеялась, не то плакала.
– Вы плачете? – робко спросил Вася. – Я вас обидел?
– Нет, Вася, – вздохнула Фрося. – Это я тебя чуть не обидела.
– Нет, что вы! – стал уверять он ее. – Вы меня не обидели.
Вася очень обрадовался, что вот она совсем и не обиделась на него. Фрося провела руками по своему лицу, вздохнула глубоко, будто вынырнула из омута, и сказала:
– Век бы себе не простила. Это бражка в голову ударила. Как угорела все равно. Ты скинь шинель-то, не бойся.
– Я пойду.
– Погрей хоть руки, вот печка.
Вася подошел к печке и прислонил ладони к теплой стенке. Фрося стояла рядом, тоже приложив руки к печке, и говорила ровным, уже спокойным голосом:
– Я ведь баба. Намного старше тебя, мне двадцать три. Я иной раз сама себя пугаюсь. Ты не осуждай.
– Нет, что вы, что вы! – искренне уверял Вася. – Вы хорошая.
– Хорошая, – усмехнулась Фрося. – Спасибо на слове.
– Ну, я пойду, – попросился Вася.
– Иди, Василек, иди. Да не говори никому, что у меня был.
Она заботливо повязала ему тесемки под подбородком.
– Лицо-то прикрывай, а то в поле ветер режет. Ты не серчай на меня, ладно?
– Я не серчаю, нет, вы не думайте.
– Ну, вот и хорошо. – Она легко поцеловала его в щеку. – Ох ты, господи, вот доля наша бабья. И когда эта война кончится! – вдруг вырвалось у нее с мучительным надрывом. – Ну, ступай, ступай!
Вася шел по полю и не замечал мороза. Впервые по-взрослому он осознал, как трудно женщинам одним, постиг, что война страшна и здесь в такие вот ночи.
Дома он застал старшину и директора, сидящих за столом. Оба встретили его внимательным взглядом.
– Жив? – спросил старшина.
– Жив, – смущенно ответил Вася.
– Тебе, парень, молоко пить покуда, – сказал директор. – Не привыкай к этому зелью. – Он кивнул на кружку. – И здоровью вред, и уму-разуму.
– Ложись спать, – приказал Суптеля, хмуро посматривая на Васю.
– Ложусь, – покорно согласился Вася, понимая, что сейчас самое лучшее лечь спать: и старшина ругать не будет, и, наверное, он помешал им вести какой-то свой разговор.
Вася быстренько разделся и юркнул в постель, отвернулся лицом к стене.
Думал, что как только ляжет, так уснет, но уснуть не мог. Перед глазами стояла темная комната, слышался прерывистый шепот Фроси, руки все еще чувствовали, помнили ее горячее тело, его тяжесть. И никак не проходило ощущение какой-то вины перед нею, а в чем вина, объяснить не мог.
Он слышал, как старшина и директор молча чокнулись алюминиевыми кружками, выпили и сочно закусили головкой лука.
– Умаялся, – с усмешкой в голосе сказал директор.
– Спит, – согласился Суптеля. – Салажонок еще совсем.
– Юнец-юнец, а к Фроське поперся.
– Она сама его повела.
– Сама не сама, а пошел, – стоял на своем директор. – Наш брат всегда так, это уж в крови. Вроде бы весь резон к одной идти, а идешь к другой. Ему вон к Тоньке надо было – уши морозить, а он к Фроське – в тепло.
Они помолчали, и в этом молчании Вася уловил, что думают они сейчас совсем не о нем.
– Понимаешь, комиссар она у меня, – вздохнул директор – я командир, а она комиссар. Когда надо баб поднять, она подымает. Вот тогда, на воскресник, она по домам ходила, по-бабьи, по-своему с ними поговорила – и пришли. Дай прикурю.
Вася услышал, как директор, шумно чмокая губами, прикуривает и глубоко затягивается махорочным дымом.
– Вот, – снова сказал он. – Первое – это комиссар. А теперь второе. Почему комиссар? Она беспартийная. Отвечаю. Потому что святая она. Да! Не таращь глаза. Святая. На нее бабы, как на божничку, молятся. Они из-за ее чистоты сами чистые ходят. Это понимать надо. Ежели она сейчас оплошает, коллектив весь рассыплется. А это на фронте отразится. Это дело государственной важности. Вот какая диспозиция. Директор помолчал, слышно было, как он курит.
– В женском деле она кремень. Я знаю. Но ведь, как говорится, и на старуху бывает проруха. А она, какая старуха, ей двадцать шесть. Опять же баба. Женщина-женщина, а все баба. Живая. И вдова. Ждать некого, изменять некому. Похоронку еще в сорок первом получила. И за все эти годы – ни-ни. Кремень. – Директор вздохнул. – А тут вижу, сдает позиции. И я ее понимаю, жалею, и опять же – позиции сдавать нельзя. Вот какой коленкор. Тут как в обороне, знаешь, один дрогнул, побежал, и другой кинулся за ним. Понимаешь?
Суптеля не отвечал.
– И третье. Такие женщины, как она, позарез народу нужны. Это вопрос государственной важности. Я тут гляжу не только на нее, а на весь наш поселок, на весь народ. Ты чего молчишь? Не согласен?
– Согласен, – глухо сказал Суптеля. – Скажи, а ты случайно не влюблен в нее?
Директор крякнул, молча чокнулся кружкой, выпил и сказал:
– В яблочко угадал. Всю жизнь. С парней еще.
– Так я и подумал. А чего ж не женился, если с парней еще?
– Насильно мил не будешь. Слыхал такую пословицу?
– Слыхал.
Помолчали. Директор опять заговорил:
– Вышла она за моего дружка закадычного. Парень был орел! Под Ленинградом погиб. С той поры заледенела она, а тут вижу, оттаивает. И радостно за нее, и страшно. Вот боюсь, как отец, боюсь. Понимаешь?
– Понимаю.
– Ни черта ты не понимаешь! – зло сказал директор.
– Это почему? – удивился Суптеля.
– А потому, что я на твоем месте взял бы да и женился на ней.
Вася услышал, как старшина встал из-за стола и полез в сундук, где хранился спирт в бутыли.
– Вру я, – вдруг сказал директор. – Вру, что, как отец, беспокоюсь. Люблю я ее. До сих пор люблю. Понимаешь? И жена об этом знает, и она, Клава, да и весь поселок знает. Я ведь с горя женился, когда она замуж за дружка моего вышла. Пил, буянил, по бабам ходил. Все думал – вытравлю из сердца! Ну, с женой на этой почве разлад семейный. Тоже, если подумать, изломал я ей жизнь. И так кинешь, и эдак – все клин. А она детей любит.
– Клава?
– Нет, жена. Детей у нас нету. Говорят, от нелюбимой не рожаются.
– Рожаются.
– А у нас вот нету.
Вася вспомнил, что не один раз видел жену директора у тети Нюры, то оладушек принесет, то сахарку. Видел, как она на улице вытирала Митьке нос, приговаривая: «Сиротиночка ты моя, несмышленыш». Подвязала ему тесемки у шапки и, помахав рукой, ушла.
Старшина налил в кружки, чокнулись, выпили.
– Мысль какую-то я потерял, – сказал директор. – О чем я говорил?
– О жене.
– Нет, это я помню. Я о Клаве что-то важное хотел сказать. Да, вспомнил. Если бы ты на ней женился, я бы сплясал на вашей свадьбе, самый веселый человек бы был. Ей-бо! Потому как знаю, что любит она тебя. А раз уж полюбила, то навек. – Голос его окреп. – А шутки шутковать не позволю. Даже против ее воли. Понял?
Суптеля не ответил.
– Ну, что-то я совсем отрезвел, – сказал директор. – И пить уж хватит.
А Вася вдруг вспомнил, как с неделю назад послал его старшина в контору и как, открывая дверь, он услышал слова Клавы: «А ты мне не указчик, Иван, не указчик. Ты по работе начальник, а в бабьем деле я сама разберусь, сама себе хозяйка».
– Ну, говорил ты целый вечер, – услышал Вася слова Суптели. – Теперь меня послушай…
Но что должен был послушать директор, Вася так и не узнал. Он больше не мог бороться со сном и с блаженной расслабленностью провалился в темную теплую яму.
В тот день Вася, как всегда, стоял на шланг-сигнале. Суптеля сидел на телефоне, а Андрей был под водой.
Мела поземка, ветер порывами налетал с пустыря, но теперь это был уже не пронизывающий до костей северный ветер, а южный, теплый. Где-то за горами, за лесами шла весна, и ее первое дыхание долетало сюда. Хотя небо еще низко, хмуро, сплошь забито тяжелыми сырыми облаками и горизонт покрыт оловянной мглой, все разно чувствовалось, что идет, надвигается, вот-вот нагрянет весна.
В полдень снег сырел, прилипал к сапогам, и в воздухе появилось что-то такое, от чего Васе хотелось петь. И все время подмывало сделать что-нибудь озорное и веселое. Стоя на шланг-сигнале, Вася глядел в серую низкую даль и беспричинно улыбался.
Женщины катали бревна в штабель, темная громада которого с каждым днем все увеличивалась.
…Вася не видел, как Клава поскользнулась, и как бревно поползло на нее и придавило ногу. Не видел он и того, как Фрося, подставив лом, всеми силами пыталась удержать сползающее со штабеля бревно, и как этот лом выбило из ее рук. Он услышал испуганный вскрик, обернулся и мгновенно понял, что произошло. И кинулся на помощь.
– Чариков! – крикнул ему Суптеля. – Назад!
– Там Клаву!.. – Вася обернулся на бегу.
– Назад, приказываю! – повысил голос старшина. Вася остановился.
– Клаву же, видишь!..
– Встать на шланг-сигнал! – оборвал его старшина. – Быстро!
Вася недоуменно смотрел на старшину.
– Быстро, быстро! – голос старшины зазвенел. Вася подчинился, взял в руки шланг-сигнал.
Фрося и подскочившие на помощь женщины высвободили Клаву. Прикусив губу, без кровинки в лице, она лежала с закрытыми глазами.
– Ой, Клава! – горестно простонала Фрося. – Неужто сломала?
Она потянула валенок, Клава вскрикнула и открыла глаза.
– Потерли, потерпи, милая, – уговаривала ее Фрося, – снять надо.
Протяжный, мучительный стон вырвался у Клавы. Фрося осторожно стянула валенок, спустила черный штопаный чулок и обнажила ногу. Перелома как будто не было, но встать Клана не могла. Женщины сочувственно вздыхали.
– Я сейчас, за фельдшером! – крикнула Фрося. Обернувшись, она увидела старшину, подскочила к нему:
– Ты, бревно!.. – и такое загнула, что Вася оторопел, а Суптеля сжал челюсти, вспухшие желваки закаменели на скулах. Сдвинув брови, он глядел в снег.
– У-у! – не нашла больше слов Фрося и, погрозив ему кулаком, побежала в поселок.
Суптеля глухо, изменившимся голосом приказал:
– Подымай!
Вася потянул мокрый шланг-сигнал.
Хрипло, почти не разжимая зубов, Суптеля ронял каменные слова:
– Ты не имеешь права никогда, ни при каких обстоятельствах бросать шланг-сигнал. Понятно?
– Клаву же придавило.
Вася все еще ничего не понимал. Суптеля обжег его взглядом.
– А если бы с водолазом что случилось в этот момент? Тогда как? Кто стал бы его вытаскивать? – чеканил слова старшина. – От тебя зависит жизнь водолаза. Ты стоишь на посту и не имеешь права ни при каких обстоятельствах покидать этот пост. Запомни это.
– Но ведь Клаву же могло…
– Молчать! Без тебя знаю, что могло… Три наряда вне очереди! А в следующий раз на «губу». И с водолазов выгоним с треском! Водолаз – это дисциплина в первую очередь! Запомни!
– Хорошо.
– Не «хорошо», а «есть»! – зло сказал Суптеля.
– Есть! – покорно повторил Вася.
Прибежала фельдшерица – Тонина мать, вслед за ней приехала Дарья на санях.
Фельдшерица осмотрела и ощупала йогу, сказала, что перелома нет, но может быть трещина в кости. Нужен рентген, а где его взять?
Клаву уложили на розвальни, и Дарья повезла ее в маленький домик с огромной, еще довоенной вывеской: «Амбулатория».
Фельдшерица осталась перевязать Фросе сорванный до крови палец. Она перевязывала, а сама с любопытством поглядывала на Андрея в скафандре, который только что вышел из воды, – ни разу еще не видела водолаза в полном подводном снаряжении. И Вася пожалел, что сейчас не он одет в скафандр, пусть бы посмотрела Тонина мать – он тоже водолаз и каждую минуту там, под водой, на волосок от опасности.
Уходя, фельдшерица спросила старшину:
– Почему вы не приходите на перевязку?
– Сегодня приду, – пообещал Суптеля, снимая с Андрея свинцовые груза, металлическую манишку, сигнал. Вася помогал ему, а сам никак не мог осмыслить до конца: что же это получается! Он должен стоять на шланг-сигнале, а в это время пусть задавит человека! Ведь он, Вася, не просто бросил шланг-сигнал, а побежал спасать Клаву. И в то же время он чувствовал, что в словах старшины есть суровая правда, железный водолазный закон. Под водой был человек, и надо было охранять его жизнь.
Директор пришел, когда водолазы обедали.
– Хлеб да соль, – улыбнулся он, снимая шапку.
– Едим, да свой, – в тон ему ответил Суптеля. – Садитесь с нами.
– Спасибо, я сыт. – Директор присел на табуретку, нахлобучил шайку на колено. – Я к вам по делу. Кланяться пришел.
– Кланяйтесь, – разулыбался Леха. – Еще никто мне не кланялся.
– Надо ребятишек премировать, – посерьезнел директор. – Квартал кончаем хорошо, с перевыполнением плана. Надо премировать. А чем? – Директор развел руками, вздохнул. – Вот и вспомнил я, что есть у вас сгущенное молоко. Одолжите без отдачи. Сладеньким пацанов побаловать. А?
– О чем речь, конечно, дадим, – сказал Суптеля, переставая есть.
– Вот и ладно, – обрадовался директор, – вот спасибо. А то, думаю, женщинам Восьмое марта справили. Шибко довольны они этим. Теперь ребятишек надо повеселить. Хорошо работают. Ударно. Заслужили.
Суптеля вылез из-за стола, открыл сундук с продуктами.
– Сколько надо?
– Да восемь человек их.
– Вот бери девять. Больше нету.
Суптеля выставил на стол банки с яркими наклейками. Молоко было американское.
– Ну, спасибо, ну спасибо, – растроганно говорил директор, сгребая банки со стола, – вот выручили так выручили! Что еще хочу попросить, братцы, – придите на торжественную часть. Ты, старшина, слово им скажи от имени Вооруженных Сил. Чтоб все было торжественно, чтоб запомнили они этот день. А? Так, чтоб поняли они, какое дело делают. А?
– Добро. – Суптеля кивнул. – Когда?
– Да вот сейчас прямо. Я им отдых даю после обеда.
Через час водолазы, одетые в парадную форму, надраенные и торжественные, прибыли в контору, где вдоль стены стояли женщины, среди них тетя Нюра и Дарья с гармонью.
Семеро мальчишек, лет по двенадцати-тринадцати, и девочка сидели за столом. Перед каждым из них красовалась банка сгущенного молока. Сидели они тихо, сконфуженные вниманием взрослых, в чистых рубашках, с приглаженными вихрами, смущенно зажав руки в коленях, и завороженно глядели на банки с яркими красивыми этикетками.
Директор в наглаженной гимнастерке, с орденом и медалями на груди, зачитывал торжественный приказ по заводу:
«…За доблестный гвардейский труд на трудовом фронте приказываю: первое – премировать вышеназванных товарищей по банке сгущенного молока американского происхождения, а Самсонову Аню – двумя банками, учитывая, что она девочка; второе – дать внеочередной выходной день в ближайшее время, как только разгрузимся с работой, а пока разрешить отдыхать после обеда сегодня; третье – организовать катанье на санках с горки и вечером прокрутить кино «Волга-Волга».
– Кино уже привезли, – уточнил директор и кивнул Дарье.
Дарья сыграла торжественный марш.
– Теперь, дорогие ребята, – объявил директор, когда Дарья закончила играть марш, – от имени Красной Армии выступит командир водолазов товарищ Суптеля Семен Григорьевич.
Старшина откашлялся, взглянул на своих водолазов, и они подтянулись, встали по стойке «смирно».
– Хлопцы, от имени Северного флота и Красной Армии объявляю вам благодарность за ваш труд для фронта и для победы…
Вася смотрел на ребят. Из них он знал только девочку. Она часто приходила к тете Нюре, доводилась ей какой-то родственницей. Когда тетя Нюра слегла после похоронки, девочка мыла полы и готовила еду. Мальчишек же этих он почти не знал, хотя поселок был маленький и каждый человек на виду. Он их видел только в цехе за токарными станками, на которых обтачиваются болванки для ружейных прикладов. А вот тот, самый маленький, с оттопыренными ушами и стриженный «под барана», который сейчас сидит с краю стола и сонно клюет носом, в цехе стоит у станка на ящике – без подставки не достает до суппорта. Мальчишки выстаивают у станков по целому дню, и после работы им уж не до беганья по улице…
Дарья заиграла марш на гармошке – Суптеля закончил речь.
Директор откашлялся и весело сказал:
– Ну а теперь, ребятки… – и осекся, глядя на край стола. Там, положив голову на руки, спал маленький мальчишка, подстриженный «под барана». Директор растерянно кашлянул, взглянул на водолазов, и грустная улыбка тронула его губы.
Все смотрели на уснувшего, а он, не ведая ничего, сладко спал сном человека, предельно уставшего и счастливого тем, что наконец-то может уснуть. Рот его был приоткрыт, и легкая улыбка тенью бродила по конопатому лицу – праздник мальчишки продолжался во сне, а может быть, он видел лето, солнышко, зеленую лужайку и как он, босоногий, играет в догоняшки, а может быть, пригрезилось и самое заветное – отец вернулся с войны и привез гостинцы.
– Пашка, Пашка! – толкал его мальчишка постарше, извинительно поглядывая на взрослых.
– Пущай спит, – сказал директор. – А вы, ребята мои золотые, ступайте по домам, своих младших гостинцем порадуйте, да ежели силы будут, в кино приходите. На санках-то уж не получится катания.
Ребята повылазили из-за стола, натянули видавшие виды пальтишки и телогрейки и гурьбой вывалили из конторы. А Пашка спал.
Тетя Нюра, вздыхая, расстелила его пальтишко на лавке, и директор перенес спящего и уложил.
– Беда с ними, – сказал директор Суптеле. – Силенок нету, к концу смены носом клюют. Того и гляди в станок попадут.
Директор закурил и, поглядывая на спящего мальчишку, сказал:
– А то игру затеют на работе. Прихожу раз в цех, а там бой идет. Тыркают друг в дружку из самодельных автоматов, за станки прячутся по всем правилам военного искусства. А этот вот, Пашка, ревет слезами: «Не убили, не убили меня! Я просто ранетый! Я буду воевать! У меня тятя три раза ранетый, а воюет!» После смены, вечером, собрал я производственное собрание, держу речь о трудовой дисциплине, а их в сон кинуло – четверо уснули. Вот работнички какие. – Директор вздохнул, глубоко затянулся дымом. – А у каждого из них дома орава голодных пацанов, мал мала меньше, а они старшие. Им еще в прятки играть да в куклы, а они уж… – Голос директора накалился ненавистью. – Вот она, война! Я бы этого Гитлера!..
Приближалась поздняя северная весна.
Мартовские дни были солнечны, в затишке, на солнцепеке пригревало. По ночам еще держал морозец, заковывал подтаявший за день зернистый снег в крепкую ледяную корку, но к обеду распускало – работать на льду стало легче.
Как-то в воскресенье Суптеля заставил чинить водолазные рубахи, перебирать помпу и делать новые плетенки для галош. Леха был очень недоволен таким оборотом дела в свободный день и дулся. Андрей вообще был неговорлив, Вася же мечтал о Тоне, с которой два дня назад, вечером, опять стоял до посинения у крыльца. И потому все работали молча.
Суптеля поглядывал на товарищей и понимающе усмехался. Вдруг предложил:
– Давайте пирогов напечем.
– Идея, – коротко одобрил Андрей.
– Дрожжи бы надо раздобыть, – сказал старшина. – Или закваску какую. Дрожжи теперь днем с огнем не найдешь.
– Я могу, – подал голос Леха и отложил в сторону водолазную рубашку, которую клеил. – Через полчаса будут как штык.
Суптеля понял его маневр. Кто-кто, а старшина знал, что Леха рад любом случаю сачкануть.
– Шустрый.
– Я тоже могу, – сказал Андрей, выжидательно глядя на старшину.
– А ты? – спросил Суптеля Васю.
– Я? – удивился Вася. – Не знаю. – И, почему-то покраснев, добавил:
– Могу, наверное.
– Скажи, пожалуйста, – усмехнулся Суптеля. – Все могут. Ну и ну.
Он иронически осмотрел товарищей и сказал Васе:
– Вот ты и иди. Только быстро. Одна нога здесь, другая там.
Вася выскочил из сарая и на миг зажмурился, ослепленный солнцем, снегом и голубовато светящейся далью. Мартовский день был ярок, свеж, тени от домов лежали голубые и сочные. Даже темные бревна сарая, исхлестанные непогодой, приобрели светлую окраску, а новый сруб неподалеку празднично желтел. Над трубами поселка вставали светлые дымы, и казалось, что эта редкая для Севера чистая голубизна неба лежит на розовых столбах. Даже всегда хмурый и темный ельник голубел снегами. Остро пахло хвоей близкого леса.
Вася чуть не заорал от восторга, как в детстве, когда такими же вот предвесенними днями катался с ребятами на санках.
По тропинке Вася припустил к поселку.
Изгороди занесло снегом по самый верх, из сугробов торчали только верхушки кольев, и от этого тоже было весело, что вот бежит он поверх заборов, и хрустит снег под ногами, и солнце светит, и небо голубеет.
Они встретились на улице, на виду у всего поселка.
Стояли и улыбались друг другу.
– А я к тебе шла, – сказала Тоня, сияя глазами.
И только теперь Вася разглядел, что глаза ее вовсе не черные, а светло-карие, с золотинкой, и на них падает тень от длинных черных ресниц. А на носу и под глазами веснушки. Веснушки, весна!
– Думаю, пойду, и все, – светилась от собственной решимости Тоня.
– И я! – расцвел Вася. – Я тоже к тебе шел.
– Пойдем, – сказала она.
– Куда?
– Ну… – Тоня повела счастливым взглядом вокруг. – В лес!
– Пойдем, – охотно согласился он, сразу забыв о дрожжах. Они взялись за руки и побежали.
Лес стоял по грудь в сугробах. Он был увешан клоками искрящегося снега, как под Новый год, когда украшают елки, посыпая вату блестками. На ветвях елей лежали пышные пласты, и темно-зеленые лапы высовывались, будто из-под белых толстых рукавов халата. Каждая ветка, каждый кустик были покрыты инеем, будто засахарены. Верхушки деревьев четко вырисовывались на предвесенней голубизне неба. Пни, покрытые большими снежными шапками, походили на огромные белые грибы. Возле них цепочка следов: не то птица ходила, не то зверек пробежал. А вот перья и окрашенный кровью снег. Здесь произошла трагедия – какая-то птица не сумела увернуться от хищника. А вот заячьи следы. А тут мышиные.
Над головой отчаянно стрекотала сорока и оглашенно металась по ветвям, осыпая снежную пыль.
– Кыш ты! – погнал ее Вася.
Сорока еще громче закричала и полетела оповещать всех жителей леса, что появились люди.
Вася и Тоня выбрались на полянку и замерли. Под солнцем блестели, сверкали, переливались сугробы. Блестки – с булавочную головку – отсвечивали оранжевыми, красными, фиолетовыми, желтыми, зелеными, синими и даже черными огоньками. Будто разноцветные стеклышки мельчайших размеров. Вася впервые увидел такое и был поражен. Видел, конечно, и раньше, что снег блестит – ну блестит и блестит! – а оказывается, самыми разными цветами. Это белый-то снег!
И вдруг на засахаренной ветке в кустарнике увидел Вася розовые яблоки. И оторопел. Яблоки здесь, на Севере! Не успел сообразить, что же это такое, как одно яблоко упало, а остальные вспорхнули стайкой и перелетели на другое дерево и опять сели рядом. И тут только Вася понял.
– Снегири, снегири! – закричал он. – Гляди, снегири!
– Ой, как красиво! – Тоня прижала руку к груди.
А снегири отлетали все дальше и дальше, пропадая розовыми огоньками в снежной чаще леса.
Тоня сорвала ледышку с ветки. Вася сделал то же самое. Они хрумкали лед, как леденцы, и не было ничего слаще этих сосулек.
Вася взял холодные, неожиданно большие и шершавые Тонины руки в свои и стал их греть. Смотрел ей в глаза и видел отраженное в них солнце и высокую ель, под которой они стояли. Сам не замечая того, Вася потянулся к Тоне губами. Она вырвалась и побежала, а сама смеялась, и в смехе слышался призыв.
Тоня бежала в огромных подшитых валенках, и ноги ее болтались в широких голенищах. Вася погнался за ней, и снег хорошо хрустел под ногами. Они бежали по розовым от полуденного солнца сугробам, по голубым сочным теням от деревьев, и не было сейчас людей счастливее их.
Тоня провалилась в сугроб. Вася с налету упал на нее, и они забарахтались, смеясь и не давая друг другу выбраться из снега.
Они не заметили, как коснулись губ друг друга.
– Ты что сделал? – спросила Тоня.
– Не знаю, – ответил Вася.
Он и вправду не знал, что могло означать это случайное прикосновение губ.
– Ты поцеловал меня? – спросила Тоня, изумленно и восторженно раскрыв глаза. И утвердительно, благодарно и нежно протянула: – Ты поцелова-ал меня.
– Хочешь, я еще поцелую? – с самоотверженной готовностью предложил Вася и потянулся к ней.
Тоня вскочила. Вася тоже поднялся и увидел, как близки ее глаза и как удивленно и испуганно вздрагивают ресницы. И он поцеловал эти глаза.
– А мама! Ой, если бы она видела! – Тоня в испуганном восторге округлила сияющие глаза.
– А почему она меня не любит? – спросил Вася, вспомнив хмурое лицо Тониной матери.
– Она говорит, что моряки обманщики! – сказала Тоня и тихонько стукнула Васю в грудь. – Обманщики, обманщики, обманщики!
– Я не обманщик! – горячо заверил Вася, и у него даже сердце громче застучало от мысли, какой он хороший и не обманщик.
– Обманщик, – твердо сказала Тоня. – Ты зачем к Фросе ходил?
Васю кинуло в жар.
– Я не ходил, она сама меня водила, – пролепетал он.
– А зачем? – Тоня внимательно смотрела ему в глаза.
– Не знаю, – сказал он. – Но все равно я не обманщик.
– Не-ет, не обманщик, – как эхо, преданно и тихо повторила Тоня. – Ты не обманщик.
Она притянула его за уши к себе и поцеловала в нос. Ее обветренные, шершавые губы пахли хвоей, были свежи и солоноваты. Вася задохнулся от радости, вскочил и отплясал дикий танец, крича что-то несуразное и восторженное. Вдруг Тоня замерла и восхищенно прошептала:
– Гляди, олень!
Вася увидел молодого стройного гордого оленя на краю обрыва. Взметнув в голубое небо покрытые инеем рога, олень распластался в прыжке, в стремительном и легком полете. Спина его была в снегу и перламутрово искрилась. Ноги тоже. Задние. Передних не было. До чего же это дерево походило на оленя! Тоня и Вася подошли поближе. Когда-то дерево было согнуто или надломлено и стало расти перпендикулярно нижней части ствола. Но природа-мать подняла его ветви-рога снова вверх. И теперь, занесенное снегом, оно превратилось в дерево-олень. Сказочный олень с белыми от инея рогами!
Вася потряс дерево, с веток упали снежные пластинки, рассыпаясь в невесомую пудру, и засеяли им лицо, голову, плечи искрящимися блестками. Вася и Тоня смеялись, играли в снежки, гонялись друг за другом и, обессилев от смеха и счастья, падали в снег и целовались.
Они отрезвели, когда закатное солнце, пробираясь сквозь сетку ветвей и дробясь на тонкие лучики, бросило последний оранжевый блеск на сугробы, когда загустели не голубые уже, а сиреневые тени, когда лес стал набирать сумерки.
– Неужели день прошел? – восторженно и испуганно спросила Тоня.
– Пропали пироги, – опомнился Вася.
– Какие пироги?
– Ну, будет мне!
– А что будет? – расширила она глаза.
– Будет! А тебе попадет от матери?
– Я ничего не боюсь, – храбро сказала она и просветленно посмотрела на Васю. – А ты?
– Я тоже, – неуверенно ответил Вася. – А дрожжи у вас есть?
– Дрожжи? Зачем они тебе?
– Старшина велел. На пироги…
– Дрожжей нету. Есть закваска.
– Дай мне.
– Пойдем.
Они крадучись пробрались по поселку, который уже погрузился в сумерки. На их счастье, Тониной матери дома не оказалось, и Тоня вынесла в кружке закваску.
Домой Вася бежал сломя голову, и сердце его ёкало.
Его встретили молчанием. Он поставил на стол кружку закваски.
– Вот, принес.
– Тебя за смертью посылать, – сказал Леха, пришивая пуговицу к шинели.
Вася виновато переминался у порога. Сдернул шапку, пар так и валил от мокрой головы.
– Где тебя носило?
Суптеля внимательно разглядывал Васину одежду, всю в снегу, его румяное, счастливое и обалделое лицо.
– За дрожжами ходил, – тихо ответил Вася, старательно отдирая от шапки ледышки и не смея поднять глаза на старшину.
– Ты что, в сугробе их искал?
Вася шмыгнул носом.
– Вот вкачу тебе три наряда вне очереди, тогда будешь знать, – недовольно пригрозил Суптеля.
– Есть три наряда вне очереди! – по-петушиному звонко выкрикнул Вася.
Леха вздрогнул и оборвал нитку.
– Чтоб тебя!.. Обрадовался, дурак, будто ему медаль привесили.
– Одним махом девкой завладал, – подал голос Андрей. – Как в очко выиграл.
Суптеля коротко взглянул на Леху и Андрея и перевел глаза на счастливого и пылающего румянцем Васю, задержал взгляд на его вспухших и ярких губах.
А Вася тщетно пытался изобразить на лице раскаяние и виноватость – неподвластная, щедрая и глупая улыбка распирала ему рот. И чтобы как-то отвлечь внимание товарищей, он с преувеличенной старательностью обметал у порога сапоги.
– Ну-ну, – Суптеля усмехнулся и полез в карман за куревом.
Вечером, когда Леха и Андрей ушли, Суптеля сказал:
– Пойдем, попилим дров Клаве.
– Пойдемте, – охотно согласился Вася, чтобы загладить свою вину перед старшиной.
Темное небо с редкими звездами, влажный ветер с юга, запах сырого снега и дыма, неяркие огни поселка и густая синь встретили Васю и старшину за порогом. Где-то на другом конце поселка выводили девичьи голоса:
Все, что было загадано, все исполнится в срок,
Не погаснет без времени золотой огонек…
Васе показалось, что он различает и голос Тони. Эта песня, полная обещания верности и любви, будоражила, тревожила, радостное и в то же время грустное волнение закрадывалось в сердце.
Навстречу из переулка появились Леха и Дарья. Они шли с озера. Дарья несла полный таз мокрого белья, покрытого ледяной коркой. Леха нес на коромысле два ведра воды. Он страшно смутился, когда лоб в лоб столкнулся со старшиной и Васей. Выручила Дарья.
– Ведра полные, счастье вам будет, – певуче сказала она, и Вася еще раз подивился перемене ее голоса в последнее время.
– Куда вы? – спросил Леха, а сам смущенно топтался на месте, расплескивая воду.
Суптеля взглянул на него, усмехнулся.
– К Клаве дрова рубить.
– Ей уже лучше, – сказала им вслед Дарья. – Ходит. Синяк только большой, во всю ногу.




![Книга Включите вашу память [=Если разбудить память] автора Владимир Рыбин](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)
