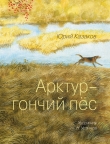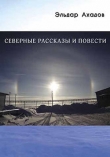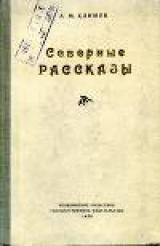
Текст книги "Северные рассказы"
Автор книги: Анатолий Климов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
АНТ-9
Машину выводят на старт. Пара огромных лыж бороздит снег, оставляет широкий след. Лыжи упруго покачивают на себе корпус самолета. Мощный размах крыльев, полная полосатая грудь, стремительно выпирающая вперед, создает впечатление невиданной напряженной силы.
Кажется, вот сейчас легко сорвется машина вперед, шумно будут рваться в груди моторы, рассекая морозный воздух.
АНТ-9.
Самолет мощно гудит. Люди, одетые в мягкие, меховые комбинезоны, спешат в кабину. Три пропеллера будоражат воздух, содрогают каждую частицу машины.
Стартер взмахнул флажком. Машина рванулась по глади аэродрома, незаметно, легко взмыла в воздух. Поворот. Прямо на окна машины стремительно ложится земля. И снова выпрямился самолет, снова под ногами убегающие вдаль снега.
Завоевать пространство!
В Стране Советов нет далеких, недоступных окраин, их не может быть!
Мужество, отвагу, геройство показали советские летчики в освоении Крайнего Севера. Сколько славных имен записано в историю гражданской авиации. Их знает вся страна. И сколько неизвестных отважных людей просто, по-будничному одевали комбинезон, садились в кабину, парили над таежными и тундровыми просторами, проносились над ледяным океаном, прокладывали новые воздушные пути, несли с собой избавление при несчастии.
Они показывали чудеса пилотажа, чудеса летной техники, по первому приказу шли в самые рискованные предприятия. Опасность подкарауливала на каждом шагу, но они побеждали потому, что сильны волей партии, волей миллионов людей, связанных одной общей целью.
Нет дорог в тайге: есть бездорожье, белесые просторы тундры и неизведанные над ними воздушные пути. Большевики прокладывали дороги на земле, по воде и в воздухе, несли в недоступный край культуру, счастливую жизнь.
В 1931 году со Свердловского аэродрома взвился первый самолет на Заполярный Уральский Север. Летчики получили задание основательно прощупать воздух, найти короткую удобную воздушную трассу Свердловск – Обдорск.
Не было оборудованных машин, нехватало приборов. Люди проявили максимум изобретательности, энергии, на летной карте легла обвешанная знаками пилота красная линия трехтысячекилометровой воздушной трассы.
На диких обрывистых берегах Иртыша и Оби строились аэропорты, готовились посадочные площадки. Полуостров Ямал связался с центром Урала регулярным авиасообщением.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Ваня Чубриков прибыл на северную линию из авиамеханической школы. В комсомольской ячейке, где вставал на учет, он чуть не плакал от досады.
– Опоздал! Открыли линию... А мне так хотелось лететь первым рейсом по неизведанному еще воздуху...
– Не горячись, доведется и тебе поломать кости, – шутили ребята.
– Вы понимаете, – искренне волновался Чубриков, – вот летят люди и не знают, что под ногами! Только глазами щупают посадочную площадку. Чуть сплошал сам, чуть осекся мотор – опасность. В такие минуты словно каждая жилка в тебе наливается силой, уверенностью. Чувствуешь эту силу и совсем не страшно. Хорошо!..
У Вани Чубрикова очень своеобразная, непокорная натура. Он как будто стремится к опасности, а когда встречает ее, загорается неудержимой, драчливой радостью, очертя голову, бросается вперед. Не было страха – была только жажда борьбы.
Ему, пожалуй, нехватало иногда расчетливости, спокойствия. Детство Чубрикова прошло в беспризорничестве. Может, и это осталось от неорганизованной беспризорной жизни, еще не успела выветриться старая, беспутная драчливость.
Жизнь в воздухе воспитывает не только смелость, она вооружает человека умением спокойно, расчетливо встречать всякое препятствие, преодолевать его, бережно расходуя силы. Эти необходимые качества всякого хорошего летчика настойчиво воспринимал Иван Чубриков.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Их машина уже возвратилась из пятого заполярного рейса. Не было ни одной аварии – мотор всегда работал превосходно. И снова, в шестой раз, большой пассажирский самолет «Л-105» стартует на Свердловском аэродроме. Снова закутанный в мягкий комбинезон садится Чубриков в кабину, по правую сторону от пилота, на место «бортача». Он настороженно вслушивается в четкий, безукоризненный перестук моторов. Машина, легко покачиваясь, бежит вперед и врывается в голубую даль...
Индустриальные пейзажи предместий Свердловска сменяет нетронутая тайга. Слева, далеко в мутных облаках, плавают кряжистые горы Уральского хребта.
Самолет набирает высоту.
Измерительные приборы показывают скорость – 160—180 километров в час, между тем движения почти не чувствуется. Кажется, что самолет не летит, а ползет. Правая лыжня так медленно сползает с лесных косяков, с озер, с пашен. Трасса прямая, как стрела. Тобол и Иртыш, извилистые, точно бич погонщика, то стелются под самолетом, то далеко уходят в обход и снова встречаются на пути.
Высокие берега круто обрываются в Иртыше, они поросли сплошным ковром густого хвойного леса. Самолет спускается к берегу. На горе, окруженной со всех сторон таежной глухоманью, раскинулся вновь выстроенный город Остяко-Вогульск. Крутой вираж на левое крыло – и самолет скачет по скованному льдом Иртышу, к аэродрому, где ждет тепло и отдых.
Здесь ночевка, а утром чуть свет снова в воздух. Иртыш остается позади, на смену ему – внизу извилистая Обь. Чем дальше, тем больше редеет лес и наконец совсем пропадает. Земля белеет однообразными просторами тундры.
Скоро Обдорск – конечный пункт маршрута.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Приказ застиг экипаж самолета в Обдорске. Нужно немедленно вылететь в Карское море, к острову Вайгачу, для связи с зимующим во льдах ледоколом «Ленин». На борту самолета будут находиться трое: пилот-краснознаменец Антонов, старший бортмеханик Тиминский и младшим бортмехаником назначен Ваня Чубриков.
Терять время нельзя!
Корпус машины покрылся сверкающим инеем. Стоял крепкий мороз. Металлические части накалились морозом, больно обжигали руки.
Пилот в кабинке, два бортмеханика на крыльях около моторов. В мерцающем свете факелов причудливо ломаются тени на выступах самолета. Работали всю ночь, чтобы к утру приготовить машину.
Вместе с тусклым солнцем из-за гор сплошной полосой надвигалась туманная муть. Она уже опутала густой пеленой горы и двигалась ближе к реке.
Пилот в десятый раз мучительно всматривался в горизонт.
– Опасно, – с досадой произнес он.
– Неужели нельзя?! – испугался Чубриков.
– Я говорю опасно, но это не значит нельзя. Есть приказ, надо лететь, – твердо решил Антонов.
Самолет держал последний экзамен на четкость работы моторов. Спокойный Тиминский и юркий, неутомимый Чубриков, как врачи, ослушивали машину.
Обдорское население узнало о полете. Оттуда пешком, на собаках спешили люди, но самолет уже оторвался в воздух. Земля уходила, проваливалась куда-то вниз, мельчали предметы, опускался горизонт. Ближе наваливалось небо.
Самолет взял курс на север и исчез в сероватой дали. Шли на Вайгач. Самолет, то и дело нырял в воздушные ямы, на секунду захлебывались моторы в немеющей тишине.
Впереди виднелись полыньи капризного океана. Спустились ниже. Было видно, как громоздились гигантские ледяные торосы, гуляли в разводьях волны.
Море дышало густой испариной, она заполняла воздух беспросветной мутью, ширилась и росла. Совсем неожиданно ворвался самолет в густую пелену тумана, заметался, потеряв направление.
Каждый вдруг почувствовал неизбежную истину: лететь до тех пор, пока не откажут моторы, а затем... неизвестность.
Так прошел еще час напряженной борьбы с туманом.
Чуткое ухо заслышало перебои в моторах. Пропеллер слева нервно разбивал воздух, мелькал все реже и реже, взмахнул еще раз и замер...
Оставалось одно – итти на посадку...
Антонов выключил все моторы. Стало тихо. Люди боялись вспугнуть криком непривычную тишину. Самолет стремительно летел вниз, на растущие торосистые громады. Затем помнится, как застреляли на приземлении два мотора, самолет запрыгал по льду, равномерное журчание моторов сменил оглушающий треск ломающейся снасти.
...И все затихло.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Первым очнулся Тиминский. Его отбросило при ударе в угол, к приборам, и придавило кресло. Рядом поднимался Антонов. Громко звал Чубрикова. Он и тут не удержался, чтобы не пошутить.
– Эй, кто живой?! Слазьте, приехали, станция!
Они прежде всего бросились осматривать машину.
Минут через пять Тиминский докладывал пилоту:
– Поломы небольшие, можно исправить. Труднее будет подняться.
– Да, подняться нелегко, – согласился Антонов, – но если сели, как-нибудь оторвемся.
Площадка вокруг самолета заполнена ледяными горами. Какая-то гигантская сила нагромоздила их друг на друга и оставила в самых причудливых напряженных фигурах. Казалось, только на минуту затихло море, сейчас снова взбунтуется спокойный лед и пойдет гулять по арктической воде.
Их забросило в южную часть Байдарацкой губы. Далеко впереди горизонт окаймлен горной цепью, сползающей в море. Дика Байдарацкая губа, пустынны ее побережья. На сотни километров нет даже рыбацкой промысловой избушки, редко, только летом, подходят к Байдараку кочевники-ненцы.
Туман рассеялся незаметно. Воздух стал чистым, прозрачным. Люди торопились, кое-как исправляли сломанное при посадке. С моря неслась солоноватая свежесть, а за ней пришла буря. Ветер отчаянно налетал на звонкий корпус самолета, несся дальше, пока не встречал грозное препятствие – горы, тогда в бессильной злобе крутил на губе бешеный вихрь так, что трудно было устоять на ногах.
Не могло быть и речи о полете. Люди спрятались от ветра в кабину, молча лежали на мерзлых оленьих шкурах, вслушиваясь в разговор вьюги.
Пилот достал продовольственный ящик, там лежало несколько плиток шоколада и килограмма полтора сушки. Каждый получил свою долю.
Прошла ночь, кажется, никто не проронил слова, каждый думал о своем. Утром закончили все, что было из продовольствия.
А если не стихнет буран еще несколько суток?
Нужно было что-то предпринимать. Антонов молча взял винчестер.
– Пойдем, может, убьем тюленя, – предложил он Тиминскому.
– А я? – спросил Чубриков.
– Будешь ждать нас здесь... Давай знать о себе выстрелами. Только не усердствуй, патронов мало.
Они пошли, спотыкаясь о напористый ветер, и скрылись за ледяными торосами. Чубриков занялся починкой радиоприемника. Изредка он выходил из самолета и стрелял в воздух. Ветер глухо доносил ответный треск двух винчестеров.
Прошло несколько часов мучительного ожидания. Становилось темно. Чубриков еще раз дал сигнальный выстрел. Совсем близко последовал одиночный сухой треск.
«Берегут патроны», – подумал он.
Следом за выстрелом пришел Тиминский.
– Антонов где? – еще издалека кричал он.
– Не знаю, не приходил!
Они ожесточенно палили в воздух, пока не израсходовали последний патрон. Ответа не последовало.
– Мы разошлись совсем недалеко отсюда, я все время слышал его сигналы, затем все смолкло. Пытался искать – ничего не вышло.
– Я пойду, – горячился Чубриков.
– Куда?
– Искать пилота.
– Бесполезно, потеряешься сам. В двух шагах ничего не видно. – Тиминский почти силой втолкнул Чубрикова в кабинку. – Надо ждать утра!
Ночь была беспокойнее прошедшей. Тревога за товарища не давала сомкнуть глаз. Тиминский сидел уткнувшись подбородком в колени. Чубриков потянулся к приемнику, надел наушники, бесцельно крутил регуляторы. Сквозь визг в наушники слышалась музыка, где-то далеко пел женский голос...
«...Вот, там, в Омске, в клубе, где вечерами часто собиралась молодежь, кто-нибудь садился за пианино, и... тра-ля-ля-тра-ля-ля... весело звучала мелодия, а иногда пела Нина. Так хорошо пела, кажется, всегда бы слушал...
...Но почему холодно? Ветер забирается за ворот, леденит тело. Закройте дверь, сквозит...»
– Ты чего?
Чубриков встрепенулся. Совсем близко заботливое лицо Тиминского.
– Понимаешь, вспомнился Омск. Придет же такая блажь в голову!
Чтобы согреться, они теснее прижались друг к другу. Тиминский рассказывал:
– Тебе впервой, а мы с Антоновым не раз в таких переделках бывали. Всегда сходило благополучно. Вот в гражданскую войну били в Средней Азии беляков. Порой совсем, думаешь, крышка – погиб. Нет, ведь вывернешься!.. С Антоновым лет пятнадцать летаем, хороший пилот, любит воздух... – он остановился не в силах продолжать рассказ. Тревога о боевом товарище снова захлестнула пуще прежнего. Где Антонов?
В окна пробивался сквозь крутящийся снег мутноватый рассвет. Оба выпрыгнули из самолета, нетерпеливо всматривались вдаль, куда ушел Антонов. Разошлись в разные стороны на поиски и ни с чем возвратились... Ветер несколько стих, но суровее становился мороз. Чтобы немножко согреться, разожгли примус.
Когда снова собрались на поиски, из-за громадной ледяной глыбы по правую сторону самолета показалась фигура. Человек еле передвигал от усталости ноги.
– Антонов! – пронзительно закричал Чубриков.
Оба бросились навстречу пилоту.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Прошел еще день. Наступила ночь. Ветер с новой силой рвет самолет. Он гудит сильнее, чем все три пропеллера. Пьют по порции спирта и вконец утомленные долгим бодрствованием крепко засыпают...
Опять утро и опять буран. Но уже утихающий, ровный. Ветер теперь дул, низко прижимаясь к земле, начисто подметал белесые просторы.
На стоянке оживление, пробуют моторы. Опять радостно загудели три пропеллера, в их ровном перестуке таилась надежда на избавление из ледяного плена.
Моторы в порядке. Тиминский и Чубриков, вымазанные до неузнаваемости, разогревают масло.
Небо очистилось от туч. Сквозь расступившиеся облака бурно блеснуло яркое солнце, оно искрилось на льду, слепило глаза. Скоро можно лететь. Но куда?
Запасы горючего подходили к концу. Кое-как отремонтированные после неудачной посадки части самолета грозили новыми авариями. Лететь к Вайгачу опасно, почти невозможно.
Среди поющего, холодного зюйда люди намечали путевку машине.
– Итак, выход один, – говорил Антонов, – реально ли лететь к Вайгачу, если даже забыть о скромных запасах горючего? По-моему нужно попытаться взять старт и итти на Обдорск.
Да, выход оставался один. «Л-105» должен пойти не во льды, а в тундру, к людям в поселки. Каждому из экипажа было не по себе. Не привыкли они бросать начатое дело.
Угрюмые разошлись по своим местам, как-то особенно нудно, с плачем рванулись в невидимые круги пропеллера. Самолет задрожал, минуту задержался, словно приготовляясь к взлету, затем с усилием рванулся и... беспомощно остался на месте не в силах оторваться.
Круто обернулся пилот. Плотно сжатые губы Антонова разжались, пропуская ругательства. Тиминский и Чубриков прыгнули в ветер.
Машина была на приколе у льда. Плохо отбили лыжи. Лед цепкой хваткой держал самолет. Тиминский бросился в обход машины, с левой глухой стороны самолета. Его обогнал Чубриков.
– Оставайся здесь, я быстрее тебя...
Опять поспешно долбили лед. Лыжа справа уже оторвалась ото льда. Чубриков еще возился у левой лыжни. Наконец освобожденный самолет радостно заскользил вперед.
Вход в кабину справа. Чубриков бежит в обход, мимо хвостового управления, к двери. Машина уходит быстрее запутавшегося в глубоком снегу человека.
– Скорей, Чубриков!
В распахнутую дверь самолета смотрит испуганный Тиминский, он что-то кричит, пересиливая рев мотора, машет руками и поспешно исчезает.
Машина идет к подъему... Жизнь уходит... Бывают такие минуты у человека, когда сразу вдруг вспомнит он всю свою жизнь.
Воспоминания заполняют Чубрикова. Перед глазами встает такая же жуткая, как сейчас, картина.
...1921 год. Голод. Семья Чубрикова спасается от голода: уезжает на юг. В Самаре девятилетний Ванюшка убежал с поезда за кипятком. После с горячим чайником он догонял уходящий поезд. В окно вагона кричала мать, кипяток обжигал руки, а последний вагон уходил все дальше и дальше... Так он стал беспризорным...
Вот, как вагон тогда, сейчас уходила кабинка... В 1921 году он остался беспомощным, но среди живых людей. Теперь Иван был сильным, но мог остаться один. Нет, этого не может быть.
Снова из кабинки показался Тиминский, торопясь бросил на лед ружье, а затем к ногам Чубрикова, извиваясь, упала веревка.
Иван понял. Ему давали возможность спастись, а в случае неудачи оставался винчестер... Как выстрел, свалился он на снег, замерзшие пальцы судорожно вцепились в веревку.
После он ничего не помнил. Не помнил, как тащился по острым комочкам льда, оставляя на них платье и кровь, как его уже на взлете втащили вовнутрь самолета и долго пытались вырвать веревку.
Очнулся, когда самолет прошел суровый Байдарак. Внизу расстилалась ровная тундра.
...Когда вновь забушует весна, винчестер унесет на льдине далеко, в суровый океан.
3 апреля их самолет приземлился в Обдорске, а через пару дней они уже были готовы к следующему рейсу.
. . . . . . . . . . . . . . . .
Для Чубрикова этот полет был боевым крещением. Ледяной плен и опасности были для него суровым испытанием на смелость, на выдержку.
Он неплохо выдержал испытание...
Чубриков уже летал самостоятельно старшим бортмехаником. Неспокойной норовистой энергией он всегда выходил победителем из самых опасных переделок.
Зимой 1933 года подготовлялись разведывательные полеты в Казымской тайге. Чубриков первым доложил начальству.
– Желаю принять участие в полетах.
Вскоре вылетели по направлению к озеру Нум-то[84]84
Нум-то – южная граница Ямало-Ненецкого округа.
[Закрыть]. Над тундрой легче летать, чем над тайгой. В тундре значительно больше возможностей для вынужденной посадки. Кроме этого летели наугад, вслепую.
Экипаж благополучно справился уже с несколькими полетами. Предстоял самый трудный маршрут.
Они снова летели над дикими непроходимыми урманами Казыма. Внизу однообразно тянулся вечно зеленый лесной ковер. Машина достаточно поистрепалась за последние полеты, но моторы попрежнему гудели ровно, без перебоев.
Еще далеко видно, как расступилась непокорная тайга перед громадным Нум-то. Удачно приземлилась на твердый снежный наст озера. Ночью попеременно с пилотом дежурили у машины, а чуть поднялась заря уже готовились в обратный путь.
Когда солнце взметнулось над тайгой, Чубриков раскручивал упругий пропеллер, пока не вырвался тот, захлебываясь в стремительном разбеге, и вдруг... гордая грудь самолета, ее мотор вспыхнули удушливым, дымным пламенем. Огонь все разрастался. Дико закричал Чубриков. Сорвал с себя комбинезон и стремительно ожесточенно кинулся на огонь, закрывая комбинезоном языки пламени. Огонь на минуту стих, потом с новой силой вырвался из меховой преграды. Тогда бортмеханик кинулся на огонь собственным телом. Рубашка вспыхивала режущими огоньками, но он не замечал боли. Была одна тревога за машину. На помощь подоспел пилот. Вместе едва потушили пожар.
Чубриков едва оправился от ожогов, а снова уже сел в кабину, по правую сторону от пилота. Он рвался к новым большим полетам. Его непокорная натура снова искала опасности, чтобы побеждать их непреклонной волей молодого большевика.
САМОЛЕТ В КОСМОСЕ
(Из записной книжки участника арктических полетов)
Май на полуострове Таймыр в 1935 году выдался особенно буйный. Снега душили, и ветры гнали по земле колючую поземку. Ночью и днем над просторами тундр проносились метелицы. Вместе с ветрами шли из сердца Арктики на берега северных морей лютые морозы. До железа и алюминия самолета рукой нельзя было дотронуться – обожжет.
Этой весной знаменитый полярный летчик А. Д. Алексеев получил задание – проложить летную зимнюю трассу от Игарки до Нордвика. До весны 1935 года над этими землями не пролетал еще ни один самолет. Но теперь для Нордвика наличие воздушного сообщения с большой землей стало необходимостью. У соляных куполообразных сопок Нордвика, на острове Никифора Бегичева, в устье реки Анаборы работали люди. На берегу залива строили город с электричеством и телефоном. Люди завоевали земли полуострова Юрунг-Тумус. Оставалось завоевать его еще с воздуха, и тогда судьба далекого, угрюмого Нордвика будет окончательно решена.
Эту задачу дали разрешить полярному летчику А. Д. Алексееву.
* * *
Пилот довел машину от Игарки до маленького тундрового станка[85]85
Так называют на Севере стационарные селения.
[Закрыть] на реке Хатанге, что впадает в море Лаптевых возле желанного мыса. На пути через весь Таймыр погода благоприятствовала. А тут, как назло, северная зима из последних сил начала воевать с наступающей весной.
Солнце круглые сутки не заходило за горизонт, а с земли его не было видно. Снег валил плотной стеной, и за этой защитой 500 километров, отделяющие Хатангу от Нордвика, были непреодолимы.
– Пустяк остался совсем, а тут сиди. Вот уж действительно – у моря да ждать погоды, – негодовал бортмеханик Николай Сугробов.
Он спокоен и хладнокровен. Он знает капризы снегов и умеет побеждать их. Не летчику ли Алексееву за долгие годы полетов на Севере приходилось стоять один на один с неожиданностью, суровостью и коварством Арктики? Не он ли месяцами готовился к отправке на новые неизведанные острова и реки? Так было и во время полетов с Чухновским за пропавшими людьми незадачливой экспедиции Нобиле к Северному полюсу. Так было при полетах на остров пилота Каменева, на Северную землю. Так было в периоды долгих рискованных ледовых разведок. Анатолий Дмитриевич спокоен.
– Выдержка, хладнокровие – все здесь. Погода подурит и образумится.
Как-то под вечер, после семидневной молчаливой схватки с погодой, Сугробов, возвратясь от самолета, серьезно сказал:
– Ну, кажется, завтра летим.
Заметны на лицах слушателей недоверчивые гримасы. Он опять повторил:
– Завтра летим!
– Нюх у тебя, Коля, хороший, – подтвердил Алексеев. – С утра видно было, что завтра пурга уляжется.
Наутро машину приготовили на старт. Яркое солнце светило безудержно. За ночь снег прибило к земле морозом, и теперь лучи солнца искрились на ровной простыне снегов тысячами разноцветных дорогих каменьев.
Разбежавшись, самолет ринулся в воздух, в последний этап завоевания полуострова Юрунг-Тумус с воздуха.
Сделав круг над станком, Алексеев положил машину на курс норд. Полет начался.
Впереди был желанный мыс. А под самолетом распласталась белая, однообразная тундра – царство снега.
Машина тихо шла над снегом. Внизу не было никаких ориентиров, и теперь казалось, что самолет вовсе не мчится с крейсерской скоростью, а еле-еле карабкается по глубокому сугробу. Но стрелка прибора под напором ветра указывала на цифру 220.
Алексеев сидел на удобном откидном стуле, слившись с рукоятями, педалями и рычагами управления. Руки и ноги его постоянно чувствовали нетвердую поступь самолета. Дул лобовой ветер. Машину качало.
Справа уголком глаза командир видел лицо своего механика, борющегося со сном...
Пилот взглянул вниз и вдруг почувствовал какую-то внезапную режущую боль в глазах. Под самолетом искрился далекий блестящий снег. Бескрайная снеговая пустыня лежала ровно, без возвышенностей, увалов и взгорий. Яркие солнечные лучи, падая на землю, сейчас же отражались на снеговых кристаллах и с той же силой и яркостью отпрыгивали обратно вверх...
Из глаз побежали слезы. А еще через полчаса водитель самолета ощутил легкое головокружение. Боль в глазах усиливалась.
Ощущение чего-то легкого, невесомого и невидимого надвинулось на пилота. Он оглянулся кругом. Впереди машины, по сторонам, сзади, за фюзеляжем было пусто, светло и бесконечно...
Прячась за козырек кабины, командир глянул вниз. И там не было ничего.
Пустота. Свет. Бездонность...
«Где я? – спрашивал себя Алексеев. – Где земля?»
Ему вдруг показалось, что самолет летит вовсе не над землей. Земли не было! Она провалилась вниз, а машина врезалась в какой-то другой мир.
Самолет летел в космосе. Летчику показалось, что кругом машины носились миры вселенной и они пылали ярким, все пожирающим блеском.
Алексеев еще раз взглянул за борт и снова не увидел ничего. Прежняя пустота, бездонная пропасть ликующего бесцветия!
Машина преодолела силу притяжения земли и оторвалась от нее за миллионы верст...
Пилот вглядывался в приборы. На румбе компаса был норд. Высота – полторы тысячи метров. Приборы чуть виднелись, хотя Алексеев и глядел на них своими широко открытыми слезящимися глазами.
– Нордвик! Соляные сопки, видишь, Дмитрич.
Это кричал ему в правое ухо, закрытое кожей и обезьяньим мехом, бортмеханик. Голос Сугробова доносился до него глухо, как будто издалека.
«Где я?» – повторял про себя пилот.
Он толкнул локтем Сугробова и помаячил ему о замене в управлении самолетом...
Алексеев закрыл глаза меховыми крагами и опустил голову на колени. Глаза нестерпимо резало, и теперь казалось, что в мозг вонзились тысячи острых игл.
– Посадку! Аэродром показывают... бери! Что с тобой, командир?! – кричал далекий голос.
«Надо садиться», – пронеслось в воспаленном мозгу, и, подняв голову, летчик крикнул:
– Хорошо! Приготовься!
Опять впились руки в механизм управления, ноги давили педали...
Вдруг в глазах преломилось изображение гор, нагромождение льда, черные точки на снегу, огромная буква «Т» на аэродроме... Через мгновение опять пришла боль, все исчезло...
Стиснув зубы, чтобы не закричать, летчик выключил моторы и стал опускать машину на посадку под резким углом.
– Торосы!– кричит Николай Сугробов и трясет командира за плечо.
Алексеев быстро включил моторы и рванул аэроплан кверху. Прошел еще минуты две и опять выключил.
– Лед, Дмитрич! Лед! – снова кричит механик. – Куда ты?
Летчик опять взмывает на минуту машину кверху...
Самолет прыгает надо льдом, как блоха.
Боль в глазах мутила рассудок. «Скорей бы земля или еще там что».
– Дядя Митяй!..
«Поздно, Коля, поздно».
У-ух! Удар. Толчок. Треск. Стремление по инерции вперед, боль в лице от удара о приборы. Все замолкло...
* * *
От толчка пассажир самолета – парторг правительственной зимовки на мысе Нордвик – проснулся. Он неуклюже полез к выходу, ежась от холода. Вывалившись в снег, он как можно веселей крикнул:
– Ну вот и чайку выпьем теперь!
Вдруг из кабины пилота спиной к парторгу медленно поднялся Алексеев и на ощупь («как слепой, что это он», – подумал парторг) полез из самолета. В это же время выпрыгнул на снег и Сугробов.
Парторг взглянул на механика и замер: лицо у него было залито кровью.
– Слепой что ли ты сегодня, Дмитрич? Смотри, что наделал...
Сугробов поперхнулся, закашлялся и выплюнул на снег вместе с кровавой слюной два зуба.
– Кричал: лед...
На звук его голоса Алексеев обернулся. Слова застряли в горле у механика, когда он взглянул на лицо пилота. На него глядели мертвые, дикие, холодные глаза.
– Коля, я не вижу. Я ослеп, товарищ. От снега ослеп, – прохрипел Алексеев, лег в снег вниз лицом и, захватив полные пригоршни холодного снега, прижал его к разбитому пылающему лицу. Белый снег окрасился в средине, и кровь расходилась темным пятном все шире и шире...
* * *
Алексеев не ослеп. Воспалительный процесс глаз скоро прошел.
Через три года, когда советские летчики вели звено самолетов на Северный полюс, командиром одной из машин «СССР-Н-172» был полярный летчик Анатолий Дмитриевич Алексеев – Герой Советского Союза.