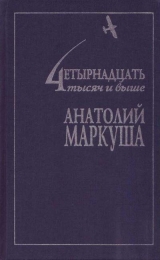
Текст книги "Последний парад"
Автор книги: Анатолий Маркуша
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
– Заканчиваем, Тимоша. Пора домой. Приготовься – мама нас обязательно наругает, но мы не будем возражать. Договорились?
И они побрели к своему подъезду, очень довольные друг другом.
Лена имела привычку где-то во второй половине зимы устраивать, как она говорила, генеральную уборку. В тот день полагалось вытаскивать на снег ковры, половики, одеяла и матрацы, вымораживать мягкую мебель. Алексею Васильевичу Ленины генеральные уборки не правились: есть же в доме и пылесос, и электрический полотер… двадцатый век на исходе, черт возьми, пора бы уже и отказаться от прабабушкиной методики. Но уборки он терпел и к бедламному этому дню относился спокойно: жалел Лену, хочется ей, пусть тешится. Впрочем порядок и чистоту в своей комнате он поддерживал сам, придерживаясь особых правил, сложившихся не вдруг. Он не любил ковров, полагал, что пол должен быть непременно деревянным, радующим глаз своей первозданной чистотой. Его паркет блестел так, что в нем отражался свет люстры. Вещей Алексей Васильевич держал мало – никаких безделушек, если не считать Двух – трех дорогих самолетных моделей, в его комнате не было. Гардероб не отличался разнообразием – два костюма, два свитера, две кожаные куртки и расхожие брюки вместе с бельем помещались в одном стенном шкафу, который он давным-давно собственноручно переделал на свой вкус. Лена окрестила отцовское жилье берлогой, хотя на самом деле оно скорее напоминало больничную палату или, может быть, камеру-одиночку.
Алексей Васильевич всегда старался самым энергичным образом помогать Лене в ее домашних хлопотах и заботах, но это Лену не радовало:
– Прекрати, дед: у тебя – сердце, у тебя – давление!..
– Нормальная вещь: без сердца и без давления какая может быть житуха?
– Хватит! – Не отступалась Лена, – ты делаешься совершенно невозможным, дед.
– И это тоже нормально: все старики кажутся молодым невозможными. Терпи…
Кто радовался генеральной уборке, так это Тимоша: в этот день ему не возбранялось переворачивать вверх ногами весь свой уголок. По выражению Алексея Васильевича, Тимоша занимался ревизией.
– Тимоха, ты ревизию игрушек закончил? – Серьезным тоном запрашивал внука дед. – Которые в ремонт отложил?
– Долго ты еще будешь в шкафу ковыряться? – Спрашивала Лена, – ревизор копучий…
Под вечер, уставшие и умиротворенные сознанием – дело сделано, отужинав и напившись чаю, все разбредались по своим углам. На этот раз Алексей Васильевич уселся в кресло и принялся перелистывать свою очень старую записную книжку, обнаруженную Леной в давно заброшенных нотах. Впервые Алексей Васильевич подумал: «Сколько же телефонных номеров помечены скорбными крестиками и как много крестиков следовало бы добавить в эту забытую книжку?» Имен умерших друзей, знакомых он никогда в книжке не вычеркивал, он всерьез верил – пока о человеке помнят, пока хоть какой-то след существует, он, этот человек, еще не вполне убыл. Увы, убывших, судя по найденной книжке, было, пожалуй, побольше, чем присутствующих. Но считать он не стал: бесполезная статистика… И тут, скользя взглядом по аккуратным строчкам, он увидел: «Зоя Черноватая…» и пришел в полнейшее изумление – откуда, когда и как попал к нему ее телефон? Этого он совершенно не помнил. На заре туманной юности, они были соседями по даче. В ту пору мальчишки только-только начинали ощущать себя мужчинами и стали, естественно, проявлять повышенный интерес к представительницам возможно лучшей половины человечества. Не став еще джентльменом, Алешка попался на пошлом подглядывании за Зойкой, попался у стенки отдельно стоявшего маленького домика, окруженного зарослями дикой малины. Сцапала его «на месте преступления» сама Зойка. Была она года на три старше и, вероятно, кое в каких отношениях значительно просвещенней. Она уставилась прямым взглядом в Алешкины бегающие с перепугу глазенки и спросила, что именно он хотел увидеть, заглядывая в щелку? Не получив, понятно, никакого вразумительного ответа.
Зойка сгребла Алешку в охапку и потащила к расположенной по близости баньке. Алешка отчаянно сопротивлялся, пытаясь вырваться и удрать, но рослая Зойка была сильнее.
– Да не брыкайся, Леший, – говорила она вполне миролюбиво, – Раз тебе интересно, я могу показать… сама… мне не жалко.
И показала. Правда, от жаркого волнения, – от пота, застившего глаза, Алешка мало что разглядел в подробностях, а когда бедовая Зойка предложила – можешь потрогать, только тихонько, Леший, – он и вовсе потерял всякий контроль над собственным телом.
И вот в старой телефонной книжке записано – «Зоя Черноватая…» Прикинув сколько же с тех пор – на даче в Удельной – минуло лет, Алексей Васильевич, сам того не ожидая, засмеялся: Зое Черноватой, если она жива, должно быть да-а-а-алеко за семьдесят… Что бы она сказала, напомни ей: «Если тебе интересно, пожалуйста, мне не жалко, могу показать…». Вообразив подобную сцену в лицах, он расхохотался во всю мощь. В комнату вошла Лена:
– Что случилось?
– Ничего… ты не поймешь… Это специфически мужицкое…
Лена внимательно оглядела комнату, но придраться было не к чему. Она скользнула пальцем по самолетной модели, распластавшей крылышки над рабочим столом – ни пылинки. Словно дотошный служака-старшина распахнула дверку шкафа: синий костюм – правофланговым, за ним – серый, дальше черная и потрепанная коричневая куртки… На левом фланге появилось нечто новое – застиранный, бывший когда-то синим летный комбинезон.
– А это что за старье?
– Летний комбинезон, хабэбэу… хлопчатобумажный бывший в употреблении… Образца тридцать шестого года…
– Откуда?
– Достал. Кто ищет, тот всегда находит.
– Ну, ты даешь, дед! На что тебе такое старье?
– Нужен, Лена, я знаю…
Они не заметили, когда появился Тимоша, он стоял в дверях и внимательно прислушивался к разговору взрослых.
– Нет, серьезно, для чего тебе эти лохмотья?
– Деда хочет, чтобы его похоронили в этом старом комбезе, – пояснил Тимоша. – Он в таком еще в аэроклубе летал.
– Это что ж, он тебе сам объяснил – дед твой?
– Зачем? Он по телефону говорил Ивану Павловичу, а я слышал.
Не скрывая своего возмущения, откровенно чертыхаясь, Лена поспешила покинуть апартаменты отца, а Тимоша, искруглив глаза, спросил:
– Чего это она, деда?
– Молодые похоронных разговоров не любят, брат. Наверное, правильно – куда им спешить?..
– А разве она еще молодая? – поинтересовался Тимоша.
Ему было лет пять, когда Алексей Васильевич услыхал анекдот из разряда «бородатых»: офицер ругает денщика за плохо вычищенные сапоги – носки блестят, а задники грязные. Денщик оправдывается: «Дык, ваше благородие, сзади не видать!» Малыш Алеша не очень еще понимал, кто такой офицер, кто – денщик, однако главное в немудреной байке уловил: показуха – плохое дело, стыдное. Спустя, можно сказать, целую жизнь подполковник в отставке, оценивая свой армейский путь, говорил:
– Все я в армии готов был стерпеть ради полетов. Летал – будто праздновал всю дорогу! От чего только воротило – от показухи. Никаких тормозов не хватало…
Он был еще курсантом, когда к приезду высокого начальства была дана команда навести полный блеск в гарнизоне. Первым делом вымыли полы, вымыли окна, идеально заправили койки, но этого оказалось мало. Старшина велел причесать ворсистые одеяла шашечками, глянешь против света – не одеяло, а форменная шахматная доска видится… Во всех этих приготовлениях курсант Стельмах принимал участие: куда было деваться, раз приказ. Но когда велели покрасить пожухшие листья сирени на кустах, обрамлявших плац, покрасить едучим пронзительно зеленым эмалитом, Алексей обозвал затею идиотизмом и участвовать в такой работе отказался. Результат незамедлительно был объявлен: пять суток простого ареста. Но тем все не кончилось. Высокий начальник оказался дотошным и въедливым. Он самолично осмотрел пищеблок и устроил разнос всей службе тыла, найдя заметенный в укромные уголки мусор, ему не понравилось, как моется посуда, он возмутился сальными ложками. После пищеблока инспектирующий начальник появился на складах материально-технического обеспечения, он не пропустил санитарной части и под занавес, добрался до гарнизонной гауптвахты. На гауптвахте сидело пятеро, у каждого полковник спрашивал сколько суток тому осталось досиживать, за что попал, есть ли претензии? Когда очередь дошла до курсанта Стельмаха, тот на вопрос, за что наказан, ответил на манер бравого солдата Швейка:
– Так что разрешите доложить, – за язык!
– В каком смысле?
– Сказал: каким же дураком надо считать начальника, чтобы к его приезду сирень красить эмалитом и полагать, будто он того не заметит… Пять суток отвесили, сутки отсидел уже…
Начальник молча покинул гауптвахту. Но к вечеру Стельмаха выпустили на волю, хотя, сами понимаем, его откровенность перед высоким начальником Алексею в актив не записали. А ведь выкрашенные эмалитом листья были новее не исключительным случаем, – бывало и сосновые иголки с плаца вручную убирали – поштучно! А еще припоминалось, как заезжий генерал глубокомысленно заметил: «Дерево должно быть деревянным…», и весь личный состав сдирал масляную краску с табуреток – скребли и шкурили до рассвета… Припадки дикого подхалимства повторялись с четкой последовательностью – едет комиссия! Аврал!
Однажды показывали новую материальную часть наземникам. Пояснения давал лично инженер дивизии. Один из гостей все норовил обнаружить непорядок, как бы невзначай он проводил носовым платком по плоскостям, по стойкам шасси. Платок, конечно, чище не становился, но и на большое безобразие не указывал, пока чиновный придурок не супул палец в выхлопной патрубок… Состарившийся Стельмах, вспоминая эту глупую сцену, возмущался не столько тупым служакой-пехотинцем – дураки они и есть дураки, всюду найдутся – сколько инженером его родной дивизии, тем, как он отреагировал на выходку торжествовавшего дикаря:
– Сегодня же накажу механика, лично наложу взыскание на разгильдяя… С годами Стельмах не становился терпимее.
– Понимаю, армии нужны не столько Лобачевские или Сахаровы, сколько старательные исполнители. Согласен. И без дисциплины в вооруженных силах нельзя. Тоже согласен. Но для чего культивировать показуху?
Когда-то командир эскадрильи, опальный герой великой войны научил и приохотил Алексея летать в таком плотном строю, что плоскость ведомого располагалась между плоскостью и стабилизатором ведущего. Алексей не только удерживался на месте в горизонтальном полете, но и маневрировал в паре, выполнял фигуры пилотажа.
Командира эскадрильи ругали: безобразничаешь, нарушаешь, рискуешь без необходимости, самовольничаешь, кому нужна такая показуха? И молодой, и постаревший с годами Стельмах такую показуху защищал о пеной у рта: это – не пыль в глаза… этому научиться надо, сто потов пролив, надрожавшись в страхе… Риск? Ясно – риск! Но только в рискованных полетах и растет настоящая уверенность в себе, рождается самоуважение. Человек – это надо знать! – способен на куда большее, чем предполагает.
Летел как-то Алексей Васильевич, возвращаясь из отпуска, пассажиром на аэрофлотовском Ил-12. Место ему досталось в самом хвосте. Вскоре после взлета он задремал. Это было странное состояние – от ближайшего окружения он полностью отключился, а каждое колебание самолета фиксировал моментально. В какой-то момент равномерный гул двигателей его убаюкал и он вроде провалился в настоящий сон, поэтому не сразу ощутил чужую руку на своем плече, не вдруг услышал и осознал, обращенные к нему слова:
– Извините, вы из летного состава? Вас провожали люди в авиационной форме, мы обратили внимание…
– А что надо?
– Вы случайно не летчик? – продолжала спрашивать стюардесса. Она не повышала голоса и старалась держаться так, чтобы не привлекать к себе внимания пассажиров.
– Летчик… и совсем даже не случайно. А что надо?
– Экипаж просит вас пройти в пилотскую кабину.
Алексей Васильевич поднялся со своего места и, не очень понимая, кому и для чего он мог понадобиться, прошагал вдоль прохода.
В пилотской кабине творилось нечто более, чем странное. Оба летчика – командир корабля и второй пилот – находились в полусознании, их скрутило почти одновременно. Распоряжался всем бортмеханик. Машина шла на автопилоте. Земле доложили: похоже на острое пищевое отравление. Командир и второй пилот обедали вместе, не в аэропорту, а в городе…
– Чем могу служить? – спросил Алексей Васильевич, еще не полностью оценив обстановку, но сообразив – позвали его не просто так.
Нужно было посадить машину в Краснодаре. Экипаж опасался за жизнь летчиков. Земля обещала всяческую помощь. Входя в неожиданную роль, Стельмах честно признался – на двухмоторных самолетах в жизни не летал… – и тут же поинтересовался у бортмеханика:
– Автопилот выключить сможешь? Режим захода, хотя бы скорости знаешь? Щитки, шасси – выпустишь? – И, получив утвердительные ответы на все свои вопросы, как бы подвел итог: – Бог не выдаст, свинья не съест. Рискнем. – С этими словами он уселся в пустое пилотское кресло, примерился к штурвалу и педалям, обведя приборную доску взглядом, и – откуда что берется! – уверенно скомандовал: – Перехожу на ручное управление, бортач, автопилот выключить! Штурман, курс подхода?!
Первое ощущение, после того, как он взял машину в руки, было: ну-у-у, корова… тяжелая и тупая… Он приказал себе: скорость не терять! Запросил у бортмеханика, где триммер? Подумал: летим и не падаем… уже хорошо… Скорость!
Старалась земля, заводя терпящий бедствие Ил-12 на посадку. Затаил дыхание экипаж, понимая – главное впереди, главное – посадка… Пассажирам объявили: «По техническим причинам производим посадку в Краснодаре…» Публике это, конечно, не понравилось, но жаловаться, во всяком случае, в данный момент было некому.
Довольно скоро Стельмах приспособился к кораблю и пилотировал по оценке самого экипажа, летавшего с разными летчиками, вполне сносно. Хоть Федот был и не тот, он оказался все же молодцом – и машину посадил вполне благополучно. В суете, возникшей после приземления и заруливания, когда первыми эвакуировали с борта заболевших летчиков, пока усмиряли возмущавшихся пассажиров, Алексею Васильевичу удалось незаметно улизнуть. Ему удалось еще и отметить билет в транзитной кассе, чтобы улететь с попутным бортом. Он летел дальше и радовался – теперь уже никто его не заставит сочинять объяснительную записку, описывая как и почему все происходило… Позже этот, не занесенный в его летную книжку случайный полет на Ил-12, дал Стельмаху основание уверенно заявлять: если ты стоящий летчик, а не прощелыга, на чем летать – особого значения не имеет. Впрочем, о том, как он полтора часа побыл в роли командира пассажирского корабле, Алексей Васильевич мало кому рассказывал. Могли бы не поверить, что тогда?
Традиции бывают разные, чего душой кривить, к числу не самых лучших надо, наверное, отнести и такую – коль в описании жизни летчика не изображено, как горит самолет, как машина не выходит из штопора, если на экипаж не нападает террорист-угонщик, словом, если не случается чего-то из рода вон выходящего, то не стоило и писать! А ведь на самом деле на сколько тысяч вполне благополучных, так сказать тихих полетов – без пожара, без отказа управления, без вынужденной посадки – приходится один с чрезвычайной ситуацией? Спросите об этом у старых летчиков. Стельмах провел в воздухе больше трех с половиной тысяч часов – для летчика-истребителя это порядочно – он выполнил множество посадок днем – в нормальных и плохих погодных условиях; у него набрался солидный ночной налет, и он вполне мог припомнить, как воспринимает летчик отказ рации, например, что он чувствует, когда начинает вдруг капризничать двигатель или ни с того вроде ни с сего туманом закрывает посадочную полосу, а горючего остается всего ничего, уже горит красная лампочка, угрожая: садись, пока не упал!.. Но почему-то Алексею Васильевичу никогда не снились аварийные сны. Напротив, был у него один вполне благополучный сон, так сказать, сон-подарок, повторявшийся время от времени, к сожалению, не слишком часто.
Ему снилось: ночь переваливает во вторую половину: Безлунье, чернотища, ни единой звездочки на небе не разглядеть: облачность десять баллов. Он взлетает и сразу же, перейдя в набор высоты, приклеивается взглядом к приборам. Человек так устроен, не видя горизонта, очень быстро теряет пространственное представление, его начинают мучить иллюзии – то возникает ощущение крена, то кажется, будто машина сейчас окажется на спине – в перевернутом полете, В слепом полете нельзя отрываться от приборов, ни в коем случае нельзя доверять собственным чувствам, иначе – беда. На приборной доске установлен авиагоризонт, с ним соседствуют указатель скорости, высотомер и вариометр. Вкупе с другими приборами они позволяют пилоту строго сохранять назначенный режим полета, осмысленно перемещаясь в пространстве.
Итак, Алексей Васильевич оторвался во сне от земли, убрал шасси и окунулся в непроглядную черноту облачной ночи. Теперь его жизнь держалась на кончиках тоненьких приборных стрелочек, подсвеченных ультрафиолетовыми излучателями. Игрушечный самолетик-силуэт в авиагоризонте показывал: набираем высоту, вариометр подтверждал: резво уходим от земли, и высотомер показывал, как далеко они – Стельмах и машина – оторвались уже от аэродромного бетона.
И всякий раз Алексея Васильевича настигала в его бархатном спокойном сне легкая тревога, может быть предчувствие – чернота должна вот-вот кончиться, и, действительно, машина всегда внезапно вырывалась из облачных объятий, над головой обнаруживались звездные россыпи удивительной красоты, и надо было сдерживаться, чтобы не поддаться колдовскому обаянию звездного свода, не отвлечься от верных приборов, не забыть – ночь коварна.
Когда кончались облака, восточный океан светлел, обозначался еще не вполне четко линией горизонта. Следом вспыхивали сперва слабые голубоватые всполохи, чуть позже появлялось красно-фиолетовое свечение, оно медленно, торжественно расплывалось и быстро светлело. Тьма еще сопротивлялась, но звезды начинали тускнеть и постепенно гаснуть, а горизонт очерчивался все отчетливее, и красно-фиолетовое свечение, бледнея, переходило в оранжево-красное словно зарево далекого пожара, и странным образом синело, пока не наливалось молодой яркой голубизной, освещаясь золотой горбушечкой солнца, стремительно восходившего все выше, превращаясь в золотой, сверкающий диск. Тот сон был тревожным и праздничным. Сон в точности передавал реалии однажды пережитого восхода и, в отличие от яви, дополнялся странными, не свойственными в дневное время мыслями о вечности, о занебесье, откуда все, возможно, пришло и куда все, не исключено, уходит. Мысли были путаные, беспокойные. Стельмах, как почти все его поколение, вырос в безбожном мире, не знал никакой религии, о чем, кстати сказать, никогда и не сожалел. Его раздражали ужимки тех, кто, работая на публику, жеманно замечал к месту и не к месту: «К сожалению, я не верю в бога…» Если не веришь, не о чем и скорбеть, полагал Алексей Васильевич, и уже во всяком случае ни к чему пылить пустыми словами.
Душа его праздновала рождение нового дня, душа ликовала: свет победил тьму, и глубоко в подсознании шевелилась тревога – как бы не нарушился этот размеренный неизменный ритм жизни… Самые последние мгновения ожидания, когда горизонт раскалялся до соломенно-желтого свечения, проходили в таком напряжении, которое могла бы подарить ему не каждая женщина.
Накануне в доме громыхнул скандал: Лена накричала на Тимошу.
Тот не убрал, как ему было строго предписано, свои игрушки, когда раздевался, раскидал свою одежду по всей комнате и совершил еще какие-то мелкие прегрешения. Лена была раздражена и сорвала зло на случайно подвернувшемся ей под руку сыне. Вопреки обыкновению, языкастый Тимоша ринулся в контратаку и наговорил матери такого, чего говорить, конечно, не следовало, да и по существу было несправедливо. При словах «сама хороша» Тимоша получил увесистую оплеуху, чего он никак не ожидал, и взревел самым диким образом. Тут же в комнату вошел дед, встревоженный отчаянным ревом. Тимоша ринулся к Алексею Васильевичу – спасаться, а Лена перенесла огонь на отца:
– Защитничек явился! Только тебя тут не хватало! И нечего этого разгильдяя жалеть и по головке гладить. Лучше погляди, какой он тут бедлам устроил. Надоело мне за вами убирать, выплясывать, стараться, чтобы все было как у людей… Стараешься, крутишься и никакой благодарности…
– Лена, – совсем тихо выговорил Алексей Васильевич, – разве я когда-нибудь тебя бил? Хотя бы раз ударил?
– Когда это ты мог меня бить? Годовалую – рановато было, а семнадцатилетнюю, сбежавшую к тебе от мамаши и ее очередного мужа, пожалуй, поздно.
– Понято. Будем считать – один ноль в твою пользу. Объясни, пожалуйста, только постарайся без крика, чего ты сейчас желаешь?
– Ничего особенного я не прошу. Покоя! По-ко-я… – И Лена в раздражении вышла из комнаты. Тимоша открыл было рот, пытаясь что-то объяснить деду, но Алексей Васильевич решительно притормозил его:
– Сперва, Тимофей Георгиевич, мы должны быстренько навести тут порядок. Остальное, включая художественную мелодекламацию, потом.
Это было накануне. Подобные бури в стакане воды в обычно благополучном доме порой случались, не часто, но бывало. А нынче Тимоша завернул вокруг деда один вираж, другой и начал уж третий… Алексей Васильевич, детально изучивший повадки внука, не сомневался – сейчас задаст какой-нибудь вредный вопрос, не дающий малому покоя. И действительно:
– Что я из маминого живота выродился, – выговорил Тимоша тоненьким, не похожим на обычный его голос, голоском, это я понимаю. Она сама мне рассказала про родильный дом и все такое. А зачем, деда?
– Зачем родился? Чтобы жить, радоваться и нести радость, дарить добро другим людям… – Что еще мог он сказать шестилетнему ребенку? Тимоша остался, похоже, не очень доволен таким объяснением, но ни о чем больше спрашивать не стал и тихо удалился.
Радоваться? А чему? Как? – продолжал размышлять Алексей Васильевич. – Другой выкушает бутылку водки и радуется на всю катушку – смог!.. Или – согрешит с чужой женой и тоже – от счастья готов лопнуть… Все слова, что сказал Тимоше – искренние, а правильно ли ответил, так как надо было?
Алексей Васильевич всегда иронизировал по поводу разных громких призывов, патетических лозунгов, фарисейских воззваний, он опасался слов и доверял только действиям, реальным поступкам.
Накануне, наведя полный блеск и порядок в комнате, уничтожив все следы Тимошиного разгрома, они заспорили:
– Как будем докладывать Лене? – спросил Алексей Васильевич.
– Давай я извинюсь, давай скажу, что больше никогда так не буду, пойди и посмотри, как мы все с дедой правильно убрали…
– Болтовня! Буду, не буду – пустые обещания! – возражал Алексей Васильевич. – Лучше, я думаю, удивить Лену, пусть мама растеряется и не сообразит, что ответить… Пошли, Тимоша, и делай как я.
Лена лежала на отцовском диване и уже не плакала, но все еще нервно глотала воздух. Покрасневшие и заметно припухшие глаза состарили ее лицо сделали его некрасивым. Алексей Васильевич, оценив обстановку, подал знак Тимоше, и они почти одновременно повалились перед Лениным диваном на колени.
– Вы сдурели? – Не без тревоги только и смогла выговорить Лена, никак не ожидавшая подобного демарша.
– Повинную голову меч не сечет. – Ответил ей Алексей Васильевич, и неприятный инцидент был исчерпан. Но в сознании Алексея Васильевича, словно назойливая муха, продолжала жужжать мысль о радости, творимой для себя и для людей. Пожилой человек, он знал, естественно, что о смысле жизни, о предназначении человека спорили во все времена лучшие умы всего света, но никому не удавалось исчерпывающе ответить на этот вопрос. «Так стоит ли ломать голову?» – спрашивал себя Алексей Васильевич и сам же отвечал: «Стоит!» Человек должен думать, пусть даже не находя ответа, переживая и даже мучаясь, потому что он – человек – не тростник, он – существо мыслящее, как образно заметил еще Паскаль.
Вероятно, радость – состояние сугубо индивидуальное, приходил к заключению Алексей Васильевич, но такое допущение нисколько не упрощало проблемы, и он снова и снова возвращался в прошлое, старался осмыслить жизнь с высоты прожитых лет. Он честно отвоевал в минувшей войне, это можно смело зачислить в его актив… другое дело, как время распорядилось плодами той мучительной победы… Он научил летать не один десяток молодых, сделал их крылатыми и, очевидно, такое можно тоже считать добрым делом… Он грешил по женской части… но не унижался до «платной любви» и всегда старался сделать радость обоюдосторонней; он никогда не позволял себе «вожделеть», заглядываясь на жен своих друзей, ни одной своей «жертве» не обещал жениться, чтобы склонить ее к сближению. Размышляя таким образом, он был честен с самим собой, он кружил вокруг главного совсем близко и все-таки никак не мог, что называется, попасть в десятку…
С Лисовским Алексей Васильевич начинал когда-то свое вхождение в авиацию. В молодые годы они тесно дружили, часто встречались, а потом, когда Лисовский демобилизовался и пристроился в Аэрофлот, переучился и со страшной силой залетал по всему свету, встречаться стало затруднительно. И вот, спустя годы, Алексея Васильевича разыскал сын Лисовского. Стельмах помнил его мальчиком – тоненьким, непоседливым со смазливой рожицей, теперь перед ним предстал седеющий рослый мужчина, по первому впечатлению уверенный в себе и вполне довольный жизнью. Пришел он не просто так, не из голого любопытства. Оказалось, что Лисовский-старший еще несколько лет назад не вернулся из Америки, приспособился к заокеанской жизни, ни о чем не жалеет, приступов ностальгии не испытывает. На визитных карточках его значится – «экс-пилот»… Теперь у него появилась возможность перетянуть в Америку сына с семьей. Дело на мази – документы почти готовы, большая часть имущества ликвидирована, осталось продать загородный домишко, торчащий на пяти сотках земли и старушку «волгу». Лисовский-папа выразил желание, чтобы ветеран-автомобиль попал, если, конечно пожелает того его старый друг, в авиационные руки Стельмаха, тоже экс-пилота. С этим Лисовский-младший и явился к Алексею Васильевичу. Но тот, даже не поинтересовавшись ценой, состоянием машины, от сделки вежливо отказался. Они поговорили о том, о сем и расстались. Алексей Васильевич вспомнил: «мало людей знает, где искать счастья, но еще меньше находят его». Это из Моэма. Стельмах читал не так уж много, но основательно, непременно отмечая аккуратными галочками наиболее значительные, на его взгляд, слова и мысли…
Судьба Лисовского никак не волновала его и не очень удивила: он не первым и, наверняка, не последним покинул Россию. Хорошо это или плохо – такое просто не приходило Алексею Васильевичу в голову: каждый должен сам решать, где и как ему жить, полагал Стельмах. «Всякий праздник рано или поздно кончается и на другой день не имеет особого значения, уехал ли ты домой на рассвете или исчез, когда веселье было в разгаре». Мысли его петляли и постоянно – то с одной стороны, то с другой, возвращались к главному – человек должен жить радуясь, делясь этой радостью с другими.
Последние годы с тех пор, как он все дальше отходил от летной среды, не сказать – были ему в тягость – он занимался Тимошей, тратил уйму времени на поддержание своей физической формы (Алексей Васильевич больше смерти боялся одряхления), он весьма избирательно читал умные книги, охотно помогал по хозяйству Лене, общался со своими сверстниками и публикой помоложе и все таки послеавиационные свои годы он считал не вполне кондиционными. Испытывая ставшее почти привычным теперь томление духа, Алексей Васильевич привычно шагал на Ходынку. К нему здесь успели привыкнуть, не очень, правда, замечали, но он и не лез на глаза: здесь пахло авиационным бензином, здесь, хотя и заметно обесцененный, жил тот особый дух старой авиации, что напоминал ему аэроклубовские времена, первую школу военных пилотов…
На этот раз он возник на стоянке, когда летчики собирались на обед. Его приветствовали, и старший спросил:
– Не покараулишь тут, отец, мы все разом на обед тогда съездим?
Он согласился и они укатили. А Алексей Васильевич остался один на один с летным полем, перечеркнутым изношенной бетонной полосой, с белыми бипланчиками, задумчиво стоявшими на зеленой травке. Накануне он читал книжку Линдберга, выпущенную на русском в тридцатые годы. Среди прочего – наивного, искреннего, откровенно авантюрного было там и такое: «… я еще раз описал круг над судном и, когда был как раз над ним, выключил мотор и крикнул: «В какую сторону лететь в Ирландию?» Конечно, я не получил ответа и полетел дальше…» Это происходило над Атлантикой, во время исторического беспосадочного, одиночного перелета из Соединенных Штатов Америки в Европу. «Эх, молодое безумство, – вздохнул, читая, Алексей Васильевич, – над океаном – и шлеп по лапкам – выключить мотор… а не запустился бы? Но – «безумству храбрых поем мы…» и так далее». И Стельмах засмеялся. Линдберг, невзирая ни на что, был ему исключительно симпатичен.
Теперь он осмотрелся, как бы оценивая пространство, окружавшее его, и медленно приблизился к крайнему бипланчику. Неспешно забрался в кабину. Пристегнулся страховочными ремнями. Оглядел приборную доску, подвигал рулями. Посидел с закрытыми глазами, словно молясь, и нажал на кнопку стартера. Послушный движок тут же заработал. Алексей Васильевич поглядел на манометр – давление масла было в норме, он обождал пока прогреются моторные косточки и температура позволит вырулить…
Полоса лежала перед ним – длинная, безмолвная и тем не менее зовущая. «Приняв однажды решение, даже худшее из возможных, не изменяй его». Он усмехнулся, вспомнив эту первую заповедь всех летающих, и начал разбег.
Скорость – сорок километров в час… Ручку на себя… Таа-ак… Нос приподнимается… Хорошо… Алексей Васильевич даже не ожидал, что так запросто оторвется от земли.
Скорость?! Нормально.
Летать, если, конечно, ты летчик, все равно что дышать. И не надо задерживать дыхания. Осмотрись по сторонам… Земля его отпустила и теперь лежала у Стельмаха под ногами – удивительно чистая, нарядная и, пожалуй, уже чужая, хотя высоты он успел набрать всего двести метров.
Разворот влево. Та-а-ак… Вот как славно побежал горизонт в сторону… Его чуть тряхнуло на выходе из виража, значит он попал в собственную струю – сумел сохранить высоту тютелька в тютельку. Э-э, старик, а ты совсем не плох! Опрокинь-ка ее, голубушку, на спину… Та-а-ак! Земля бежит в лицо. Переворот получился не совсем чисто, но все-таки получился… Слева краснело старинное здание Военно-воздушной академии, обрамленное роскошной зеленью, по проспекту бесшумно катили и катили разноцветные машины, прополз синий троллейбус. В легкой дымке лежал его город. Алексей Васильевич подумал – а не рвануть ли насквозь – вдоль улицы Горького, мимо Пушкинской, через Красную площадь…








