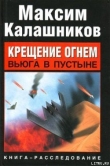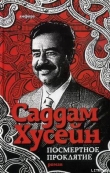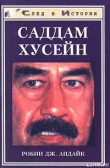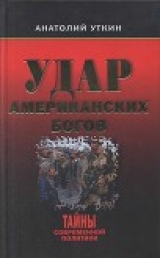
Текст книги "Удар американских Богов"
Автор книги: Анатолий Уткин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)
Экономика Соединенных Штатов оставила далеко позади потенциальных соперников и ныне, спустя более полувека после окончания Второй мировой войны, ее превосходство над поверженными тогда Германией и Японией убедительнее, чем когда бы то ни было. Восстановившие свою мощь страны не смогли приблизиться к показателям Америки, о чем свидетельствует таблица ниже.
Степень доминирования. Соотношение валового внутреннего продукта гегемона и ближайших конкурентов (гегемон = 100).
| Год | США | Брит. | РФ | Япон. | ФРГ | Фран. | КНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1870 | 108 | 100 | 90 | — | 46 | 75 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 100 | 24 | 35 | 11 | 15 | 15 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 100 | 17 | 39 | 38 | 21 | 18 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 100 | 15 | 9 | 38 | 22 | 16 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 100 | 15 | 13 | 35 | 21 | 15 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник: «Economist», June 29-July 5 2005. A Survey of America’s World Role, p.8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Восьмерка» расходует 90 % общемировых расходов на исследования и разработки. На занимающую второе место Японию приходится– 17,6 %, на Германию– 6,6 %, Британию– 5,7 %, Францию– 5,1 %, Китай – 1,6 %)[110]110
108 OECD, Science, Technology, and Industry: Scoreboard of Indicators 1997. Paris, OECD, 1997; «New York Times», May 11,1999, p.C1.
[Закрыть]. И эти расходы дают весомые результаты: не менее половины новых технологий мира создается в начале XXI века в Америке (что детально показывает Совет по конкурентоспособности – аналитический центр американской индустрии, расположенный в Вашингтоне[111]111
109 «International Security», Summer 1999, p. 17 (note).
[Закрыть]).
Более 40 % мировых инвестиций в компьютерную технологию приходится на американские компании – более 220 млрд. дол. Соотношение числа компьютеров к работающим в США в пять раз выше, чем в Европе и Японии. Это дает американскому бизнесу внушительное превосходство над конкурентами. Компании «Интел», IBM и «Моторола» производят существенно важные компоненты собственно компьютерной техники. В то же время «Майкрософт», «Оракл» и «Нетскейп» обеспечивают главные мировые программы, и все они основаны в Америке, где располагаются их штаб-квартиры. Экспорт «Виндоуз» и «Лотус 1, 2, з» постоянно растет. Основанный министерством обороны США Интернет стал глобальным феноменом, но большинство включенных в Интернет 15 000 телевизионных сетей базируются в Соединенных Штатах[112]112
110 Zakaria Fareed. The Challenges of American Hegemony («International Journal», Winter 1998-9, p. 13).
[Закрыть].
США расходуют вдвое больше средств на душу населения на информационно-технологические нужды, чем западноевропейские фирмы. Более 90 процентов сайтов в Интернете являются американскими. Американские компании являются главными поставщиками «кремниевых мозгов». В стране находятся 40 % общего числа компьютеров в мире. Наличие наиболее эффективного экономического организма; организационные, технические и идеологические инновации (более трети мировых патентов), совершенство индустриальной организации, доминирование в мировой валютной системе, главенствующие позиции в мировой торговле, обладание самыми мощными ТНК, возможность оказывать массированную экономическую и гуманитарную помощь внешнему миру – все это позволило Америке установить первенство в основных отраслях современной экономики. Университеты США и американский бизнес легко абсорбируют в американскую экономику талантливых иностранцев – как когда-то Римская империя. Фактом является то, что все сторонники расширения мировой торговли, снятия барьеров, расширения экономического поля деятельности так или иначе входят под мантию американского технологии, американской промышленности и торговли. Сень американского орла – залог приобщения к самому богатому и софистичному рынку мира. В этом гигантский фактор американского могущества. Торговля и финансы сплачивают то, что быстро становится имперским доменом. При этом существенно следующее благоприятствующее Америке обстоятельство: там, где она нарушает каноны свободной торговли – скажем, в области поощрения своего сельского хозяйства, защиты текстильной промышленности, сталеплавильной отрасли – их главные конкуренты-западноевропейцы нарушают правила либерализма сами и это как бы нейтрализует активную американскую торгово-промышленную самозащиту. На этой основе трудно предвидеть формирование некоего антиамериканского альянса. Еще более жестко, чем прежде проявил себя тот факт, что производительные силы современного мира принадлежат крупным компаниям-производителям, тем многонациональным корпорациям (МНК), полем деятельности которых является вся наша планета. В современном мире насчитывается около двух тысяч МНК, которые распространяют свою деятельность на шесть или более стран. Среди них пятьсот крупнейших имеют совокупный продукт в 21,9 трлн. дол. (61 процент мирового валового продукта). Они контролируют капиталы в 35,6 трлн. дол. Их ежегодные доходы равняются 8ю млрд. дол. в год. На этих пятистах многонациональных компаниях заняты 84, 5 млн. человек. 93 процента их штаб-квартир расположены в США, Западной Европе и Японии. Среди 50 самых больших МНК двадцать семь – американского происхождения[113]113
111 Rourke J. Taking Sides. Clashing Views on Controversial Issues in World Politics. Clifford: McGraw-Hill, 2000, p. 100.
[Закрыть].
Представляющий «Нью-Йорк тайме» Т. Фридмен говорит о Соединенных Штатах как о стране, «получающей наибольшие возможности сформировать коалицию, которая проводит глобализацию в глобальном масштабе… Соединенные Штаты, к примеру, решают, куда следует направить капитал, информацию и военную мощь для спасения косоварских албанцев, изгнанных из Югославии в 1999 году. Именно Соединенные Штаты определяют правила, по которым работает Всемирная торговая мировая организация и условия, на которых в нее может быть принят Китай. Именно Соединенные Штаты сформулировали ответ Организации Объединенных Наций на действия иракского президента Саддама Хусейна. Другим странам НАТО, китайцам и русским остается лишь подчиняться, иногда очень неохотно»[114]114
112 Friedman Th. Understanding Globalization. The Lexus and the Olive Tree. N.Y.: Anchor Books, 2000, p. 204.
[Закрыть].
Лишь несколько стран в силу собственной культуры, цивилизационных особенностей и исторического развития (близость к СССР) не входили в мировую зону США, и это делало их потенциальными жертвами. Одной из таких стран был Ирак.
Сила создает новую моральНаличие силовых возможностей открыло, по словам американского эксперта Басевича, «перспективу чистого, быстрого и приемлемого решения насущных проблем, вооруженные силы стали предпочтительным инструментом американского государственного искусства. Результатом стала обновленная, интенсифицированная – и, возможно, необратимая – милитаризация американской внешней политики»[115]115
113 Bacevich A. Policing Utopia. The Military Imperatives of Globalization («National Interest», Summer 1999, p. 5).
[Закрыть]. Как характеризует сложившееся положение американский политолог Томас Фридмен, мир поддерживается «присутствием американской мощи и американским желанием использовать эту военную мощь против тех, кто угрожает их глобальной системе… Невидимая рука рынка никогда бы не сработала без спрятанного кулака. Этот кулак виден сейчас всем»[116]116
114 «The National Interest», Spring 2000, p. 53.
[Закрыть].
По определению, данному президентом Б. Клинтоном в январе 1998 г. в Национальном оборонном университете, «дипломатия и сила являются двумя сторонами одной и той же монеты»[117]117
115 «The National Interest», Spring 1999, p. 5.
[Закрыть]. Государственный секретарь США М. Олбрайт обратилась к американским военным со словами, которые трудно трактовать двояко: «Какой резон иметь эту превосходную военную машину, о которой постоянно говорят военные, если мы не можем ее использовать?» Президент Дж. Буш-мл.: «Говоря в терминах мощи, наша страна стоит как сверхдержава в одиночестве… Вот почему мы можем проецировать мощь на весь мир»[118]118
116 «New York Times», October 12,2000.
[Закрыть].
Полагаясь на эту мощь и наличие союзников, американские политологи делают однозначный вывод: «Соединенные Штаты являются единственным в мире государством с потенциалом глобальной проекции мощи; они способны осуществлять базирующееся на наземных плацдармах доминирование на ключевых театрах; они обладают единственным в мире всеокеанским военно-морским флотом; они доминируют в воздухе; они сохраняют способность первого ядерного удара, продолжают инвестировать в системы контроля, коммуникаций и разведки… Следует признать, что любая попытка непосредственно соперничать с Соединенными Штатами безнадежна. Никто и не пытается»[119]119
117 Wohlforth W. The Stability of a Unipolar World («International Security», Summer 1999, p. 18).
[Закрыть].
Условия, сложившиеся в мире после 1991 г., позволили Соединенным Штатам использовать свои вооруженные силы для целей принуждения практически без риска возмездия. Используя превосходную технологию ударов по наземным целям издалека, Соединенные Штаты свели до минимума риск ответного удара по своим вооруженным силам. Но наиболее выпукло силовую основу внешней политики США осветил неожиданно рассекреченный в 1992 году плановый документ Пентагона, несущий в себе идеи так называемой «доктрины Буша»: «Нашей главной целью является предотвращение возникновения нового соперника, будь то на территории бывшего Советского Союза или в другом месте, который представлял бы собой угрозу, сопоставимую с той, которую представлял собой Советский Союз… Нашей стратегией должно быть предотвращение возникновения любого потенциального будущего глобального соперника»[120]120
118 «New York Times», March 8,1992, p. A14.
[Закрыть].
В 2006 г. США расходуют почти 40 процентов мировых затрат в военной сфере. Больше, чем 15 следующих за ними стран. Идеологи американской глобальной контрольной вахты не предвидят появления хотя бы примерно равного себе по мощи противника на мировой арене еще примерно двадцать лет. Президент Дж. Буш запросил такой темп роста военного бюджета, который позволит к 2007 г. довести его до 476 млрд, дол. Президент Буш выдвинул проект создания стратегического щита вокруг Америки, что в течении примерно десятилетия полностью изменит соотношение сил между ядерными державами мира в американскую пользу. «На пути к созданию такой системы отношения между Америкой и другим крупными ядерными державами, – пишет английский «Экономист», – радикально изменятся»[121]121
119 «The Economist», June 29-July 5,2002 (Present at the Creation, p. 4)-
[Закрыть]. В частности Вашингтон уже попросил Брюссель ликвидировать натовское командование на Атлантике АКЛАНТ, поскольку американского контроля над регионом уже достаточно. Вашингтон, по существу, отказывается от совместного обеспечения морских путей в Атлантике. Америка все более опирается на собственные военные рычаги в данном регионе.
Глава 3
ВЫСШИЙ КРУГ РУКОВОДСТВА
Прежде чем обратиться к собственно военным действиям, к вторжению сооруженных сил США в Ирак, посмотрим как видел и анализировал Месопотамию высший круг американского руководства, как он стал относиться к внешнеполитическим проблемам.
Особенность соотношения внутренних силУ партии есть центр, правое и левое крыло. То, что произошло в 2000 году, – представляет собой общий поворот американского республиканизма вправо, сдвиг республиканской партии США в сторону гегемонизма, силовой политики, подчинения американским интересам международных организаций.
Посмотрим на позиции этих фракций в их отношении к верховной власти в стране, к оптимальной стратегии Вашингтона в бурно развивающемся мире.
Если быть точными, то левое крыло республиканцев, являвшее собой прежний атлантический истеблишмент, прежний внешнеполитический мэйнстрим, ныне оттеснено от власти. Да, либеральные фонды – Форд, Рокфеллер и Макартур будут помощнее: 833 млн. дол. в 2004 г. против 68 млн. дол. неоконсервативных фондов. Либеральные «Нэшнл ревью», «Нэйшн», «Нью рипаблик», «Нью-йоркер» (не говоря уже о «Тайм» и «Ньюсуик»). Но главные источники власти уже очевидно сместились.
Политическая власть в начале XXI века поделена между центром (представители которого действуют как демократические империалисты) и правым флангом республиканцев (которые получили обозначение как неоконсерваторы). Назовем вначале ведущих неоконсерваторов. Это бывший первый замминистра обороны, ныне возглавляющий Всемирный банк – Пол Вулфовиц; замминистра обороны по выработке политики Дуглас Фейт; начальник штаба вице-президента Льюис «Скутер» Либби; ведущий в Совете национальной безопасности Ближний Восток, Юго-Западную Азию и Северную Африку Элиот Эбрамс; член Совета по выработке оборонной политики Ричард Перл. Остальные «неоконы» в основном судят и рядят о политике, но не формируют ее. Они ее «философы», воздействующие на американское общество со страниц ведущих печатных изданий – Уильям Кристол в «Уикли стандарт», Макс Бут в «Уолл-стрит джорнэл», Чарльз Краутхаммер в «Паблик интерест» и «Комментари». Философ Сидни Хук, политологи Ирвинг Кристол и Роберт Каган пишут книги, которые благодаря рекламе становятся бестселлерами. Прежний представитель США в ООН Джин Киркпатрик ныне преподает. Экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси подумывает о мемуарах, Майкл Новак ударился в теологию. «Неоконы» сильны в таких аналитических центрах, как Американский предпринимательский институт, Проект Нового Американского Века, в таких фондах, как Брэдли, Джон Олин, Смит Ричардсон.
В политическом центре неоконсерваторам так или иначе противостоят собственно люди президента, (которые несколько отстоят от неоконсерваторов и в американской политической жизни ведут себя как демократические империалисты). Их возглавляет собственно президент Джордж Буш-мл., их ведет за собой вице-президент Ричард Чейни, их безусловный лидер – министр обороны Дональд Рамсфелд, их идеи олицетворяет государственный секретарь Кондолиза Райс. Не все они (и не всегда) благоволят к «неоконам». Многие из «грандов» нового американского империализма осуждали яростную активность «неоконов» на Балканах, опускали международные разделы в речах Буша-мл., когда тот лишь претендовал на Белый дом.
Неоконсервативные журналы имеют меньший тираж, чем откровенно либеральные.
НеоконсерваторыСовременный американский неоконсерватизм – мощная и сплоченная сила, искусная в идеологическом споре и в трактовании оптимального американского курса в огромном внешнем мире.
Итак, кредо неоконсерватизма: открытое провозглашение первенства США в международных делах, снижение роли международных организаций, предваряющие удары по потенциальным противникам, любые действия, предотвращающие распространение оружия массового поражения, подозрение в отношении даже старых союзников (не говоря уже о новых доброхотах, таких, как РФ), сокрушение «оси зла» (Иран, Сирия, Северная Корея), привнос демократии в такие далекие от нее регионы как Ближний Восток, активное использование уникального факта американского всемогущества («история не простит бездействия»). Мантра «неоконов»: величайшей опасностью для Америки сегодня является возможность создания одним из «rogue states» («агрессивных государств») или террористической организацией ядерного оружия, которым оно может снабдить диверсионные группы, стремящиеся проникнуть в Соединенные Штаты.
«Звездный час» политического всемогущества настал для неоконов в трагическое для Америки время. Когда потрясенная страна в сентябре 2001 г. озиралась в поисках утраченного равновесия, «неоконы» решительно вышли на национальную арену и предложили президенту и администрации в целом серию активных действий, отвечавших тогдашнему паническому сознанию руководства страны, полтораста лет не знающей войны на своей территории. Войны в Афганистане и Ираке вывели «неоконов» из идеологических пещер в самые главные кабинеты национального руководства. Орган неоконсерваторов «Стандард уикли» стал непременным чтением в Белом доме и в федеральных министерствах.
Как пишет едва ли не самый активный «неокон» Макс Бут, «после самой крупной в истории США террористической атаки президент Буш-мл. пришел к выводу, что администрация не может более позволить себе «скромной» внешней политики». Особое ликование «неоконов» вызвала принятая администрацией Буша в 2002 г. амбициозная «Стратегия национальной безопасности», главной мыслью которой было продекларированно право федерального правительства США наносить «предваряющие удары» в случае, если государственные органы страны посчитают политику государства X грозящей антиамериканскими действиями. Это наиболее лелеемый американскими неоконсерваторами документ, символ американской гегемонии в мире.
Обречена ли Америка жить в тени наиболее параноидальных мнений, грозящих, в конечном счете, распылением мощи американского гиганта, потерей им наиболее важных союзов, невозможную попытку осуществить полицейские функции «по всем азимутам»? Даже сейчас видно, что внутри Белого дома, Капитолия, Пентагона идет жесткая внутриведомственная схватка. Если бы «неоконы» были в ней побеждающей стороной, то мы бы видели силовые действия против Ирака и Афганистана гораздо раньше, а Иран уже становился бы площадкой американского «исправления мира» – сейчас мы наблюдали бы за ударами по Северной Корее и Ирану. Напротив, мы видим первые попытки контактов республиканской администрации с обеими этими странами – именно потому, что опыт, скажем, Ирака оказался далеко не вдохновляющим.
В Америке достаточно трезвых людей, не опьяненных положением единственной сверхдержавы, бесконтрольного хозяина мира. Быстро выигранная в Афганистане война – за счет Северного альянса таджиков и узбеков, обратилась в Ираке (да ныне уже и в Афганистане) теряемым миром.
Что касается целей американского ответа на Черный Сентябрь, то и здесь возникают вопросы. Уже сегодня ведущий американский социолог Иммануэль Воллерстайн спрашивает, почему «нашим главным военным ответом на акты террора было вторжение в страну, которая не имела ничего общего с атакой 11 сентября?.. «Полный вперед» – это девиз нынешней администрации, поскольку другой курс кажется им пораженческим. Если они ослабят темп, то будут выглядеть очень глупо, а поражение позже кажется менее болезненным, чем крах сегодня».
Неоконсерваторы уже сейчас (на всякий случай) жестко утверждают, что они стояли и стоят за более активное, энергичное и быстрое вмешательство в «национальное строительство» в Ираке и Афганистане. Они уже обвиняют деятелей типа и класса Рамсфелда в неповоротливости, в скепсисе по отношению к участию американцев в создании новых государств на Ближнем и Среднем Востоке. Они выступают за расширение американского военного присутствия здесь.
«Неоконы» отметают всякие аналогии с Вьетнамом, они напоминают, что во время покорения иракского восстания в 1920 г. англичане потеряли более 500 солдат – сопоставимо с первым годом пребывания американцев в Ираке. Но, если потери в Ираке (превзошедшие уже две с половиной тысячи американских военнослужащих) не прекратятся, а сотни млрд, дол., выделенных Ираку, не стабилизируют там обстановку; если ценой борьбы с суннитами и шиитами Ирака будет кризис НАТО, если вместо демократии в новом Ираке воцарится режим шиитских аятолл, когда престижу Соединенных Штатов в мире будет нанесен жестокий урон, тогда Америка будет искать «козла отпущения». И она уже знает, как его зовут.
Поражение традиционного истеблишмента11 сентября подорвало силы левых и даже центра политического мэйнстрима. Парадоксально, но основным противником курса Дж. Буша – мл. становится секретарь СНБ его отца, Дж. Буша-ст., – Брент Скаукрофт. Он определяет свою борьбу как сражение «традиционалистов» (которых он возглавляет), против пришедших с Бушем-сыном «трансформистов», прагматиков против «неоконов» плюс демократических империалистов, интернационалистов против унилатералистов, людей, победивших в холодной войне – против борцов «войны с террором».
Последние раскололи прежнее единство американской элиты, агрессивно оттесняя триумфаторов старшего Буша 1991 года от рычагов фантастической власти в новом столетии. Показательно на фоне вышедших совместных мемуаров Буша-старшего и Брента Скаукрофта то, что Брента Скаукрофта при Буше-младшем не назначили даже на (несколько декоративный) пост главы президентского Совета по внешней разведке.
Почему? Потому что столь близкий его отцу Скаукрофт пытается сейчас объяснить причины склонности Дж. Буша-мл. к радикальным решениям таким образом: «Трансформация пришла 11 сентября. Нынешний президент – очень религиозен. Он воспринял как нечто уникальное, как поданное сверху то катастрофическое, что произошло 11 сентября, когда ему пришлось быть президентом. Он воспринял происшедшее как миссию, как его личную миссию расправиться с терроризмом». Скаукрофт замечает, что проблема в «абсолютной вере, в мотиве столь благородном, что отныне все содеянное в отместку – О.К., поскольку речь идет о правом деле». Анализ Брента Скаукрофта однозначен: от традиционных отношений с союзниками до событий в тюрьмах Абу Граиб и Гуантанамо– чем меньше моральной двусмысленности в твоем мировоззрении, тем лучше, тем спокойнее ты можешь оправдать свои действия.
Еще одна проблема согласно взглядам Скаукрофта проистекает из того факта, что «если вы верите в то, что ваши деяния – абсолютное благо, тогда грехом будет отходить от уже намеченного и взятого курса». Это означает, что религиозный абсолютизм либо создает опасные политические решения, либо, в противном случае, он делает Соединенные Штаты открытыми к обвинениям в лицемерии. Скаукрофт: «Например, вы выступаете в защиту тезиса об экспорте демократии, и при этом вы обнаруживаете себя в объятиях таких лидеров, о которых можно сказать что угодно, но только не то, что они привержены демократии или готовы отстаивать демократические идеалы где-либо. Абсолютные истины невозможно подвергать сомнению; невозможно одновременно практиковать прагматизм и полностью загораживаться от критики».
На фоне потери национальных позиций первоначальными ставленниками американцев в Ираке это своего рода объявление войны традиционалистов трансформистам. Возникает ситуация противостояния курсов 41-го и 43-го президентов, отца и сына, традиционалистов и трансформистов. Согласно Скаукрофту, «11 сентября позволило трансформистам утверждать, что ситуация в мире быстро ухудшается и мы должны быть смелыми. Мы знаем, что делать, и у нас для этого есть сила».
Контраст нынешнего Совета национальной безопасности и того, который возглавлял Скаукрофт, очевиден. И Кондолиза Райс гордится своим нынешним детищем: «Я не хотела бы иметь СНБ, похожий на СНБ времен Брента – действующий в низком ключе, занимающийся координацией, а не оперативными проблемами, маленький и менее энергичный». Возглавляя СНБ, Райс требовала, прежде всего, безусловной лояльности, полного подчинения курсу президента и всем его привычкам: «Вашей первой обязанностью является поддержка президента. Если президент желает иметь текст 12-го размера печати, а вы подаете ему юго, ваша обязанность дать нужный размер».
Либеральный истеблишмент – традиционалисты утверждают, что, работая в СНБ, Кондолиза Райс превратила Совет национальной безопасности в организацию, которая служит индивидуальным прихотям одного человека в ущерб лучшему служению национальным интересам. Скаукрофт размышляет: «Существуют две модели осуществления функций советника по национальной безопасности – снабжать президента информацией и управлять СНБ как организацией. Сложность состоит в том, чтобы решать обе задачи». Будучи советником президента по национальной безопасности, Кондолиза Райс, по мнению традиционалистов, ежеминутно была занята тем, чтобы быть на стороне президента, постоянно шепча ему что-то на ухо, становясь его alter ego в вопросах внешней политики. Это изменило роль СНБ как центра анализа, способного критично взглянуть на свой курс.
В результате государственный секретарь (до 2005 года) Колин Пауэлл, видимый миру как обладатель «голоса разума» рядом с импульсивным президентом, стал восприниматься президентскими лоялистами как подозрительная личность. Пауэллу приходилось не раз оправдываться перед иностранной аудиторией. В результате Пауэлл стал терять влияние, а затем и покинул администрацию. И, периодически не разделяя мнение «неоконов», он терял линию аргументации своей политики. Происходило очевидное отчуждение государственного секретаря, с одной стороны, и министра обороны Рамсфелда – с другой. Его заместитель в госдепартаменте Марк Гроссман сказал: «Мы стали ненужной бюрократией». Американская государственная система в подобных случаях делает верховным арбитром президента страны. И президент Буш-младший стал постепенно вмешиваться в межминистерские отношения чаще всего на стороне министра обороны. Утешением Колину Пауэлу было значительно большее международное уважение, чем выказываемое по отношению к министру обороны Рамсфелду.
С уходом Колина Пауэлла традиционалисты в американской дипломатии окончательно уступили «демократическим империалистам» типа вице-президента Чейни и министра обороны Рамсфелда; традиционалисты уступили в СНБ, возглавляемом Кондолизой Райс. На них с правого фланга оказывали нажим деятели типа Вулфовица и Либби, а ослабленный в США «левый» фланг оказался неспособным оказать необходимую поддержку.
Итак, мы видим, что с 2001 г. традиционный атлантический истеблишмент (сегодня олицетворяемый весьма одиноким Скаукрофтом) потерпел на внутриполитической арене очевидное поражение. В этих условиях «различие» в подходе отдельных представителей американского руководства к мировым проблемам можно увидеть лишь в оттенках взаимоотношения двух линий, в различиях «демократических империалистов» и неоконсерваторов. Президент Буш-младший и госсекретарь Райс отражают замену внутренней борьбы на уровне Совета национальной безопасности США консолидированной позицией.