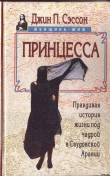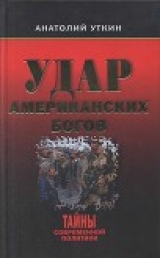
Текст книги "Удар американских Богов"
Автор книги: Анатолий Уткин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Поражение царя Митридата в 84 г. до н. э. никак не укрепило демократию в Риме. Пройдя под традиционной триумфальной аркой, победоносный Сулла прервал свою задумчивость такими словами: «Теперь, когда во всей вселенной у нас нет врагов, какой же будет судьба нашей республики?» Сомнения Суллы в отношении судьбы республики оправдались. Незамедлительно возникли «внутренние враги» (террористы античности), появились проскрипции, армия вошла в столицу, и республика покатилась к империи.
Триста лет Америка провозглашала свою особенность, представая миру как исключительное государство. Теперь она сумела распространить демократию в качестве общепризнанного идеала. И потеряла идентичность исключительности. Четырехзвездный проконсул Томми Фрэнкс (даже внешне похожий на Суллу) добил последнего «официального» врага современного Рима – Митридата-Хусейна.
Но отсутствие явственного врага уже ощущается. Социологическая теория и исторический опыт указывают, что отсутствие ясно очерченного внешнего врага порождает в метрополии внутренний разлад. Неудивительно, что окончание холодной войны вызвало тягу местных внутриамериканских общин к самоидентификации. Отсутствие врага ослабляет необходимость в сильном центральном правительстве, в некогда безусловном единстве.
Профессор Поль Петерсен уже в 1996 г. писал, что окончание холодной войны сделало расплывчатыми очертания национальных интересов США, уменьшило надобность в национальных жертвах. Эгоистический интерес стал брать верх над национальной приобщенностью. Инаугурационные слова Джона Кеннеди – «Спрашивай не о том, что страна может сделать для тебя, а то, что ты можешь сделать для своей страны» стали голосом другой, героической эпохи, ныне скрывающейся за историческим поворотом. Вслед за германским экспансионизмом, японским милитаризмом и русским коммунизмом ушло в прошлое представление о противнике как о силе, противостоящей американскому индивидуализму и свободе. И американская демократия, американское общество (со всеми его ценностями свободного гражданина и. свободного рынка) оказалась в своеобразном вакууме.
Даже вышедшие к первым ролям неоконсерваторы не растерялись при триумфе. Вот что пишет один из их главных идеологов Чарльз Краутхаммер: «Нации нуждаются во врагах». Новая элита не отвернулась от испытанного компаса– идеальным противником для Америки был бы идеологически противоположно настроенный, расово и культурно совершенно иной, достаточно сильный в военном смысле противник. Сразу же после окончания холодной войны в Америке начались дебаты, кто мог бы стать таким противником.
Проще простого было демонизировать совсем недавних союзников – Милошевича и Саддама Хусейна (геноцид, немыслимая жестокость). Но и здесь ранжир явно не тот, особенно на фоне Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна (и даже менее впечатляющих Хрущева и Брежнева). Нужно было обладать исключительно богатой фантазией, чтобы в изолированном, контролируемом с воздуха и инспекторами на земле Ираке увидеть полномасштабную угрозу Соединенным Штатам, их континентальных размеров территории, их всемирно признанным идеологическим основам. Манихейские искатели дисциплинирующей угрозы обращались к разным разностям: «государства-изгои», кибертерроризм, асимметричное ведение войны, всемирная наркомафия, ваххабизм, ядерное распространение и многое другое. Одних только террористических организаций официальные американские органы насчитали в 2003 г. тридцать шесть береди них ведущие – «Аль-Каида», Исламский джихад, «Хезбалла», «Хамас»). Государств, «спонсирующих терроризм», в том же году определили семь. В «ось зла» ввели в 2002 г. Ирак, Иран и Северную Корею, к которым государственный департамент добавил Кубу, Ливию и Сирию. Полномасштабными претендентами на угрозу Соединенным Штатам стали быстрорастущий Китай и турбулентный мусульманский мир (Ирак, Иран, Судан, Ливия, Афганистан при Талибане).
Все эти поиски в значительной мере приостановило 11 сентября 2001 г. Усама бен Ладен как бы остановил американские метания атакой на Нью-Йорк и Вашингтон. Теперь главным врагом на первую половину XXI в. был избран воинствующий ислам. Римляне тоже сражались с восточной религией.
А сама Америка, как некогда Рим, погрязла в раздорах. Даже система подсчета голосов оказалась сомнительной, как и, скажем, доходы компании «Энрон». Положиться на солидарность? Лояльность все меньше ценится в современном мире – на внешней арене на глазах у всех распадается триумвират США – ЕС – Япония. Автократия? Местный Цезарь не блещет талантами. Ну а народ – и патриции и плебеи бьются за «хлеб и зрелища» (то бишь за «медикэйд» и «медикэйр» на фоне НХЛ, НБА и ста каналов кабельного телевидения). Сенат жестко критикует преторианцев (разведку). А в это время южную границу активно пересекают испаноязычные варвары (втрое более низкий образовательный ценз).
Но главное: в Америке (признают такие идеологи как С. Хантингтон) в геометрической прогрессии растет тот сектор населения, в котором, люди, приехавшие в Америку, не желают стать американцами и живут в США как на своей исторической родине. Гарвардский геополитик Хантингтон пишет о растущих миллионах тех, кто, «прибыв в Америку из чужих земель, не чувствуют приобщенности к новой «родной земле». Их поведение в отношении своей новой страны контрастирует с основной массой американской публики»
Но растет еще одно ослабляющее республику явление. Футурологи указывают на воздействие экономической глобализации– денационализация элиты будет продолжаться… Ее приверженность национальным интересам – в условиях глобальной диверсификации интересов американских. компаний – будет ослабляться». И приходить в противоречие с американскими интересами. Вот теперь то, что хорошо для «Дженерал моторе», вовсе не обязательно хорошо для Соединенных Штатов. Потому что автомобили эта первая в мире автомобильная компания собирает где угодно – от мексиканской Тихуаны до российского Петербурга, а вовсе не в родном Дирборне, где за час сборочной работы американскому рабочему нужно платить в десять раз больше, чем его мексиканскому или российскому коллеге.
В свое время еще Адам Смит сказал, что «владелец земли по необходимости является гражданином той страны, где расположено его имение… Владелец акций является гражданином мира и вовсе не обязательно привязан к одной из стран». Сказано более двухсот лет назад, актуально в высшей степени относительно транснационального капитала. Если американская экономика застряла, то нужно вкладывать в китайскую. Дж. Хантер и Дж. Йетс оценивают ситуацию так: «Эта космополитическая элита думает о себе как о гражданах мира, имеющих американские паспорта, а не об американских гражданах, которым приходится работать в организациях глобального охвата». Ныне президентами таких традиционных американских компаний как «Алькоа», «Вестон», «Дикинсон», «Кока-Кола», «Форд», «Филип Моррис», «Проктерэнд Гэмбл» являются не американцы. Все более слышны жалобы ЦРУ, что американская разведка не может положиться на сотрудничество с американскими компаниями, не видящими смысла помогать американскому правительству.
В Риме дело завершилось наследственной империей. В Вашингтоне наследственность ощутима, но цезаризм не нашел убедительного воплощения, а два трибуна, два Джона хулят президента за необоснованный поход в долину Евфрата, за скупость в отношении хлеба и зрелищ, за освобождение от налогов богачей и, разумеется, за падение нравов.
Осенняя политическая кампания обещает быть самой острой и интересной со времен Ф. Рузвельта. Что важнее: величие нового Рима или его внутреннее благосостояние? Нужны ли Вашингтону союзники, какие, где и для чего? Сохраняет ли свою значимость Организация Объединенных Наций, или она просто сдерживает гегемона? Способны ли варвары обратиться в демократическую веру, минуя вековые цивилизационные предварительные процессы? Следует ли закупать дешевый хлеб в провинциях, или нужно беречь свободных «новых римлян» в хлеборобном Канзасе? Вводить ли войска в Судан или посоветоваться с Клеопатрой (то бишь Мубараком)? Не демократическая и республиканская, а партия «мультикультурализма» против партии «плавильного тигля» столкнулись между собой в отчаянной схватке.
Рим стоял на доблести свободного гражданина и на стратегии осмотрительного сената. А погубили его Содом и Гоморра во внутренних пределах и неконтролируемый поток пришельцев со всего света. В эти дни одна половина Америки обсуждает необходимость поправки к конституции о легальности однополых браков, а вторая – неудержимый натиск испаноязычных иммигрантов, ночь за ночью переплывающих Рио-Гранде в северном направлении, чтобы присоединиться к 38 млн. уже осевших соратников.
В притоке иммигрантов и в космополитизации собственной элиты прячется вопрос к новому Риму: что будет с республикой?
Как долог имперский полетХотя мысли о будущем неотъемлемы от международных исследований, собственно футурология – редкая птица на горизонте гуманитарных исследований. И только в Соединенных Штатах размышления о том, как продлить свою мировую гегемонию, стало буквально национальным спортом. Одним из наиболее видных футурологических центров является в США Гудзоновский институт, основанный несколько десятилетий тому назад одним из основателей футурологической профессии Германом Каном. Именно из этого футурологического центра вышли рассматриваемые в данном конкретном случае Уильям Одом и Роберт Дюжаррич с исследованием будущего Американской империи.
1. Американцев беспокоит то обстоятельство, что в целом «Соединенные Штаты колеблются между приятием международного лидерства и поведением просто одного из суверенных государств»[259]259
257 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 1.
[Закрыть]. Характерно их мнение, разделяемое многими в США, что мировое могущество «невольно» опустилось на плечи Соединенных Штатов. Америка, мол, не ставила перед собой задачи достижения гегемонии. Целью было просто реконструкция Западной Европы и Японии. Империя же пришла как побочный результат.
Нужно было приложить феноменальные усилия по военному производству, долгие годы воевать от Кореи до Месопотамии, путем долгой и упорной борьбы завладеть контролем над океанами и континентами, чтобы в конце яростно утверждать, будто империя сама, неожиданно, как зрелое яблоко, упала на плечи Америки. Можно только улыбнуться. Ведь никто в мировой истории не прилагал более целенаправленных усилий ради мирового доминирования – от «доктрины Монро» до «доктрины Буша», чем стоящий на Потомаке Вашингтон. Стоит только прочитать строки мечтаний отцов-основателей, направлявших бесчисленные фургоны пионеров на Запад, чтобы увидеть целенаправленность покупателей Луизианы, отчаянную самоуверенность основателей Техаса, беспардонную жажду завоеваний у тех, кто захватил половину Мексики, купил Аляску, высадился на Гавайях, присоединил к себе огромный мир – от Пуэрто-Рико до Гавайских и Марианских островов.
И потом, если груз обрушился так негаданно и случайно, то зачем прилагать столь немыслимые усилия, чтобы его сохранить? Если руководство миром – столь тяжелая задача, то нужно ли за нее держаться от Северного до Южного полюса, расходуя огромные средства и постоянно проливая кровь американцев?
2. «Чтобы быть эффективными, США должны действовать в окружении коалиций… Одностороннее использование американской мощи ставит имперский порядок в состояние чрезвычайного риска»[260]260
258 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 5.
[Закрыть]. Но тут же американцы показывают опасность поддаться коллективному безумию, потерять свободу собственных действий. Стоило ли достигать мирового могущества, чтобы делиться им с другими?
3. Источники американской мощи – не естественные ресурсы, не большое население, не благоприятный климат, а государственные институты — обычаи, правила, обыденная практика, равно как идеология, религия, мораль – вот в чем могущество метрополии[261]261
259 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 11.
[Закрыть]. Транзит к государству с демократическими институтами чрезвычайно сложен, вот почему США и западный мир уникальны и приблизиться к их стандартам смогут немногие. На протяжении нескольких грядущих десятилетий конкурентам не стоит и мечтать о достижении превосходства над Штатами.
4. Кто выступает конкурентом? ЕС? «Но до сего дня мир не знал успешной интеграции двух дюжин национальностей. Но, даже если Европейский Союз преуспеет в своем объединении, это будет (как доказывает глава вторая книги), не угрозой Америке, а ее системой поддержки. Разве не объединяющим фактором является владение американцами ценностей на 7 трлн. за пределами США и ценностями в 9 трлн. дол., которыми владеют иностранцы внутри Америки? А что касается военной мощи, то с крахом ÇCCP в мире исчез единственный реальный военный конкурент.
6. Американское военное сообщество считает необходимым замкнуть под своим контролем ключевые регионы Земли. К примеру, руководствуясь «выдвижением передовых систем обороны», американцы жестко настаивают на своем присутствии в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Саудовской Аравии, а сегодня и Ираке – с тем чтобы так или иначе нейтрализовать Иран.
Более всего американских футурологов интересует проблема альтернативы американскому могуществу. Они рассматривают все основные варианты и, понятное дело, отвергают любую замену Американской империи.
Глобализация – это аморфное понятие, прошедшее пик популярности в 1990-е годы, оставив, как хвост кометы, огромную литературу. Одом и Дюжаррич отказываются верить в организующую силу глобализации хотя бы потому, что «отсутствует механизм глобального наведения порядка, а тот, что есть, никак не может сравниться с организующей силой Американской империи»[262]262
260 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 52.
[Закрыть].
Демократический мир. Но если даже «атлантические демократии» Турция и Греция готовы воевать за микроскопические острова в Эгейском море, то что можно сказать о бушующем в страстях остальном мире? Кант с его вечным миром смотрится анахронистом в мире бен Ладена.
Не все регионы одинаковы по важности для США. Селективный выбор союзников фокусирует американские ресурсы – и особенно военные ресурсы.
ОторопьЭто явление вызывает оторопь даже среди самых близких союзников Америки в Западной Европе, где французы гордятся своей культурой, англичане считают себя «прирожденными лидерами», а немцы не верят, что их можно превзойти. В Европе критическое отношение к христианскому самоутверждению Америки возникло в XIX веке. Выход Америки на мировую арену в XX веке умножил удивление и скепсис.
Британский экономист Джон Мейнард Кейнс, говоря о своем опыте наблюдения за президентом Вильсоном, пришел к выводу, что «теологический пресвитерианский темперамент стал опасным аппаратом самообмана. Многие поколения предков президента убедили себя, что каждый их шаг поощрен свыше». Находившийся рядом британский дипломат Гарольд Никольсон увидел в американском президенте «духовно высокомерного наследника пресвитерианской традиции». Не без оснований президента Рейгана называли «восхитительной пародией на проповедника морального возрождения». Журналист Кольмен Маккарти написал, что Рейган «дошел до уровня аятоллы Хомейни».
В XXI веке в Западной Европе периодически оценивают Америку как «гигантскую фундаменталистскую христианскую страну, населенную людьми, повсюду читающими библию», как страну «религиозного экстремизма, угрожающую миру больше, чем бен Ладен». Бывший вице-президент Альберт Гор в сентябре 2004 г. увидел в вере президента Буша «американский вариант фундаменталистского импульса, который мы видим в Саудовской Аравии, в Кашмире и во многих религиозных центрах мира».
США всегда рассматривается как коммерческая республика, защищенная политической системой. Джефферсоновский принцип отделения церкви от государства в демократическом обществе также указывает на эти, казалось бы, светские основы американского самоосмысления. Однако при этом забывают, что истоки американской исходной религиозности и миссионерства институционализированы в политические учреждения и установления, в коллективные представления, которые и есть главная softpower США для самих себя – источник их высокомерия и западного фундаментализма, которого нигде кроме мы не найдем на Западе. Именно фундаментализм, неприятие чужих культур, мультикультурализма и мультиконфессионализма в глобальном масштабе создает идейный фундамент доктрины Буша, у которой много приверженцев не столько на политическом Олимпе, сколько в миссионерском сознании глубинной Америки, не знающей и не желающей знать о других.
Некоторые западные политологи считают, что бен Ладен был подарком судьбы для президента Буша-младшего. Но правильнее, видимо, было бы считать, что атака «Аль-Каиды» и сентября была невероятным «подарком» американской глобальной стратегии. Итог вспыхнувшей после Сентября войны примерно ясен: «Аль-Каида» будет стремиться отъединить ближневосточный регион как можно скорее, а Соединенные Штаты приложить все усилия, чтобы сделать Ближний Восток интегрированной частью общемировой картины. «Обе стороны будут сражаться за один и тот же контингент молодых людей – одна сторона в надежде овладеть их амбициями, а другая – завладеть их ненавистью.
АнтиамериканизмВ центре Нью-Мехико стоит памятник кадетам, бросившимся в самоубийственном порыве с обрыва, чтобы не видеть американской победы над собой. Американцам, возможно, трудно представить их боль. Но утверждать, что упали они сами, без внешнего принуждения – это уже слишком. Империи строятся жесточайшими усилиями, а вовсе не по закону сэра Исаака Ньютона, такова горькая правда истории. Утверждать противоположное – отрицать критическое чутье большинства человечества, которым правят сегодня с берегов Потомака. И нынешний главный предмет размышлений американских футурологов известен: как продлить американскую имперскую гегемонию на максимально продолжительный период.
Немалое число американцев верят в продолжительность американского имперского главенства.
Авторы столь смелы в своих оценках, что предвещают «несколько столетий»[263]263
261 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 205.
[Закрыть] американского всемогущества, поскольку на горизонте не видно никого, кто приблизился бы к качеству американских университетов, стабильности политической системы США, их демографическому росту. Последние полвека, говорят они, доказали глобальное превосходство Америки. Судьба в лице демографии благоприятствует продолжительности американского превосходства. Пусть население бурно растет без образования в Африке, Индии и Китае; Америке это не грозит.
Единственное, что способно поставить страну на грань поражения, – безумная политика ее лидеров. Речь идет о способности многих новых иммигрантов поставить личные и этнические интересы выше общенациональных. «Сегодня многие наблюдатели предупреждают, что новые иммигранты склонны противостоять традиционной американской идеологии, обращаясь к «политической корректности и гимнам «культурному многообразию. Это может быть охарактеризовано как внутреннее столкновение цивилизаций… ведущее к тирании»[264]264
262 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p. 206–207.
[Закрыть]. Американские президенты – как и избиратели – открыто стремятся поставить всемирные либеральные интересы выше узких национальных интересов США, «В этом заключается самая серьезная опасность Американской империи. Власть лидеров ограничена только их идеологией, то есть либеральными нормами. Нет других преград, чтобы сдержать власть вождей, не поможет и выработка новых правил. Лучшие из намерений могут оказаться плохим маяком в тумане такой политики»[265]265
263 Odom W. and Dujarric R. America’s Inadvertent Empire. New Haven: Yale University Press, 2004, p.207.
[Закрыть]. Другие разрушительные волны менее опасны и реалистичны: экологические катастрофы, массированные ядерные атаки, гигантские метеоры. Но эрозию американской мощи может вызвать необдуманная атакующая внешняя политика, типа вторжения в 2003 г. в Ирак, сделавшего противостояние США с исламским миром неизбежным. Триумфализм и самолюбование способны довести самую мощную державу к той черте, за которой начинается имперское напряжение.
За два последних десятилетия XX в. ослабли и исчезли две великие исторические траектории, определявшие жизнь двух последних веков – великой французской и русской революций. Это убило «левых» – веру в прогресс, в рациональность в мировую эволюцию как в линейный процесс постоянного прогресса, обещающего привилегии для всех. Произошел геокультурный поворот колоссальных пропорций. Практически потерянными для осмысления происходящего оказались 1990-е годы, когда философские и социальные искания свелись к констатации факта глобализации как триумфа рыночных правил, ниспровергающего все барьеры, включая культурные. Мировую аудиторию убедили, что глобализация меняет все и вся; но подобный дискурс оказался в конечном счете «гигантской ошибкой при осмыслении реальности – обман, спровоцированный на нас мощными своекорыстными группами – и, что еще хуже, этот дискурс оказался самообманом, поскольку он игнорирует реальность и ложно трактует исторический кризис, в центре которого мы оказались»[266]266
264 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 45.
[Закрыть]. А затем последовало крушение Берлинской стены в 1989 г. и террористические атаки в сентябре 2001 г. Потеря легитимности сразу же сказалась во вторжении Ирака в Кувейт. В 1990 г. стало ясно, что следовать Ялтинской системе уже невозможно. И против двухсотлетней культуры триумфализма Запада в последние десятилетия возникает очень своеобразная культура протеста.
Вот кратчайшая оценка Буша: «Полный вперед» – это девиз нынешней администрации, поскольку, если они ослабят темп, то будут выглядеть очень глупо, а поражение позже кажется менее болезненным, чем крах сегодня»[267]267
265 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003,p. 7.
[Закрыть]. Благоприятная возможность может уже не повториться. «Мир оказался охваченным миражом неолиберализма, акме которого уже пройдено – это мираж, равно как и сознательный обман, заслуживающий меньше дискуссий, чем это казалось вначале»[268]268
266 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 222.
[Закрыть]. Неизбежно и объективно увеличивающаяся стоимость производимой продукции, необратимый процесс повышения заработной платы, требования увеличения расходов на образование и бесплатную медицину неизбежно гасят иллюзию благотворности глобализировавшихся рынков. «Ястребиная интерпретация, исходящая из того, что шансы США на всемирный контроль велики, является ложной и следование ей только ускорит американский упадок, превращая постепенное нисхождение в быстрый и турбулентный упадок»[269]269
267 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 24.
[Закрыть]. Более того, слабеют и союзники.
Очень существенный вывод: «Запад вошел в полосу массивного кризиса – не только экономического, но в фундаментальном смысле политического и социального. Мировая капиталистическая система находится в кризисе как социальная система». Босния и Руанда заполонили горизонт. «Мы живем, – говорит И. Уоллер-стайн, – в сумасшедшей и умирающей системе, где расистские привилегии пронизали всю мировую систему и охватили все ее институты»[270]270
268 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 95.
[Закрыть]. В чем причина? Мировая система вступает в коллапс из-за того, что структурные способности ее адаптации к реальному миру фактически исчерпали себя. В результате США стали тем, чем они являются сегодня: «Одинокая сверхдержава, в которой отсутствует подлинная сила; мировой лидер, за которым никто не следует и которого никто не уважает; нация, опасно дрейфующая среди мирового хаоса, который она не может контролировать»[271]271
269 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 17.
[Закрыть]. Да, сохранится колоссальная американская военная мощь как единственная козырная карта американского могущества, но ее не будет достаточно для глобального контроля.
Слабеют идейные позиции. На протяжении двухсот лет Соединенные Штаты приобретали значительный идеологический кредит. Но в сегодняшние дни США избавляются от этого кредита даже быстрее, чем они освобождались от золотого запаса в 1960-е годы. При этом «святая троица» либеральной идеологии – политика, экономика и культура являются инструментами защиты эгоистических позиций. Терроризм, олицетворяемый Сентябрем, привел к тому, что «испытывающие фрустрацию даже при самых консервативных американских правительствах, «ястребы наконец-то встали у руля американской внешней политики… Но ястребиное прочтение происходящего может лишь ускорить процесс упадка Соединенных Штатов»[272]272
270 Wallerstein I. The Decline of American Power. The U.S. in a Chaotic World. New York: The New Press, 2003, p. 23–24.
[Закрыть].
В дальнейшем предстоит обострение трех проблем. l) Перемещение отдельных секторов производства в новые зоны мировой экономики – речь идет о последствиях сельскохозяйственной революции, которая в ближайшие 25 лет будет иметь колоссальные последствия: повысится стоимость сельскохозяйственных продуктов, а в социальной сфере сотни миллионов выброшенных в города крестьян постараются выразить свой гнев. 2) Экологическое истощение планеты усилит спор за сырьевые ресурсы и укрепит позиции их владельцев, одновременно ожесточая менее наделенных. з) население развитых стран будет все больше требовать увеличения общественных расходов на образование и здравоохранение – налоги станут повсеместной проблемой.
Сутью грядущего конфликта будет столкновение христианства, ислама и буддизма. Многие ценности в этих религиях совпадают, и предопределенности столкновения нет.
Какой будет преобладающая система мира через несколько десятилетий? Итог, во-первых, ее вид и сущность будут зависеть от способности «имеющих» и «неимеющих» партий мобилизовать своих сторонников – и меньше будет зависеть от риторики; инициативу возьмут в свои руки те, кто предложит реальные альтернативы. Во-вторых, от того, как справится Запад с процессом своей абсолютной депопуляции, старением населения, сокращением рабочей силы при одновременном несгибаемом желании сохранить высокий жизненный уровень. Возьмем в качестве примера небольшую, но богатую Австрию. Непременным условием сохранения ее современных жизненных стандартов в ближайшие полвека явится увеличение в четыре раза тех ненавидимых западными правыми иммигрантов, которые прибывают преимущественно с Балканского полуострова. Согласится ли Австрия, Европейский Союз, Соединенные Штаты на мирное сосуществование весьма различных культур? До сих пор белые западные христиане лишь мирились с наличием инокультурных анклавов; а речь встанет о подлинном равенстве в мультикультурном целом.