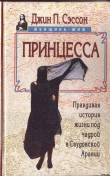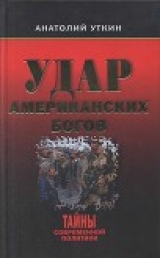
Текст книги "Удар американских Богов"
Автор книги: Анатолий Уткин
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Бен Ладен не устает приглашать президента США и американский народ принять ислам: «Мы зовем вас в ислам; мир придет к тем, кто ступит на правильную дорогу. Я предлагаю вам увидеть радость жизни и избавиться от сухого, жалкого, бездуховного материалистического существования… Воспримите уроки Нью-Йорка и Вашингтона, они даны вам за прежние преступления»[58]58
56 Anonymous. Imperial Hubris. Why the West Is Losing the War on Terror. Washington, D.C. Brassey’s Inc., 2004, p. 154.
[Закрыть]. Одновременно телекомпания «АльДжазира» и Интернет сделали прежде невозможное – растиражировали облик первого врага Запада, распространили в пестрой мусульманской умме от Джакарты до Занзибара героический ореол ее защитника. «Аноним», как и многие исследователи ислама, такие как Д. Бергенер, Дж. Китфилд, Б. Хофман, Э. Басевич, считают, что без этого лидера мусульманский мир не смог бы столь очевидно организоваться для джихада против Запада.
«Аноним» тоже выступает против упрощенного подхода к «террористу № 1». Упрощенный вариант удобен части американской элиты, но он знаменует собой «нежелание американцев ясно увидеть те действия США в мусульманском мире, которые заставляют мусульман бросаться на Соединенные Штаты»[59]59
57 Anonymous. Imperial Hubris. Why the West Is Losing the War on Terror. Washington, D.C. Brassey’s Inc., 2004, p.110.
[Закрыть]. «Аноним» предлагает рассмотреть явление рационально и отказаться от маниакальности. «Эта линия анализа берет блестящего, твердо все рассчитывающего, предельно терпеливого противника, каковым является бен Ладен, и низводит его до положения сумасшедшего, жаждущего крови и иррационального».
По мнению «Анонима», секрет бен Ладена можно понять только при помощи обращения к тому, что более всего он обличает. А обличает он «жалкие условия мусульманской цивилизации, в которых мусульмане виноваты сами. Он, конечно же, винит Запад за нападение на ислам, обвиняет в отторжении арабских природных богатств, но более всего он обличает не крестоносцев, а тех мусульман, которые сошли стропы пророка и не сумели найти единение в джихаде… Беда не во внешних врагах, а в незначительности числа защитников веры»[60]60
58 Anonymous. Imperial Hubris. Why the West Is Losing the War on Terror. Washington, D.C. Brassey’s Inc., 2004, p. 114.
[Закрыть]. Это не безумец, разбрасывающий бомбы, а упорный и трезвый противник, полный решимости нащупать слабое место своего врага. Он – «преисполненный горечи и злобы, хладнокровно калькулирующий свои действия политик. Да, ему нет места на страницах «Гарри Поттера». Но для него много места у той части мира, которая далека от «Гарри Поттера». Это подлинное столкновение цивилизаций».
«Аноним» напоминает главный идеологический мотив бен Ладена: мусульманский мир подвергается нападению западных крестоносцев, встречая «океан насилия, несправедливости, убийств и грабежа, направленных против исламского общества. Мы защищаем себя от Соединенных Штатов. Это «оборонительный джихад», потому что мы желаем защитить свою землю и людей»[61]61
59 Anonymous. Imperial Hubris. Why the West Is Losing the War on Terror. Washington, D.C. Brassey’s Inc., 2004, p. 129.
[Закрыть]. Исламский мир получил руководство, готовое на долговременную борьбу. Выведя свои ударные силы из Афганистана в момент наивысшего наступательного порыва американцев (когда американская армия лишилась шанса «загнать Талибан в каменный век», бен Ладен начал их возвращать только в середине 2003 г., когда бомбардировки Тора-Бора ослабли. Бен Ладен вполне воспринял совет, который Макиавелли дает своему принцу: «Все вооруженные пророки добивались успеха, а невооруженных ждало поражение и забвение».
За что же мусульмане не любят Америку? Президент Буш-младший ответил на этот вопрос сразу же после трагедии и сентября 2001 г.: «За нашу свободу». Прошло три с лишним года, и ответ стал конкретнее, нелицеприятнее, точнее. Мусульманский мир негативно относится к Соединенным Штатам по совершенно определенным причинам:
1. Нахождение вооруженных сил США близ мусульманских святынь Мекки и Медины вызывает ропот миллиардного мира. Нечувствительность официального Вашингтона к религиозным устоям исламского мира, активное использование базы Дахран и других военных структур на Аравийском полуострове порождает впечатление и мнение о нечувствительности американского гиганта к религиозным основам других народов, о презрительности его к одной из великих мировых религий.
2. Соединенные Штаты поддерживают только проамериканские, прозападные режимы, укрепляют лишь своих вассалов, ставя проблему развития мусульманского мира заведомо на второстепенное место. Президент Мушарраф в Пакистане, Мубарак в Египте, феодальная династия в Саудовской Аравии – вот приемлемые для Вашингтона правители мусульманского мира – вне зависимости от того, соответствуют ли эти режимы собственным американским демократическим ценностям.
3. Соединенные Штаты в высшей мере заинтересованы в контроле над главной нефтяной кладовой мира. Это гарантирует поток самой легкодобываемой арабской нефти в собственно США; это позволяет американцам владеть ключом к поставкам органического топлива в регионы-конкуренты, в Западную Европу, Японию, Китай.
Цель: терроризмТерроризм существовал всегда и всегда, увы, пребудет с нами – как всегда будет существовать праведный и неправедный гнев, исступление, чувство отчаяния или попранной справедливости, фанатизм, заблуждение, ненависть, моральный тупик или вспышки безумия. Что превратило терроризм из «профессионального риска монархов» (слова знавшего этот предмет итальянского короля Виктора-Эммануила Первого) в массовую угрозу, так это:
1. «Демократизация технологии» – создание компактных средств массового террора, прежде доступных лишь могущественным государствам. Мы являемся свидетелями «приватизации войны» – обретение несколькими индивидуумами средств поражения, ранее мыслимых только для всесильных государств.
2. Освещение террористических актов средствами массовой информации, ставшее рычагом массового разгона эмоций. Еще два десятилетия назад молниеносные глобальные коммуникации были привилегией крупных правительств или больших организаций, таких, как многонациональные корпорации или, скажем, католическая церковь. А ныне такая связь находится в пределах досягаемости даже очень небольшого круга частных лиц.
В обозрении, осмыслении и интерпретации терроризма, заставшего врасплох Америку в черном сентябре 2001 г., выделилась группа лиц, убедивших самое могущественное общество современности в том, что пассивная самооборона самоубийственна. Тогда, в 2001 г. обрел чрезвычайное влияние тезис американского политолога Чарльза Краутхаммера о том, что пассивность губительна; что «покорная международная гражданственность» Соединенных Штатов рискует погасить светоч демократии и справедливости во всем мире. Неоконсервативные идеологи обнаружили друг друга по одному кодовому определению: Америка может избежать трагической судьбы в качестве жертвы террора только в том случае, если сознательно сбросит с себя оковы созданных после Второй мировой войны организаций, начиная, разумеется, с ООН. Даже обращение натовских союзников к параграфу пять статута Североатлантического союза после сентябрьского нападения террористов на США (объявлявшего, фактически, всеобщую мобилизацию) вызвало гримасу неудовольствия неоконсервативной когорты. В деле обеспечения своего выживания инструменты, созданные для других целей, не помогают. Помогает новообретенная, нововозвращенная вера в себя, односторонние действия лидера.
Министр обороны США Д. Рамсфелд поставил стоящих в замешательстве союзников на место: «Проблемы определяют формирование коалиции, а вовсе не коалиции определяют наиболее актуальные проблемы». Главной такой идеей стало нанесение предваряющего удара по странам, потенциально способным создать инструмент насилия, который может быть использован в террористических целях против Соединенных Штатов, и распространить американские ценности по всему миру.
ПравоОбъявлена войну терроризму – огромному, страшному, многоликому явлению. При этом жертвой Сентября стало, прежде всего, международное право.
Обобщенно можно сказать, что международное право, начиная с XVII в., базируется на двух принципах – национальный суверенитет и равенство всех наций перед законом. Оба эти принципа были жестко проигнорированы Соединенными Штатами.
Непосредственно после атаки 11 сентября государственный секретарь США Колин Пауэлл провозгласил, что США находятся «в состоянии войны» с терроризмом. Провозглашение войны — юридический термин. И не самый удачный в данном случае: ведь так же можно объявить войну преступной уголовной деятельности или торговле наркотиками. Подобные антисоциальные действия могут быть ослаблены, уменьшены в объеме, но их невозможно «победить», искоренить полностью. Обычно другие страны действия, подобные американским после 11 сентября, называют «чрезвычайными операциями» (или как-то иначе), но не «войнами». Здесь терминология означает многое. В случае чрезвычайных операций главная ответственность передается разведывательным органам и полиции, которым придаются чрезвычайные полномочия – а там, где это необходимо, придаются войска. Задачей провозглашается изоляция террористов от основной массы населения, изоляция их от источников снабжения. Но террористам в обычных случаях не придается статус стороны, ведущей регулярные военные действия. Они объявляются преступниками уголовного характера и отношение к ним соответствующее. Как полагает англичанин М. Хоуард, «террористов не следует облагораживать приданием статуса ведущей войну стороны. Они преступники и должны рассматриваться обществом и властями как таковые. Объявлять войну террористам, или еще более безграмотно, терроризму, означает придать террористам статус, которого они не заслуживают, но которого жаждут. Это что-то вроде их легитимизации»[62]62
60 Howard M. What’s in a Name? How to Fight Terrorism («Foreign Affairs», January-February 2002, p.8).
[Закрыть].
Если они – сторона, ведущая военные действия, значит, с ними нужно и обращаться соответственно. Что еще важнее, пребывание нации в состоянии войны создает своего рода общественный психоз – противоположное необходимому для искоренения терроризма как зла состояние общества. Возникают совершенно ненужные ожидания и требования; публика требует четко обозначить противника. И лучше всего, если им будет некое враждебное государство. Неважно, если это не соответствует истине. Отныне использование силы видится не крайней мерой, а именно самой первой – и чем раньше будет применена сила, тем для публики лучше. Органы массовой информации требуют детального освещения происходящего. Отставные военные возникают на экранах с картами и графиками. Любое предложение ослабить применение грубой силы вызывает бурю негодования. Сторонники такой линии подаются как «соглашатели». В результате качества, необходимые для успешной борьбы – строгая секретность, простор деятельности специальных служб, а главное – бесконечное терпение – немедленно забываются под давлением гонки за непосредственным результатом.
Еще неудачнее, с точки зрения международного права, выступил президент Дж. Буш с призывом «крестового похода против зла». Вместо полицейской операции возникла декларируемая как настоятельная необходимость в создании коалиции держав, возглавляемых Соединенными Штатами. А вовсе не о полицейской операции под флагом ООН, действующей от лица мирового сообщества против преступных действий группы лиц, которых ждет международный суд. Американцы поддались эмоциональному порыву. Для них в происшедшем – не преступление против человечности, а атака на Соединенные Штаты. Страна ждала катарсиса. Мщения. Ответного удара. Ликвидации опасности. Но не восстановления справедливости.
Но несколько иного ждал остальной мир. Прежде всего, исчезла общая точка зрения. Как пишет американский исследователь М. Хирш, «вместо общего видения будущего, мир получает боевые приказы от Буша; в результате мир все менее склонен следовать этим приказам, особенно в том случае, если Соединенные Штаты начнут крупномасштабную превентивную акцию против таких государств, как Ирак»[63]63
61 Hirsh M. Bush and the World («Foreign Affairs», September/ October 2002, p. 23).
[Закрыть]. (А если завтра Индия нанесет превентивный удар по Пакистану?) Можем только изменить цель: Ирану; Сирии, КНДР?
Вместо битвы за умы и сердца людей началось соревнование в военной эффективности. А страдающей стороной выступила деятельность разведывательного сообщества, без успешной деятельности которого борьба с терроризмом принципиально не может окончиться успехом. И потом. Тот, кто в глазах одних – террорист, в глазах других «борец за свободу». А терроризм может быть сокрушен только тогда, когда общественное мнение и внутри страны и за рубежом – поддерживает антитеррористическую деятельность, видя в террористах преступников, а не героев. Весь прежний немалый опыт показывает, что террористы начинают побеждать, когда им удается спровоцировать противостоящие власти на применение против них регулярных вооруженных сил. Когда ситуация для них становится беспроигрышной, они либо ухитряются избежать решающей битвы, либо попадают в нее, погибают и становятся героями, мучениками, жаждущими отмщения.
А рядом уже погибли многие непричастные гражданские лица, и это страшный удар по престижу правительства. Англичанин Хоуард говорит, что это «все равно, что попытаться искоренить рак горящим факелом. Какими бы ни были военные оправдания бомбардировок Афганистана, неизбежные сопутствующие потери резко ослабят огромный моральный подъем, последовавший за террористическими атаками против Америки… Причиненные ими жестокости так или иначе уйдут в глубину памяти, а вот каждое новое телевизионное изображение разбомбленного госпиталя или сделанных калеками детей, выброшенных из своих домов беженцев будут усиливать ненависть и рекрутировать в ряды террористов»[64]64
62 Howard M. What’s in a Name? How to Fight Terrorism («Foreign Affairs», January-February 2002, p.11).
[Закрыть]. И порождать сомнения в противоположном лагере. И предоставляют деятелям типа бен Ладена платформу для глобальной пропаганды. Или делают из него мученика и идола для миллионов. В любом случае проблема терроризма оказывается неверно оцененной и неправильно решаемой.
Но напомним еще раз о юридической стороне дела. Провозглашение войны означает противодействие некоему государству. И сегодня уже не звучит апелляция к международному праву, к господству закона. Разговор о сокрушении государств и снятии ограничений на внеюридическое преследование может соответствовать эмоциональному порыву, но это бумеранг, он возвращается. Если подорвать созданную преимущественно Соединенными Штатами систему международного права, то что станет ее заменой? Ряд даже американских юристов и историков полагает, что «незамедлительный выбор Америкой войны не совпадает с принципами международного сообщества, которые требуют отвечать на международные угрозы – включая революционные, подрывные, террористические атаки на ту или иную страну – руководствуясь не старым принципом lex talionis (око за око), но посредством организованных действий международных организаций. Подобные акции, включая легальные, моральные, дипломатические, военное давление, рассчитаны на то, чтобы «предотвратить возможный кризис от эскалации в войну и, если это возможно, найти решение, приемлемое для всех сторон с легальной, юридической точки зрения… В данном случае немедленное объявление войны терроризму может рассматриваться как несдержанная риторика на потребу дня, а вовсе не как тщательно продуманное решение»[65]65
63 Schroeder P. The Risks of Victory. An Historian’s Provocation («National Interest», Winter 2001/02, p.28).
[Закрыть].
Запад, вместо закрепления благоприятствующей ему системы международных отношений, позволил себе систематическое нарушение мировой упорядоченности. Решающий шаг в сторону от господства международных норм был сделан весной 1999 г. нарочитым односторонним натовским актом– бомбардировкой суверенного государства Югославии. Диктат закона заменила пресловутая целесообразность. В апреле 2001 г. (значительно раньше предсказывавшегося срока конфронтации с Китаем) США, вместо извинений после сбитая китайского самолета, приступили к давлению на КНР, придавая тем самым респектабельность односторонним действиям, неподчинению коллективным международным нормам. Американское правительство в последнее десятилетие сделало на внешней арене много такого, против чего американское население, безусловно, восстало бы, имей эти действия место на внутренней арене. Напомним о действиях в отношении Панамы, Гаити, Сомали, Судана, Югославии, Афганистана. Словесно отвергая возможность наказания до суда, Запад стал бомбить Афганистан, основываясь на косвенных доказательствах, наказывая до предъявления доказательств.
Тот факт, что террористы нарушают фундаментальные нормы цивилизованного общества, еще не означает, что цивилизованный мир должен реагировать подобным же образом. Ведь претензия на цивилизованность – это показ, что мы поступаем не как террористы. Это вовсе не означает прощения или оправдания, но это первый реальный шаг в сторону от повторения будущих нападений, в направлении их предотвращения.
Даже в трагических условиях после сентября 2001 г. США отказались создать Международный суд и отвергают международное Соглашение по запрету использования биологического оружия. США отказались ратифицировать протокол Киото; отвергли позитивную значимость договора по ПРО и в декабре 2001 года вышли из этого договора; не признали юрисдикцию международного суда в Гааге; постарались поставить Североатлантический Союз вне и над системой ООН; уменьшили уровень международной помощи – создавая тем самым респектабельность односторонним действиям, неподчинению коллективным международным нормам.
П. Шредер полагает, что «даже успешная кампания максималистского типа, направленная на другие, предполагаемые террористические государства, может принести огромный ущерб международной системе, вызвать обращение к односторонности и превентивному использованию силы… Сравнение 2001 года с 1914-м должно заставить нас глубже задуматься над судьбой международного права»[66]66
64 Schroeder P. The Risks of Victory. An Historian’s Provocation («National Interest», Winter 2001/02, p.29).
[Закрыть]. Праву в таком мире не будет места. Если Запад во главе с США не сумеет придать новой жизни – и солидарности глобальным международным организациям, попытается идти собственным путем, не сообразуясь с волей огромного большинства мирового населения, конфликт с не-Западом практически неотвратим.
«Создание широкой коалиции может успокоить Америку в том отношении, что она не одна в исламском мире. Удары по Афганистану – самое простое из возможного, гораздо менее сложное, чем решать проблемы в Персидском заливе и Египте… Но среди тех, кто обрушился на башни из стекла и стали, кто нанес удар по Пентагону, нет афганцев. Эти пришли из арабского мира, где антиамериканизм принимает отчаянные формы, где террор действует с молчаливого одобрения мужчин и женщин»[67]67
65 Fouad Ajami. The Sentry’s Solitude («Foreign Affairs», November/December 2001, p.15).
[Закрыть].
Империя – это форма правления, когда главенствующая страна определяет внешнюю и, частично, внутреннюю политику всех других стран. Республиканской администрации Дж. Буша-мл. не хотелось сразу расставлять акценты и однозначно называть свою политику имперской. Невозможно говорить об империи в классическом виде – эмфатически утверждает советница президента Буша по национальной безопасности Кондолиза Райс. «У Соединенных Штатов нет территориальных амбиций и нет желания контролировать другие народы». Подобным же образом и президент Буш открещивается от предлагаемого лозунга: «У нас нет территориальных амбиций, мы не стремимся создавать империю».
Примечательный уход от определения империи – никак не разделяется теми, кто не считает зазорным называть явления своими именами, кто энергично и открыто обеспечивает идейную подоплеку односторонней политики. Для таких идеологов как Чарльз Краут-хаммер, для издателя неоконсервативной «Уикли стандарт» Уильяма Кристола, для популярного ныне аналитика Роберта Кэгена и заместителя министра обороны Пола Вулфовица – в имперских орлах, в имперском влиянии, в самом слове империя нет ничего, что заставляло бы опускать глаза. Как написал Уильям Кристол, «если кто-то желает сказать, что мы имперская держава, ну что ж, очень хорошо, мы имперская держава». Среди тех, кто все более свободно оперирует этим термином, есть и умудренные историки – к примеру, Джон Льюис Геддис: «Мы (США) – определенно империя, более чем империя, и у нас сейчас есть мировая роль».
В послесентябрьской Америке понятие «имперское мышление» сменило негативно-осуждающий знак на позитивно-конструктивный. И ныне даже такие умеренные и солидные издания, как «Уолл-стрит жорнэл» и «Нью-Йорк тайме» впервые за сто лет заговорили об империи, имперском мышлении, имперском бремени не с привычным либеральным осуждением, а как о реальном факте исторического бытия. Изменение правил политической корректности ощутили на себе редакторы бесчисленных газет и журналов повсюду между двумя океанскими побережьями. Ведущие американские политологи триумфально возвестили, что «Соединенные Штаты вступили в XXI век величайшей благотворно воздействующей на глобальную систему силой, как страна несравненной мощи и процветания, как опора безопасности. Именно она будет руководить эволюцией мировой системы в эпоху огромных перемен».
Теоретики могут выступать за или против империи, но все они уже свободно пользуются этим термином – от политического правого фланга до левого, от Майкла Игнатьева и Пола Кеннеди до Макса Бута и Тома Доннели. Именно это и наиболее примечательно; все участники дебатов знают о чем идет речь. И речь идет не о традиционных темах распространения влияния по всему миру. Речь совершенно определенно идет о принуждающей внешней политике, об использовании вооруженных сил США на глобальных просторах, на всех материках и на всех океанах.
Даже самые хладнокровные среди американских идеологов приходят к выводу, что «Соединенные Штаты занимают позицию превосходства– первые среди неравных — практически во всех сферах, включая военную, экономическую и дипломатическую. Ни одна страна не может сравниться с США во всех сферах могущества, и лишь некоторые страны могут конкурировать хотя бы в одной сфере».
Взлет имперских орлов сделал классическую историю популярной наукой. Обращение к Римской и Британской империям за несколько месяцев стало захватывающим чтением, изучение латинского языка вошло в моду (даже «Гарри Поттер» переведен на латинский язык) и приобрело новый смысл. Буквально повсюду теперь в республиканской Америке можно найти статьи о положительном воздействии на мир Паке Романум, подтекст чего не нужно никому расшифровывать: новая империя пришла в современный мир, и мир должен найти в ней признаки и условия прогресса. Парадокс эволюции американской демократии: Паке Американа изживает (по крайней мере, для американцев) свой негативный подтекст.
Посетившие Вашингтон после Сентября иностранцы в один голос указывают на новую ментальность страны, где главное общественное здание – Капитолий, где римские ассоциации сенат вызывает не только как термин, но и как архитектурное строение, где по одной оси расположены пантеон Линкольна, обелиск Вашингтона и ротонда Джефферсона. Менталитет «римских легионов» проник даже в Североатлантический Союз (жалуются англичане) ради жестких односторонних, имперских действий. Вольно или невольно готовилась Америка к этому звездному часу своей исторической судьбы. Посмотрите на архитектуру основных зданий Вашингтона, обратите внимание на название государственных учреждений: сенат,
Верховный Суд; не упустите факта колоссальных прерогатив принцепса, именуемого в данном случае президентом. Не упустите того факта, что согласно американской конституции внутреннее законодательство и конгресс стоят выше международного законодательства и международных институтов.
Создается «неоимперское» видение, оставляющее за Соединенными Штатами право определять в глобальном масштабе стандарт поведения, возникающие угрозы, необходимость использования силы и способ достижения справедливости. В такой проекции суверенность становится абсолютной для Америки, по мере того, как она все более обуславливается для стран, которые бросают вызов стандартам внутреннего и внешнего поведения Вашингтона. Такое видение мира делает необходимым – по крайней мере, в глазах приверженцев этого видения – видеть новый и апокалиптический характер современных террористических угроз и обеспечить беспрецедентное глобальное доминирование Америки. Эти радикальные стратегические идеи и импульсы, как это ни странно, могут изменить современный мировой порядок так, как того не смогло сделать окончание холодной войны.
«Мыслительные центры» столицы новой империи – Вашингтона с готовностью обсуждают стратегию односторонних действий по всему мировому периметру. Прежде республикански сдержанная «Уолл-стрит джорнэл» находит благосклонную аудиторию, когда пишет: «Америка не должна бояться свирепых войн ради мира, если они будут вестись в интересах «империи свободы». Все это означает, что Америка действует без оглядки на других. Международные соглашения типа «протокола Киото» являются жертвами представления о неподсудности американцев никому кроме собственных национальных учреждений. Сенат США, в частности, не ратифицировал «Конвенцию экономических и социальных прав», «Конвенцию искоренения дискриминации в отношении женщин», «Конвенцию прав детей», участие в «Международном уголовном суде»; против «протокола Киото» вместе с президентом Бушем выступили 95 американских сенаторов. Многие проводят линию на наличие в американской истории давней и неистребимой традиции «американской исключительности». Гарвардский профессор Э. Моравчик: Америка, стабильная демократическая, идеологически консервативная и политически централизованная, является сверхдержавой и может обходить обязательные для всех правила и законы.
Мировая история подсказывает: США не преминут воспользоваться редчайшей исторической возможностью. В этом случае главной геополитической чертой мировой эволюции станет формирование однополярной мировой структуры. Америка прилагает (и будет в обозримом будущем прилагать) огромные усилия по консолидации своего главенствующего положения. С этим выводом согласны наблюдатели за пределами страны-гегемона, да и сами американские прогнозисты: «Соединенные Штаты сознательно встанут на путь империалистической политики, направленной на глобальную гегемонию. Они умножат усилия, выделяя все более растущую долю ресурсов на амбициозные интервенции в мировом масштабе». Свернуть с этой дороги пока не сможет ни один ответственный американский политический деятель, любой президент должен будет опираться на массовое приятие страной своего положения и миссии. Уже сейчас высказывается твердое убеждение, что «еще не одно поколение американцев будет готово идти этой дорогой: тяжело отказываться от всемогущества».
Проконсулы докладывают из провинций о завершении военных операций. Тацит, историк имперского Рима, почувствовал бы себя в своей тарелке.