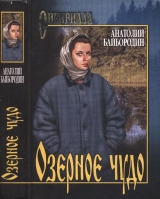
Текст книги "Озёрное чудо"
Автор книги: Анатолий Байбородин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Степан, по сельской приваде, по-соседски величавший Иго-рюху зятьком, Ленкиным женишком, не сходу, а признал соседского парня, но руку не совал…обжёгся в городе… и ждал: пусть первый подходит, – помоложе, поди ноги не отвалятся. Но парень не подошёл, не поздоровался, и обиженный Степан, переговоривший за долгую дорогу со всеми попутчиками, словно и не замечал Игоря, огибал парня взглядом.
Автобус, взявший на крутом спуске разгон, ходом проскочил поля и покосы, выбежал к поскотинной городьбе[30]30
Поскотинная городьба – жердевое ограждение, отделяющее село или деревню, а также пастбища для скота от полей, засеянных зерновыми или травяными культурами, чтобы скот не потравил посевы.
[Закрыть], к широким воротам, над которыми уныло и ненужно обвисало в безветрии полотно, так застиранное дождями и выжженное солнцем, что из красного обратилось в белое, и теперь можно было лишь догадаться, что некогда полотно белым по красному кланялось всякому пришлому: дескать, здравствуйте, проходите хвастуйте, а ныне, как в припевке: «самолет летит, колеса стерлися, а мы не ждали вас, а вы приперлися».
Впрочем, и от ворот остался лишь помин: среди размётанных прясел жердевой городьбы упирались в небо чёрные, иссечённые глубокими морщинами, сиротливые вереи[31]31
Вереи – столбы, на которые навешивались ворота.
[Закрыть], пожеванные снизу гнилью, отчего похожие на тонконогие поганые грибы. Но Игорь-то помнил дородные листвяничные столбы-вереи и одностворчатые ворота, сколоченные из добела ошкурённых жердей, которые захлёстывались кожаной петлей-удавкой, чтобы скот не проходил за поскотинную городьбу и не травил хлеб. За потраву хозяев штрафовали. Обычно ворота открывали и закрывали за собой сами путники, проезжающие про тракту от Верхнеудинска на Читу, но иногда – деревенские мальцы-удальцы. Широко распахнув ворота, бежала босоногая братва в непроглядном пыльном тумане вслед за машиной и орала ли-хоматом, требуя с шофера мзду. Иные прокатят мимо, даже не ворохнувшись в кабине, иные кинут копейку-другую, и огольцы, усмотрев их падение, кинутся сломя голову в придорожную пыль и полынь, совьются в кучу-малу, нашаривая медь в траве. А там уж найдут, не найдут либо втопчат в пыль – как уж получится, что уж Бог даст.
Игорь припомнил с грустью и запоздалой, хвастливой утехой: нередко он, змеем вывернувшись из кучи-малы, сосал во рту ме-дяк, горчащий притрактовой пылью…во рту надёжнее… и, сжимая костлявые кулачки, ждал: подходи, кто храбрый… Переминаясь с ноги на ногу, исподлобья зыркая на Игорёху запорошенными глазами, мальцы попускались копейкой, хотя вся добыча шла в братчинный котел. Отступали – с Игорюхой…психопат… лучше не связываться, – и караулили другую машину или конную повозку. Отступали, потому что в памяти не стирался, обмерши перед глазами, страшный случай, когда Игорюха едва не задушил Ванюшку Краснобаева, который начал было силком разжимать побелевшие Игорюхины пальцы, прячущие медяк. Едва разняли их перепуганные ребятишки, с горем пополам сволокли бешеного Игорюху с Ванюшки Краснобаева, который уже хрипел, выкатив налитые кровью глаза. А копейку тогда посеяли в придорожной полыни…
Пластались за медяки азарта ради, потому что добытые гроши, хвастаясь друг перед другом добычей, ссыпали в братский котел, и на выручку брали в лавке халву или конфет-подушечек, прозываемых дунькиной радостью, и потом важно, заработанно посасывали нечаянную радость. Игорёха же…ныне припомнилось с мимолетной досадой… бывало и утаивал копейки, после чего, отбившись от мальцов, покупал халвы, спускался к озеру, и там, в глухом укроме за перевёрнутой вверх днищем лодкой, съедал халву мелкими крохами, запивая ее озёрной водицей. Лишь иногда делился с Маркеном Шлыковым, первым варнаком на всё село, – его Игорюха уважал, тот его, случалось, оборонял от драчливой братвы. Случалось, угощал и Ленку Уварову, кою отец ее, деревенский балагур, смехом пророчил Игорюхе в жены.
Поплыли мимо крайние от городьбы, старенькие, белёные и чёрные избёнки, столь убогие и ветхие, отчего не верилось, что в них люди живут, нежно любят, плодятся, растят чадушек; в эдаких хибарах, казалось, лишь брагой упиваться да вусмерть драться. Автобус осадился подле длинного, слепого без окон и отдушин, древнего амбара, по замшелую, буро-зеленую кровлю вросшего в землю и задавленного бедой-лебедой и буйной крапивой; подле амбара рылась вислобрюхая чушка, – эдакая гора сала, а вокруг чушки, тревожно похрюкивая, суетились чумазые поросята. Матка, задрав сухую дернину, пробуровив среди лебеды широкую просеку, уже напахала работящим рылом пашню и нынь подрывалась под замшелый амбар. А за амбаром зеленела огромная, заплесневелая лужа, где, блаженно пыхтя, возился другой выводок.
«Вот моя дерёвня….» – усмехнулся Игорь. Не деревня…тут о благую пору и церковь жила… не поселок, а село, из городского далека нарождалось в полусне-полуяви с избами сосновыми, словно кружевными шалями, укрытое затейливой резьбой, с пастушком, на кривом рожке играющим зарю, с девами волоокими, синеглазыми и крутобокими, с коровёнками, закрутившими под пастушеский рожок весёлый хоровод. Иное встретило Игоря село: дряхлое, расхристанное, смертельно усталое.
IVЗнойное марево тихо пало на иссохшую, сморённую землю, и над селом выстоялся прохладный и синеватый, покойный вечер; смущённо зарделись избы в закатном свете, на потаённо темнеющих окнах запалился и взыграл румянец, отчего даже кривень-кие, ветхие хибары, словно вымершие в зной, сейчас ожили, омолодились и принарядились.
В предночном покое слышалось и чуялось дыхание большого озера: по отмашистым и голым степным улицам веял прохладный и влажный ветерок, пахнущий илом, тиной и рыбой. Иссякал сухим зноем июль-сенозарник; село обезлюдело – все, кроме старых и малых, косили сено, гребли и ставили зароды, поспевая до Ильина дня, – после Ильи-громовника могли зарядить сеногнойные дожди. Говаривали досельные старики: де, сбил сенозор-ник у мужика мужичью спесь, что некогда и на печь лечь; а баба плясала бы, плясала, да макушка лета настала – подоткни подол и поли картошку, моркошку, собирай грибы – лешевы харчи. Пастбища, сенокосные угодья при том благом лете – в буйном разнотравье, разноцветье; и вспомнилось Игорю – под кукушечье кукование поспевает на сухих солнопечных угорах земляника, зреет голубика, черника, калина, малина; а в тенистых лесах, среди мхов и трав, высыпают грузди, маслята, подосиновики, подберезовики и белые грибы. Мать сыра земля с Божьей помощью, по праведным трудам мужиков и баб рожает первые плоды или уж ясно сулит; колосятся и цветут яровая пшеница, ранняя гречиха, рожь, а и жатва уже не за горами. А пока моросят слепые – при солнышке – грибные дожди, вечерами азартно и любовно играют зарницы, а теплыми ночами высыпают звезды, словно Сеятель Небесный широко и вольно метал золотистое зерно по небесной ниве.
Игорь сроду не забывал село, хотя прожил на берегу степного озера лишь до пятнадцати лет; в шестьдесят пятом отец, рыбзавод-ской бухгалтер Лев Борисович Гантимуров, увёз семью в город, и деревенское отрочество Игорюхи кончилось, вышло из души, осталось бесприютно витать над стареющим селом и мелеющим озером. Когда после слезливых причитаний матери, после ругани отца, переживающего за увязанный в кузове скарб, машина наконец тронулась, когда изба стала уплывать назад, в прошлое, Иго-рюхе, сидящему в кузове на мягких узлах, явственно привиделось: в калитке мелькнул белой майчонкой он сам, Игорёха, маленький-маленький, перевалисто ковыляющий на кривых толстых ножонках; потом он увидел себя, смирно сидящего на лавочке подле от-суленной невесты Ленки Уваровой, наконец – возле поскотинной городьбы, среди дружков, открывающих ворота, и всё – детство скрылось за синим таёжным хребтом.
Оттого ли, что отец слыл книгочеем, да и мать учительствовала в малых классах, что и сам Игорюха с отрочества пристрастился к мудрёному чтиву, превыше всего почитая приключенческие и любовные романы, но слишком быстро…диву давались… пере-ладился парнишка из деревенского в городского; и ему льстило, когда городские приятели сомневались, что он рос в деревне. И, кажется, озёрное, степное и таёжное детство вместе с деревенскими улками и переулками спеклось в асфальтовой духоте, раструсилось на горсадовской танцплощадке; но вдруг… вдруг на исходе юности властно народилось, гоном погнало в забайкальскую глухомань, словно село могло развеять до срока приступившую тоску и пустоту, хотя с детства и глаз не казал в родных краях.
VВыехав на середину десятивёрстного села, изогнутого дугой вдоль озера, автобус круто развернулся возле столовой, давно небелёной, обшарпанной, в дождевых подтёках. На столовском крылечке, выпячиваясь из деревенского народа, постаивал приземистый бугай, в полосатом тельнике и резиновых броднях-болотниках, рядом крутился приблатнённый, бичеватый парень – высокий, тощий, в линяло-голубом, обвислом спортивном трико с закатанными до колен гачами, в стоптанных кедах. Когда Игорь, поправляя на плече ремень чёрной дорожной сумы, вышел из автобуса и с невольным вызовом, дерзко глянул на бугая, тот хмуро всмотрелся в городского хлыща из-под сурово сведённых бровей и даже шагнул встречь… но тут, слава богу, выскочили девчушки, Аришка с Нюшкой, и парень, оттеплев глазами, раскачисто пошёл к ним, подгребая рукдми, словно рыбьими плавниками. Игорь повеселел, глядя на походочку, что в море лодочка, и даже ёрнически спел про себя блатной куплет: «Он подошел к нему походкой пеликана. Он вынул ножик из жилетного кармана. И так сказал ему, как говорят поэты: – Я вам советую беречь свои портреты…»
Выбрался с огрузлым, рогожным кулём и Степан Уваров.
– Здорово, батя, – крикнул парень в тельнике.
– Здорово, Миха, ежли не шутишь, – бережно поставив куль, отозвался батя.
– Приехал?
– Не, в городе остался…
– А мы тебя завтра ждали?
– А я-то обрадел, – думал, в кои веки сынок встречает, – подмигнул Степан девчатам.
– Это чо, батя, глаз-то в городе засветили? – нахмурился Миха, разглядывая синяк под отцовским глазом.
– Пусть не лезут.
– Ясно, что дело тёмно. Иди в машину, счас поедем. Пилу-то купил?.. «Дружбу»?
– Купил, купил, – Степан похлопал по рогожному кулю. – «Дружба». Неси в машину.
Миха, словно пушинку, закинул куль на горбушку и, поманив Нюшку с Аришкой, ещё раз боднув Игоря ничего доброго не сулящим взглядом, потопал с девчушками по тракту. Нюшка и Аришка напоследок тоже оглянулись на попутчика, что-то веселое сказанули парню…явно про Игоря… и тот загоготал, словно гусь на вешней проталине.
«Кретин!.. – сжав зубы, ругнулся Игорь, убавил ход, чтобы переждать и не идти у парня на запятках; впрочем, компания тут же свернула в проулок, где их поджидала бортовая машина. – Шариков! – прибавил Игорь, вспомнив полупса, получеловека, вычитанного в жестокой повести, истрепанные, зачитанные до дыр машинописные листы которой бродили по рукам студенческой шатии. – М-да, землячки… Ходи и оглядывайся, а то мигом рога обломают. И не посмотрят, что земляк… Жлобина… «Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы…»
Поругивая город «…содома и гоморра, блуд и плут…», прошёл с мужиком Степан Уваров и тоже свернул в проулок, где, кряхтя, полез в кузов машины. Там уже посиживали Нюшка с Иришкой. Игорь смекнул, что машина сейчас утортает народец вместе со Степаном на большую рыбацкую заимку, прозываемую Яравна; догадавшись же, пожалел, что не разговорился с бывшим соседом, не выведал про дочь, потому что таилось празднично волнующее предчувствие: здесь Лена, здесь она, – если не в селе, то на рыбацкой заимке Яравне, куда, Игорь слышал от матери, Уваровы давно укочевали.
«Ну ничего, – смирил себя Игорь, – ничего. Ещё не вечер, ещё не ночь… Денёк в селе покручусь и махну в Яравну». Потайные грешные мысли обогрели, увеселили душу.
И поминулось вдруг: когда Гантимуровы укочевали в город, Игорюха с Леной слали друг другу ласковые письма, куда он…смешно и срамно вспомнить… совал конфетные обертки-фантики, а деревенская подружка – засушенные степные саранки, ромашки и лепестки озерных кувшинок. Потом Игорь, закрутившись в омутных страстях, однажды не отозвался на девичий привет, и переписка завяла, свернулась листьями, опала цветом, словно букет саранок в крынке, где высохла вода.
VIТопая в заежку на ночлег, миновал школу, прозванную цыплятником, где учился в малых классах. Старшие классы кочевали через дорогу в двухэтажку, похожую на корабль, севший на мель.
Цыплятник… Рубленая из матерого листвяка и сосняка, ныне темного и морщинистого, глазеющая трещиноватыми, седыми торцами, школа, похожая на приземистый барак, не показалась смельчавшей, как случается после долгой разлуки с родным уго-жьем; школа не умилила, не взволновала: видения отчужденно мелькнули и угасли. Игорь усмехнулся довременным городским волнениям; родилась досада от убожества школы: выщербленный, дырявый штакетник палисада, трухлявые нижние венцы, полуоторванный ставень, облупленная краска на рамах, чернеющие неуютной пустотой, незашторенные окна, – слепые глаза, из коих вытек свет; шторки-то, вроде, и раньше на окна не вешали– жили не до жиру, быть бы живу, но, помнится, словно девы-наряжёны, хороводились на подоконниках цветочные горшки, млели на солнышке краснокорята с иранками, петушки с вань-кой мокрым, и ещё кудрявилась разная зелень, круглый год живущая подле человека, певуче цветущая даже в рождественские, крещенские и сретенские морозы. Школа теперь хоть и не казалась обмельчавшей, но виделась старухой, неряшливо одряхлевшей, обеззубевшей палисадом и, вроде, никому не нужной.
Школа не разбередила душу, может, и потому, что и однокашники не жаловали – «…нос задирает…», и учителка, хотя и ставила «пятёрки», недолюбливала грамотея, – нечему учить, коль тот…бухгалтерский сынок, не голь перекатная… знал азы, буки и веди ещё до школы; писал без ошибок и помарок и так читал… от зубов отскакивало. А в средних классах на уроках литературы исподтишка, под партой, читал взрослые книги – «…любовь охальная…», зубоскалили огольцы, – а учительница, бывало, спросит неожиданно: «А напомни-ка, книгочей: революционные идеи в поэме Некрасова “Кому на Руси жить хорошо”?», и парнишка ясно не ответит, но с три короба наплетёт, и голова учительская наряскоряку, кругом идёт. Плетёт мудрец, молодой да ранний, а всё вроде в тему, не прикопаешься; и лишь однажды литераторша растрезвонила по школе, что «умник» обозвал Павку Корчагина дураком. Пропесочили парнишку аж на педсовете, и если б не покаялся, из школы, выперли взашей. Героя большевистского романа «Как закалялась сталь» о ту пору величали на пару с Ильичем. Спустя годы до села дозмеились зловещие слухи… Иван Краснобаев, однокашник и однокурсник, ведал, что Игоря выперли взашей из университета…как ещё за решётку на упекли… когда тот на экзамене по научному коммунизму горделиво и высоколобо заявил: де, семья – узаконенная проституция, что для мужчины, как творческой личности, семья – погибель; недаром, христиане вздыхают: домашние мои – враги мои. После экзамена…не умничай парень… университетский «поплавок» красовался бы на выходном костюме, а корочки журналиста лежали бы в кармане, но Игорю пришлось через год по новой сдавать «коммунизм» и защищать диплом.
…Пред стемневшим и остаревшим лицом школы, припомнилось Игорю вдруг смешное и грешное, как Ленка Уварова, тихая, забитая второгодница, в третьем классе не утерпела и, говоря по-тутошнему, опрудилась прямо на уроке; девчушка перед тем как пустить лужу под парту, боязливо трясла ручонкой, просилась, но училка…варнаки, оторви да брось, обзывали её синепупой, краснопупая учила другой класс… училка как раз распекала обалдуя и отмахнулась от Ленки как от досадливой мошки: дескать, сиди, Уварова, без тебя тошно; вот девчушка и досидела на свою беду-бединушку. Услышал журчание сидящий рядом архаровец, высмотрел лужу под партой и поднял Ленку на смех, после чего и уличный женишок Игорюха зачурался. Девчушка, готовая со стыда сквозь пол провалиться, надумала уж бросить учение…бесово мучение, по словам ее богомольной бабки… да мать силком упёрла в школу.
«А может, Ленка замуж вышла? – тревожно вопросил Игорь. – Выскочила сдуру за вахлака деревенского. Не до старости же девкой куковать… Хотя… муж не печка, можно отодвинуть… А может, укочевала?.. Разлетелись однокашники по городам…» Игорь стал гадать на всякий случай, кого из сверстников и сверстниц ещё помнит, кто из них мог осесть в деревне. «Да нет, здесь она, – то ли чутьё подсказало, то ли Степан Уваров в дороге проговорился, – здесь, с отцом и матерью на заимку подалась…».
VIIНевесело оглядев школу, Игорь тронулся дальше. Густо застроилась середина села, хвастливо красуясь двухэтажными бараками, кои народ дразнил «курятники»; выросли и свежесру-бленные, зашитые тёсом, пёстро крашеные хоромины, но Игорь всё же, не плутая, не блудя, свернул в родной проулок и, миновав кондовые избы, упёрся взглядом в отцовский дом, что и понынь не уступал новодельным теремам.
Торопливые, скользящие поминания затеснились в голове, но тут же съёжились, увяли, и ничто уже не наплывало, не рождалось перед душевным оком, не томило память сладостной болью; и тогда он стал насильно припоминать то, что не сгинуло напрочь в тумане изжитых лет.
На пустоши, где снесли дом, играли в «выжигало» – выжигали мячом игрока из очерченного на земле, вольного загона; здесь же играли в «лапту», в «чижа», а подле бревенчатого забора – в «чеканку», перевертывая шайбами избитые, израненные медяки и серебрушки, которые торговки с ворчанием брали в лавке. Но то копеечные игры, смалу ввергающие душу в смертный грех сребролюбия; а любимые игры тогдашней сельской братвы, будучи сопряжены с грубой силой и болью, сбивали спесь, гордыню, закаляли дух и плоть: в «лапте», «выжигало» так лупили мячиком, что тело деревенело, а в «ремешках» так охаживали солдатским ремешком, что тело горело как на банном полке. Архаровцы на школьных переменах играли ещё в «попу к стенке», пиная ниже спины забывчивого, либо били «чилимы» – оттянутым пальцем щелкали в лоб слабака, и… в ходу была уйма игрищ, потех и забав, где решала сила – ума могила.
А на лавочке Уваровых под черемуховой сенью гуртились – уличные парни с девками; пели до утренних петухов под гармонь игривую, балалайку звонкострунную, а потом и под гитару, разбитную, дребезжащую; миловались, целовались по зауго-льям, заамбарьям; и уваровская мать, тётка Наталья, случалось, вылетала с рогатым ухватом, словно на медведя, и костерила токующую холостёжь: «И до каких пор, идолы, бесится будете?! Вам что, дня мало?! – а приметив, что возле парней и девок азартно крутятся ребятишки – и дочь Ленка, и сын Мишка, – пуще бранилась. – Хошь бы ребятишек постеснялись, бесстыжие. Нашли место женихаться… Ну-ка, дуйте отседова, и чтоб духом вашим не пахло!..» – и тетя Наталья разгоняла гомонливые посиделки.
Повизгивали и верещали обычна девки, – кобылы необъезженные, как обзывала их тётка Наталья, – ойкали и пищали, когда парни, раздухарившись, разыгравшись, под шумок лезли за пазуху, коя у деревенских девок смолоду, что коровье вымя, жаждущее вспоить молоком нарождённое чадо. Помнится, лавку – два врытых в землю чурбака с толстой плахой – вывернули и уволокли от греха подальше в ограду, но парни тут же притащили ошкурённый сосновый кряж. Девкам – подарок… Может, оттого и повадились токовать возле уваровского дома, что влекла густая тень от черёмушника, затянувшего палисад, что в соседях у Степана поспели девы, с лица приглядистые, крепкие, игривые.
Чаще других ребятишек вертелся возле молодых Игорюха Гантимуров, отбегавший в школу три зимы; уж и насмехались над малым, шугали, гнали в шею, ан нет, отчалит, а глядишь, опять под ногами вертится, подслушивает, подглядывает. А потом перед сверстниками похваляется увиденным, привирая для смака, как похвалялся, что лунной ночью…окна не зашторили… подглядел, как мать с отцом смачно целовались, миловались… Бухгалтерскую хоромину в то лето белили и красили, и семейство на лето укочевало в свежесрубленный тепляк, задуманный отцом под летнюю кухню, под заежку для гостей. Родительская кровать и оказалась напротив Игорюхиной, куда малый, допоздна пробегав на улице, тихо улегся. Родители…о ту пору молодые, горячие… прислушались к малому – мирно сопит в две норки, – решили, что сынок дрыхнет без задних ног, и понеслись где рысью, где намётом, но в самый разгар жёнка вдруг почуяла, что любознательный сынок не спит, и насильно утихомирила муженька. Тот осерчало побурчал, успокоился, но залил жёнке срамную байку, ловко пересказанную Игорюхой уличным дружкам. «…Жили мы, Дуся, в бараке. Комнатёшка – ляжет кошка, хвост некуда протянуть. Вроде нашего тепляка… Мать с отцом на кровати, а я, Дуся, – против на раскладушке. Помню, однажды легли спать, отец спрашивает: “Лёва, ты спишь?” Я отвечаю: “Нет”. Отец меня взял и высек. На другой день опять легли спать, отец: “Лёва, ты спишь?” Отвечаю: “Сплю…” Опять высек. На третий день легли ночевать, отец снова спрашивает: “Лёва, ты спишь?”. Я молчу. Отец матери и говорит: «Ну, поехали…» А я спрашиваю: “Куда?..” И снова отец высек меня…».
Может, наглядевшись на обнимания и целования, наслушавшись вкрадчивых шепотков, Игорюха придумал игру в «папу с мамой» и до хрипоты судился-рядился с Ванюхой Красно-баевым, спорил до драки, кому нынче отойдёт в «жёны» Ленка Уварова, поскольку не хотелось брать Томку Смертину, под стать фамилии худющую, синющую, с вечно мокрым, непутево задранным носом. То ли дело Ленка, тёплая, мягкая, сладкая, словно шанюшка творожная, да и в «семейной» жизни оборотистая: без понуканий накормит от живота… крадучись вынесет из дома пирожки с картошкой, либо краюху рыбника… и обиходит, и спать уложит на мягкую травянистую постель под черёмуш-ным пологом, и сама рядышком приляжет и сроду слова поперёк не скажет. Поспорив, ничего лучшего не придумав, «женихи» считались, как в прятках: «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, бес, жидёнок, сапожник, портной, – кто ты будешь такой?., говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей…» Если Томка Смертина выпадала Игорю-хе, то парнишка стращал боязливого Ванюшку, отбивал у тели суженую-ряженую и волок в свой закуток. Обиженно шмурыгая отсыревшим носом, ворча, плёлся и Ванюшка вслед за Томкой в свою избу, – в тёмный угол черёмухового палисада, пенисто, хмельно и яро цветущего в Духов день, когда играет нагулянная и покрытая земля-именинница, когда слышно, как раздвигают её мякоть молодые, упрямые росты.
Может, в игре сей и не таился бы смертный грех, но Игорюха… верно, малой, да гнилой… воровато узревший похоть, куражливо требовал от Ленки, чтобы всё – не понарошку, а взаправдашне, и махонькая жёнушка, трясясь пойманной пичужкой, запоздало сокрушаясь, что поддалась на уговоры, сомустилась на срамную игру, просом просила сходить в гости к Томке с Ванюшкой. А те, легки на помине, уже лезли в их куток. Ленка на манер сельских баб церемонно кланялась, отмахнув рукой у земли, и ради смеха выпевала: «А мы не ждали вас, а вы припёрлися, – потом радушно договаривала. – Здравствуйте, проходите хвастуйте…» «Семейная жизнь» обычно распадалась, едва назрев; никто, бывало, не спугнёт, но женихи и невесты разбегались, переполнившись знобящим страхом, чуя, что игра – поганая, что взрослые, коль прознают, по головке не погладят, осрамят и будут драть нещадно, как Сидоровых коз.
Эдакие срамные, похабные игрища случались лета два, потом девчушки, отучившись в школе первую зиму, вошли в ум, построжали и не поддавались на льстивые уговоры. А ныне, спустя лет пятнадцать, Игорь, в коем отцовское чувство ещё спало беспробудно, да и стыд подрёмывал, не знал верно, как относиться к детским шалостям, а потому никак и не стал относиться, – так легче и проще. Хотя, словно против воли, с неожиданно вспыхнувшим азартом прикинул: «Ныне бы поиграть в “папу с мамой…” – хотел, было, прибавить: «с Ленкой нынешней…», да спохватился, отогнал срамные помыслы. Надеясь на встречу с Ленкой…Еленой Прекрасной, видимо… парень вдохновенно гадал: а не вызреет ли из встречи нечто певучее, красивое, по-величенное страстью?.. Счастливо томящее предчувствие, перемешанное с тревогой, манило парня на рыбачью заимку Яравну, где парнишкой тоже живал, где отпели на озёрном ветру самые счастливые, самые азартные рыбацкие лета.








