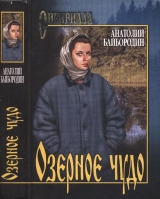
Текст книги "Озёрное чудо"
Автор книги: Анатолий Байбородин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Судача с Оксаной, будто с деревенской кумушкой, Иван отте-плел, прояснел, как небо после моросящего дождя, и неожиданно спросил у себя… или вопрос сам, не облаченно в слова, вспыхнул в нем тихо и неярко: толковал ли отец с ним, маленьким, как он с дочерью сейчас? Чтоб душа в душу… Ничего похожего не вспомнилось, как ни тужил Иван воспаленную память, уводя ее в глубь малолетства, и уж засвербила душу обида на отца, застилая глаза степной ветреной мглой, среди которой Ванюшка был так одинок и так бесприютен, что хотелось плакать от жалости к самому себе… Тут он почуял, что дочь требовательно дергает, теребит его за рукав.
– Пап, а пап!.. Ты, как тетеря глухая. Говорю, говорю, а ты не слышишь… Дедушка тебя маленького ругал?
– Отец-то мой?.. Руга-ал, и гонял, бывало… За дело, конечно. Варнак-то я добрый был. Ежели во дворе что худо лежит, у меня уж башка болит, как бы спереть. А на улице, бывало, ребятишки и выманят. Но отучили: отец таской, мать лаской. Старшие братья подсобили… Да мало гоняли, надо было как Сидорову козу сечь, толк бы вышел, теперь бы покрепче жил, дурью не маялся… К порядку-то отец приучал, но…
Иван недомолвил, что отец с братьями привадили малого внешний порядок блюсти, но про душу не думали, и… чуть взы-грала отроческая кровь, заросла душа, не ведающая страха Божия, дурнопьяной травой, как одичалое волчье поле.
– А в угол дедушка ставил тебя? – пытала Оксана.
– Всяко бывало… – вздохнул Иван, слыша дочь издалека своего детства, не видя ее, потому что взгляд пристально и мучительно озирал детские видения, пытаясь отыскать тепло-желтое, сдобренное тихим закатом, где бы отец и маленький Ванюшка судачили вот так же, как он с дочерью сейчас, ради самого разговора, чтобы в мало значащих словах, через сам отмягший голос, через смущенные взгляды излить друг другу распирающую до нервной тряски, нежную жалость и почуть счастливое слияние душ в любви.
* * *
Перед взором, обращенным в малолетство, привиделась лодка-плоскодонка, вкрадчиво скользящая по тихой и линялой, предзакатной воде. Вот они отцом кинули сетешки, – три конца, вытянув их вдоль прибрежной листовой травы, там-сям белеющей цветами кувшинками.
– Щучка-шардошка рыбу пужнет, а та из травы ка-ак шура-нет, да сослепу пря-омо в наши сети и угодит, – рассуждал отец, натаскивая рыбацкому промыслу восьмилетнего Ванюшку.
А поставили сети далеко от деревни, на другом краю озера, против истока, соединяющего два неоглядных озера, похожего на сказочную, глухо и высоко заросшую камышом и талиной сонную речку. Лишь подвязали к верхней тетиве деревянный маячок, тут же и решили проверить, – надо убедиться, что сети не легли на траву, не перекрутились в жгут, – и сразу же выпутали с дюжину ладных окуней и серебристых чебаков, сдуру залетевших в ячеи. Потом Ванюшка веслился, азартно косясь на лопа-тистых чебаков и отборных окуней, знобно дрожащих красными перьями, нет-нет да и лихо выплясывающих в сухом, дожелта промытом отсеке. Отец посиживал на корме, правил легонькой, ловкой кормовушкой и с надеждой на рыбацкий фарт, довольно оглаживал подбородок, поросший быстрой щетиной. Сдвинув на затылок черную полувоенную фурагу, любовался розовеющей, будто усыпанной цветочными лепестками, закатной рябью, оглядывался на отмельную траву, где лодка оставляла извилистый след. Потом отец засмолил толстую самокрутку, опахнул Ванюшку махорочным дымом, таким вкусным и уютным среди сырого, по-вечернему зябкого озера и, уже не в силах совладать с азартом, до времени запаленным первой удачей, сулящей улов, чему-то подсмеивался, нервно косил глазом и даже вроде подмигивал Ванюшке.
Обычно неговорливый с сыном, тут отец помянул:
– Да-а, сколь мы тут с тятей переудили, кто бы знал… Но ши-ибко был сердитый, Царство ему Небесное… Маленький, помню, был, навроде тебя, и мы тут сетями исток перегородили, – он тогда шире был… Я потихоньку веслился, а тятя рыбу выпутывал. И чо-то зазевался, лодку на сеть и занесло…Не успел я и глазом моргнуть, как тетя меня по хребтине и вытянул мокрой кормовушкой. И не заревешь – еще отпочует…
Ванюшка – в пионеры наладился… набравшись храбрости, спросил:
– А сетями, папка, ловить разрешается?
Нахмурившись, отец тут же с вызовом ответил:
– Спокон веку жили мужики на озерах и реках, гребли рыбеху и сетями, и бродниками, а рыба не убывала. Теперичи рыбакам прижим, а рыбы с гулькин нос. Почему?.. Да потому, что нагородили по озерам, рекам заводов да фабрик, нерестилища угробили, фугуют всякую заразу в воду, морят рыбу, а на рыбака сваливают, браконьером обзывают. Бьют Фому за Еремину вину.
Ванюшка, весь подавшись к отцу, замирал, веслился старательно, без всплесков, чтобы не пропустить ни одобрительного взгляда, ни словечушка… в кои-то век беседуют… чтобы не порушить вечерний, смуглый искрасна, ласковый покой… И эдакий ладный разговор не иссяк и на песчаном, тальниковом берегу, где в синеватых сумерках жарили окуней на рожнях, долго пили чаек, прикусывая сахар, который отец наколол рыбацким ножом с набранной из бересты, прикопченной рукояткой. Догорал на черных вершинах хребта желтовато-розовый, чистый закат, суля ясное утро; чуть шаял углями костерок, бросая красноватые отблески на закопченную манерку с чаем; дотлевал вместе с костром и разговор отца с сыном.
– Лишь бы, папка, утром не заморочало, – подлаживаясь к отцу, печалился Ванюшка. – Ветер бы не подул…
– Закат ясный, – Бог даст, постоит тихо, и рыба не уйдет мористей, у берега будет играть, в траве. И, может, подфартит, недаром сетешки намочим…Чайки кружат, фарт сулят… Мы вот так же с тятей ставили сети под этим берегом… в первый раз на рыбалку взял… и рыба прямо задавила сети. Выбирали, выбирали, полны отсеки накидали, лодка осела по самые уключины, – того гляди, черпанет бортом, – пришлось вторую ходку делать к сетям… Помню, тятя все приговаривал: «Но, Петруха, комар тя забодай, талан тебе попер, ишь как мне с тобой поддуло!.. Рыба-ак, едренов корень…»
С тающим предночным светом иссяк и разговор. Чернь укутала тальники, но месяц бледным оком зрел на сына с отцом, и по-чебачьи взблескивала, чешуилась в его свете озерная рябь.
– Ну что, унтуха харэктэ?..[25]25
Унтуха харэктэ (бурят.) – ложиться спать.
[Закрыть] Пора ночевать. Утра вечера мудренее.
– Ложись, папка, а я еще посижу маленько.
– Но, посиди, посиди.
Отец расстилает на песке войлочную попону – ею укрывали зимой Гнедуху – сверху кидает брезент и, сходив на берег по нужде, глянув на озеро, укладывается спать. А Ванюшка, возбужденный привалившим счастьем, боясь заспать счастье, не насытившись им в полную душеньку, подкладывает сушняка в оживленный костер и очарованно следит за синими, витыми листьями огня, трепетно играющими на жарких углях. Иногда парнишка поднимается, озирает набухшие ночью кусты, потом – озеро, устало и одышливо вздыхающее в темноте, бормочущее рябью в Камышевых плесах; с озера, не давая задремать рыбацкому азарту, доносятся чавкающие всплески ночных рыбин, слышен волнующий запах тины, преющей на отмели травы… Ванюшка не помнит, когда, сомлев у костра, забирается под брезент, прижимается к отцовской теплой спине и засыпает… плещутся во сне красноперые окуни, зеркально взблескивают чебаки; отец, сын чует спросонья, поворачивается, подгребает его к себе, и теперь они спят, будто не всяк сам по себе, а слившись в одно ласковое, родное.
«Значит, бывало, жили мы с отцом душа в душу, как я с Оксаной сейчас!..» – укорил себя Иван. Но что-то городилось, то-попорщилось перед глазами, путал окаянка, настырно и ехидно подсовывал отцовские пьяные скандалы. Укроешь глаза, призабудеться, очнешься в далеком деревенском детстве, и с тоскою видишь обметанные инистой щетиной, зло поджатые отцовские губы, студено-синий, бриткий прищур, скандально упертый в маленького Ванюшку. Отец уже в беспамятном хмелю, сейчас с зубовным скрежетом станет костерить мать, прихватив и малого, а потом, в ночь-полночь, в крещенскую стужу, выпрет из дома…. «Но отчего же… отчего недоброе заслоняет теплые, ласковые видения, – снова ладом вопрошал себя Иван. – Немало же добра видел от отца… Худо-бедно, а восьмерых выкормил, выпоил, поставил на ноги… А может, и не в отце тут дело?.. – в душе моей, откуда вместе с любовью выветрилось детство?.. Мне ведь и со-бачошку было не жалко, когда приблудила щенком. Выкинул бы, коль не Оксана… Это теперь уж свыкся…»
– Пап, а пап, охота скорей вырасти… – пробился сквозь думы и видения голос дочери, и он тряхнул головой, чтобы очнуться, вернуться в Оксанин закуток.
– Шибко-то, девушка, не торопись. Чего доброго во взрослой жизни?! Успеешь, намаешься…
– Нет, мне хочется стать большой, чтобы научиться рисовать… красиво-пре-красиво! Как ты…
– О господи! – засмеялся Иван. – Да ты что, доченька, это я так… малюю от скуки. Годом да родом… Охота другой раз озеро нарисовать, да руки, что крюки. Не слушаются, деревянные…
Иван ладился в художники и смалу, как ворчала мать в сердцах, портил бумагу… нечем протереть стеколку от лампы керосиновой… срисовывал по клеткам трех богатырей, трех толстозадых медведей да трех охотников-трепачей; однажды приперся на берег с детской акварелью, окунул кисть в закатное озеро, попытался вечер запечатлеть, но растеклась водяная краска по ватману мутью голубой и розовой. А потом, как вошел в лета, да как глянул в Третьяковке на картины русских мастеров – запела, заплакала душа… и с той поры кисть уже в руки не брал – стыдился. Так другой раз от скуки карандашом черкнет…
– Нет, папа, все равно красиво… Озеро, солнышко всходит, мальчишки окуньков ловят… И Петька бравый вышел… А как мальчик с отцом заблудились в степи… Такая метель!.. – наверно, снегом занесет и коня, и сани, где сидит отец с мальчиком… Жалко…
– Ах ты, жалостливая моя… – Иван поцеловал дочь в зарозовевшую щеку и, опять не слыша, глядя сквозь ее притихшее, разомлевшее перед сном лицо, такое вдруг высмотрел, что и вспомнить-то вряд ли смог бы: померещилась глухая деревенская изба, горенка, и он, еще грудной, измаянный хворью и потный, лежит в зыбке, подвешенной на крюк, ввинченный в толстенную матицу под потолком; недавний жар спал, дал передышку, и теперь осмысленней, яснее, хотя и отрешенно, смотрит Ванюшка широкими глазами, дочиста промытыми слезной влагой; смотрит на развесистый фикус, подпирающий потолок и нависающий над зыбкой, на герани, загородившие листвой окошко, отчего зимний свет, продираясь сквозь гераневую чашу, пучками пронизывает горенку, желто-бурыми пятнами плавает на стене, на узористых рамках, туго забитых карточками, на вышитых гладью райских птицах; и Ванюшка следит из зыбки за играющими, гаснущими и снова возникающими пятнами… Потом всегда, когда остывал и валялся в жару, виделись Ивану плавающие листьями пятна, от которых явственно слышался душный запах герани и фикуса, хотя ни цветов, ни комнатного деревца уже и в помине не было. Световой рой заслоняет отец и, наклонясь к зыбке, отведя накинутую на веревки холстину, морщась от жалости, что-то наговаривает сыну, но тот не понимает слов… мал еще, хотя чует в них заправдашнюю ласку; чует парнишка и забившие постный, хворый дух герани и фикуса, терпкие, здоровые запахи отца, и он тянется к ним ручонками, что-то гулькает из зыбки; а пахнет от отца свежим сеном, сосновой смолой, сыромятной кожей, дегтем, конским потом, махрой и окуневым духом.
* * *
Дождь утих, но туго и напористо шумел ветер, трепал и раскачивал в палисаде вершины берез, поскрипывая и позвякивая незакрытыми ставнями. Из-за черных туч выглянул месяц, осветил комнатку, и Оксана стала следить за ним млелыми глазами, гадая: то ли он запутался среди посеребренных березовых ветвей, то ли изжелта-белой, узенькой птицей, устав кочевать по не-бушку, присел на березу перевести запаленный дух; присел да и загляделся в окошко, дивясь, как ладом, неспешно судачат отец с дочерью. Плавным своим сиянием месяц стал насылать на дочь легкокрылый сон, и она, подложив обе ладошки под щеку, скоро уснула.
Иван, может быть, и ненадолго освободившись от маятных раздумий, оглядывает утихшее, осветленное сном лицо дочери, смотрит с такой неутоленной любовью, так долго и немигаюче, что навертываются слезы, в глазах рябит, и чудится, что дочь уплывает и уплывает от него на островке бледно-желтого месячного света, обращаясь в крохотную звездочку в сияюще-холодной небесной пустоте… Иван вспоминает по своему детству…мать толковала: когда спишь при ясном месяце, да ежли в лицо светит, блазнятся горькие, хворые сны, – можно и взаправду прихво-рать; вспомнив материны приметы, подошел к окну, наполовину задернул шторы – лицо дочери утонуло в мягкой тени – и, уже ни о чем не переживая, стал завороженно следить за месяцем, который отдышался, успокоился и тихонечко всплыл на самую вершину березы, откуда тронулся в дальний ночной путь.
Восковой, слезливо подрагивающий свет опять высветлил для Ивана степную околицу, извилистый санный путь, через который струилась и струилась вечная поземка, завораживающая глаза, как речная течь. А вот на санном пути, среди синеватого снежного безбрежья зачернели ездоки… В передке саней, изредка потряхивая вожжами, нахохлившись, посиживал ссутуленный мужичок, – не то отец Ивана, не то он сам нынешний, а может, оба они, теперь уже слитые навек в одном путнике, в одном горемычном ямщичке; за спиной мужика, до самого носа укутавшись в козью доху, полулежал малый, – то ли Ванюшка, а то ли… мало ли что привидится… его дочь, не отводящая зачарованных глаз от шуршащей и вечно текущей поземки. Кружилась над степью тихая песнь про ямщика: «Ты, товарищ мой, не попомни зла…», и в лад песне, чисто и нешумно рысила отцовская Гнедуха. Степь не кончалась, а далеко-далеко загибалась плавно к небу, и уже на том чуть приметном изгибе темнели ездоки, пока не смеркли.
Май 1983, июнь 2003.
ГОРЕЧЬ
Человек в чести сый не разуме, приложися скотом немысленным и уподобися им.
Псалом Давида, 48, 13
I
День меркнет ночью, душа – грехом, древо – гнилью, железо – ржой… Ржавый автобус, запалившись, чихая и надсадно постанывая, вполз на вершину Дархитуйского хребта, замер, переводя запаленный дух, хрипло переключаясь на другую скорость. Подобно советской власти, лежащей на одре, доживающий короткий…хотя и железный… трудовой век, автобус прижался к земле, словно для прыжка, и-и-и, припадочно дребезжа на дорожной гребенке, старческой трусцой побежал с хребта в долину. И по морщинистым мутным стеклам наотмашь хлестнуло режущей глаза синью вольного озера, что обнажилось далеко внизу, где хребет разгибал сутулую спину и, у изножья обезлесевший, плавно сливался с неоглядным долом. При виде забайкальского озерища – одного из десятка по Яравнинскому[26]26
В 1658–1660 годах по приказу каазачьего атамана Афанасия Пашкова на северо-востоке Забайкалья, у Яравня-озера был построен Яравнинский острог, где кочевали эвенки, а позже и бурятские роды. Название произошло от слова яровень, которым казаки изначально назвали озеро из-за крутых подмытых берегов, яров. Позже и район стал именоваться – Яравнинский. Позже на землях Яравнинского острога выросла рыбацкая заимка, в повести – Яравна.
[Закрыть] аймаку – в памяти взыграла здешняя песнь:
Мы – рыбаки Яравны,
Широк её простор,
Не зря зовут Яравну —
Край голубых озёр.
А ранее Игорь насмешливо оглядел вершину хребта, где на бурятском табисуне[27]27
Табисун – священное место бурят-шаманистов.
[Закрыть] пестрели увешанные ситцевыми и шелковыми лоскутами малорослые, колченогие берёзы, и вспомнил: здесь и буряты, всплескивая руками, и русские суеверы, попутно перекрестившись, вязали на сучья тряпичные лоскуты, а в до-сельные лета – и конский волос, а потом брызгали: плескали под березовые комли водку – потчевали степного идола-бурхана; и, отбурханив, набулькав и в свои чары, просили лёгкого пути у дорожного духа, вечно хмельного или похмельного. К сему и табакура – мужики бросали бурхану папиросы, сигареты; а коль охоч до выпивки и табака, то, может, и на бабёшек азартно косился из таёжного зеленого сумрака, из придорожных зарослей красногубого шиповника.
Озеро хлынуло в глаза, и душа сладостно защемилась, словно на качели, отлетевшей к небу и застывшей перед падением, словно Игорь с пылу и жару, со всего маху нырнул из перегретого до тошноты пыльного автобуса в стылое озеро, и вода запахнула за ним лето с немилосердным зноем. Автобус – ветхий мерин, узревший жильё – из последней моченьки трусил к чернеющему подле озера долгому селу. Вялые, сморённые путники ожили…позади триста пыльных, ухабистых вёрст забайкальскими степями, лесами… зашевелились, высматривая манатки, сваленные горой возле задней двери, выколачивая одежонку, отчего в автобусе повисла сладковатая пыль. В горлах запершило, народ закашлял, лишь два пьяных парня беспробудно дрыхли.
Сквозь лобовое стекло увиделись крайние деревенские избы.
– Во моя деревня, во мой дом родной!.. – смехом огласил балагуристый мужик Степан Уваров.
Игорь признал бывшего деревенского соседа на городском вокзале, но не отважился заговорить, лишь исподволь приглядывался. Степан мало вырос, весь в комель ушёл, а с летами осел, как садится, врастает в землю матёрый сруб, но в ширь раздался, – что поставь, что положь. Чернявый, вроде печная головёш-ка, со смолёвыми кудрями, что чудом выжили на затылке и над ушами, обрамляя прогонистую плешь, скуластый, губы вывернуты и приплюснуты, – Степан, напяль снежную сорочку, захлестнись тугой удавкой, мог сойти за африканца, что, миновав Байкал, дивом дивным забрёл в тайгу и степи, поблудил-поблудил да и осел на диком озёрном берегу. Смех смехом, а, видно, близко в русской родове Степана паслись тунгусы и буряты.
Мужик изредка, исподтишка косился на Игоря: городской по обличке и одёжке – тонкий, звонкий, с девьим румянцем на смуглых щеках и каштановой гривой до плеч, в облегающем чёрном свитере со стоячим воротом и серо-голубом джинсовом костюме, кои лишь из-под полы добывали форсистые ребята. Но и за городской обличкой виделся Степану деревенский малый Игорёха.
Замельтешили перед глазами спечённые на солнце и сморённые выхлопным угаром пыльные кусты; даже ягоды шиповника не могли проклюнуться сквозь пыльную наволочь и выказать приманчиво-спелую красноту. Ближе к низине побежал мимо автобуса ясный, прореженный березнячок и осинничек, а потом широко и вольно отпахнулась долина, голубоватыми волнами текущая от озера к изножью хребта.
Степан затормошил спящих в обнимку пьяных парней.
– Эй, робяты, кончай ночевать, приехали!
Сморенный паренёк поднял мятое лицо, слепо оглядел автобус и опять закрыл глаза, привалившись к мертвецки пьяному дружку.
– О красота, а! – Степан кивнул на парней. – Всё проспали. Теперичи, бляха-муха, будут гадать, приснился им город спьяну, или, в сам деле, в городе гостили. Будут хвастать – никто не поверит.
– Им, винопивцам, и жись-то вся, что сон похмельный, – проворчала пожилая тётка. – Лакают заразу почём зря. Совсем сдурели, спаси Господи, – тётка потаенно, мелконько перекрестилась.
– Но, едрёна вошь, однако, приехали, а? Отму-учились!.. – Степан хлёстко выбил кепку об колено и, прилепив обтёрханный блин на вольную плешь, ловко, разом с кивком головы подмигнул девчатам, сидящим напротив, – подморгнул глазом, вокруг которого зловеще растекся чернявый синяк. – Нюшка, Аришка! Приехали. Женихи-то, поди, заждались?.. Али городских подцепили?..
Девчушки – одна смуглая и долговязая, другая полноватая и рыжеватая – весело переглянулись и, покосившись на Игоря, вдруг разом засмеялись. Рыжая отмахнула чёлку, тяжело и непутно висящую над зеленоватыми, рысьими глазами, и насмешливо оглядела паренька от волнистой гривы до замшевых…или замшелых… полуботинок: ясно море, стиляга модная, сама голодная.
Абы скоротать время (…неближний свет от города до села), Игорь исподтишка присмотрелся к девчушкам: с лица невзрачные…да с лица воду не пить… но статью ладные зрелые, и, похоже, пэтэушницы[28]28
Пэтэушницы – ученицы ПТУ (профессионально-технического училища).
[Закрыть], судя по сероватой, скучной одежонке казённого покроя. Хотел заплести с девчатами игривую беседу… насчёт картошки дров поджарить, но так и не придумал, о чём говорить с пэтэушными девахами, что лишь вчера рванули из деревни в город. Ладился уснуть, но на ухабистой, тряской дороге не то что вздремнуть, мёртвого можно разбудить.
В полсолнца пути от города по-московскому тракту долина реки Уды вольно отпахнулась лесостепью с крутолобыми, сухими увалами, со скалистыми вершинами, с одинокими и на усердном солнопёке кручеными-верчеными берёзами, с растущими вширь, коренастыми соснами, что кронами, словно зонтами, укрывали корявые стволы. Тихо и переливисто цвела миражная степь, синели потянутые дымкой далёкие таёжные хребты.
Игорь печально приник к окошку, когда поплыли мимо автобуса редкие и ветхие избы единоверческого, семейского[29]29
Семейские единоверцы – старообрядцы, которые признали благодатность обеих ветвей Русской православной церкви и молились совместно в единых храмах.
[Закрыть] села Абакумово, что дышало на ладан, смиренно…по грехам… умирало, лёжа под святыми образами, покаянно глядя в небеса старческими окошками. В Абакумово остались материно детство и горькая юность, павшая на военное лихо; в Абакумово, в стемневшей, дородной избе по-божески, по-русски доживала долгий век бабка Христинья, у которой внук Игорюха гащивал летами, позже к бабке прикочевала и дочь Фрося, материна сестра.
Вглядываясь в автобусное окошко, Игорь увидел лишь заросший лебедой и крапивой бугорок, навроде могильного, там, где скорбно взирала на московский тракт бабушкина изба, где утрами и вечерами молились бабка Христинья с тёткой Ефросиньей, где ему, малому, так хотелось пульнуть из рогатки по древлим образам.
…Автобус, виляя пыльным хвостом, бежал по степным увалам, скатываясь в долину реки Уды, заныривая в желтые сосновые боры, в зеленовато-потаённые, тенистые березняки. Степан продолжал балагурить с девчатами, отбояваривая от городских женихов: ветродуи, мол, но девчушки, слушая в пол-уха, пялились в окошко, за которым уплывали приболоченные поля и сухие выпасы, где там и сям пестрели стада коров.
– Вы, девчата, городских не заводите, – гнул своё Степан. – Я на их нонечесь поглядел, – сумашедчии: бегут и бегут, сломя голову. Не здороваются, руки не подают. Да… Я по-первости здоровался, как у нас в деревне, а потом махнул рукой. Здоровайся не здоровайся, – даже ухом не ведут, бегут и бегут. Сумашедчии… В транвай битком набьются, что сельди в кадке, и там молчат. Наши-то деревенские запели бы. Чтоб не скушно ехать. Я, бывало, коня в телегу запрягу, доярок насажу, велю: «Пойте!.. Гнедко не повезет – без песни непривышный…» Я в транвае запел, дак на меня, как на дурака, выпучили зенки. Как ишо не упекли в кутузку?! С них бы стало… У нас в деревне все – вроде, родня, все – братья, сестры, хошь другой раз и зубатятся меж собой. А в городе не, в городе всяк сам по себе. А зленны, как цепные псы… Ладно, руки не подают… слова не скажи, как порох пыхают. Да… Не сладкая, видать, житуха в городе.
На городском вокзале Игорь чудом признал бывшего деревенского соседа Степана Уварова – лет десять утекло с той весны, когда семья Гантимуровых укочевала в город из села Сосново-Озёрск, где Игорюха семь зим отбегал в школу.
Вокзал, с вечера прометённый усердным дворником, опрятный, осиянный нежарким утренним солнышком и овеянный прохладой с реки Селенги, гляделся празднично; в небесной сини над вокзалом светилась снежной белизной звонница Одигитриевского собора; а над автобусами, умытыми, сверкающими, над путешествующим сельским людом звучала музыка, стильная в семидесятые годы, где отчаянная деваха горько похвалялась:
Я от горечи целую,
Всех кто молод и хорош,
Ты от горечи другую,
Ночью за руку берёшь…
Горечь, горечь, – вечный привкус,
На губах твоих, о страсть…
После «горечи» под гитарный плач томился страстью шалый малый:
Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег,
Я в подъезде возле дома твоего стою,
Жду, что ты пройдешь, а, быть может, нет,
Стоит мне тебя увидеть —
О, как я счастлив.
Песню подобрал на гитаре я.
Жаль, что ты ее не слышишь,
Потому что в ней, грусти не тая,
Я тебя назвал самой нежной и красивой…
О, это правда.
Игорь хотел было заговорить со Степаном Уваровым, но отвлекла моложавая, пышная жёнка с модной прической, народом прозванной: «не одна я в поле кувыркалась», а то и похлеще: «я у мамы дурочка». Из-под копны русой соломы постреливая в Игоря размалёванными синими глазами, жёнка улыбнулась юнцу кроваво крашенными губищами и посмотрела откровенно, зазывно, отчего Игорь, коего в грешной похоти влекли не сверстницы, но бывалые бабени, решил подъехать, заговорить, а потом, ежли удача улыбнётся, то и махнуть рукой на родное село. Для зацепки хотел спросить время…хотел, да вспотел… шагнул к жёнке, но к той шерстяным клубком подкатился пожилой, толстый мужичок, узким лицом похожий на ворона, с проседью в чёрных, курчавых прядях, нависающих над крючковатым носом. Мужичок…аж на голову ниже бабёнки… заискивающе поглядывая на жену снизу вверх, что-то наговаривал, мотая руками, после чего забавная пара, прихватив толстые баулы, стала продираться сквозь толпу. Со вздохом глядя вслед перезрелой крале, что напоследок одарила игривым взглядом, парень мысленно обозвал ее похабным словцом, и тут же, любодей, прилепился азартным помыслом к девахе в ловко кроенной, крепко шитой, линялой брезентовой робе с намалеванным на спине знаком ССО – студенческий строительный отряд. Коль Игорь беззастенчиво осматривал деваху, та усмешливо глянула на стильного паренька и равнодушно отвернулась.
«Выпендривается, гра-а-амотная…» – запалив сигарету, проворчал парень на деревенский лад и опять увидел Степана Уварова, хотел поздороваться, вызнать про его дочь Елену, с которой в отрочестве дружил, и уже было тронулся к Степану, но не осмелился заговорить, да и видок отпугивал, – стоптанные, порыжелые сапоги, по-сельски сжатые «в гармошку», куцый пиджачок с мятыми отворотами (телок, поди, жевал), кепка блином, да ещё и синий фонарь в полщеки.








