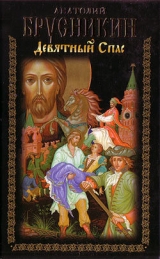
Текст книги "Девятный Спас"
Автор книги: Анатолий Брусникин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Мальчуган опустился на коленки возле трупа, обмакнул палец в зияющую на затылке рану и вывел на свежеструганном сосновом полу затейливый росчерк. Получилось красиво: алое на золотистом.
И зарыдал Автоном Львович, и прижал к себе щуплое тельце своего горемычного отпрыска. Стал целовать теплую макушку, гладить худенькую шейку. Казалось, весь мир сейчас раздавил бы, как коровью лепеху, ради одного волоска на родном темечке.
Внизу, под крыльцом, тряслись дворовые – мужик, три бабы.
– Он хоть говорит? – спросил Зеркалов мужика. – Слова понимает?
– Говорит, батюшка, говорит! Только редко, непонятно. Будто не с нами.
Вытирая слёзы, Автоном бормотал: «Ехидны, аспиды, упустили сироту».
Яростным пинком сшиб мертвеца с лестницы. Тело тяжело покатилось по крутым деревянным ступеням.
* * *
Ночь окоченевший от горя Зеркалов провел у кровати сына. Смотрел – поражался. Вроде спит – а лицо не сонное! Бывает ли так? Словно лишь во сне он по-настоящему и просыпается. Золотые реснички колыхались, губы шептали нечто неслышимое, а по временам личико освещалось улыбкой, да такой, что ничего краше Автоном Львович не видывал.
Он всё прикладывал ухо к Петрушиным устам, тщился разобрать шелест слов. Наконец, понял: «Красиво, красиво». Ох, дорого бы заплатил Автоном, лишь бы узнать, что снилось мальчику в эту минуту.
Тогда же, во время ночного бодрствования, отец твёрдо решил: боле сына от себя не отпускать ни на день. Надо с ним разговаривать, надо его шевелить. Ведь с рождения сиротствовал, проживал при чужих равнодушных людях. А ещё надо будет приставить лучших учителей – не дьячка, не бурсака двухрублёвого.
К зятю Матвею надобно приехать семьёй. Оно и лучше выйдет, по-родственному. Не подозрительно. И в Москве мальчонку тоже всё время рядом держать. Избёнку что ли в Преображенском купить иль построить? Выдастся хоть полчасика меж допросами, всегда заскочить можно, словом перемолвиться…
На рассвете, когда утомлённый Зеркалов начинал задрёмывать, из-за окна донесся копытный перестук. Автоном Львович вскинул голову. Что такое?
А то был всадник в синем Преображенском кафтане, от самого князь-кесаря гонец.
– Как ты догадал, где меня искать? – вот первое, что спросил у служивого потрясённый Зеркалов. Ведь ни одна душа не ведала, кроме него самого и Яшки!
– Не гадал я, – пожал плечами преображенец. – Фёдор Юрьевич велел: гони в Клюевку что на Пахре-реке.
Ай да князь-кесарь, знаток человечьих сердец! Никогда о семье, о сыне не расспрашивал, а всё ведает, всё исчисляет. Прозрел заднюю зеркаловскую мысль. И вздрогнул тут Автоном Львович. А что если князь Ромодановский не только об отеческой тоске догадался? Пора было, однако, и грамотку прочесть.
Писал Фёдор Юрьевич, как говорил – кратко и сущностно. На современном языке его послание звучало бы так: «Автоном, не время семейностью тешиться. Завязывается, наконец, серьёзное дело. Не пустые наветы, не вымогательственные домыслы, а истинный заговор. Сего дня был доставлен в приказ Димитрий Ларионов сын Никитин, чашник царицы Прасковьи, который неоднократно бывал в Новодевичьем. Оного чашника надо было раньше взять, да руки не доходили. И надо случиться, чтоб прямо из расспросной избы, из-под носа у дурака Ипашки Сукова, неведомые сообщники того преступника Никитина выкрали. Никогда ещё у нас в Преображенском подобного срама не бывало. Но главное не в том. Выходит, заговор-то жив, и заговорщики целы! Что государю докладывать буду? Посему оставь своего зятя до иных времен, сам же немедля мчи сюда. Розыск беглого чашника могу доверить только тебе. Сердцем чую: возьмём беглеца – всю воровскую змею за самую шею ухватим. Поспеши».
По тону было ясно, что князь-кесарь крепко тревожен. Оно и понятно. Не привык перед царём в дурнях хаживать. Ведь что выходит? Пока Преображёнка за сплетниками гонялась, да от наушников напраслины выслушивала, настоящие-то злодеи на воле ходили. Если они столь дерзки, что из самого застенка выручили сообщника, от них всего ожидать можно!
Так-то оно так. И дело, действительно, важное, государственное. Но как же с Петрушей быть? Ведь только что клялся никогда более с сыном не разлучаться…
Гонец попил водицы и поскакал назад. Конь у него был особый, двужильный – в Преображёнке таких держали для доставки срочных донесений. Зеркалов же метался по горнице, хрустел пальцами. Неужто быть ему пред собой и сыном клятвопреступником? А кесаря ослушаться – это лучше самому в удавку влезть.
У двери, едва доставая башкой до середины косяка, стоял Яха, ко всему готовый. Ему объяснять лишнего не надо. Он уже и лошадей заседлал. Вдруг Автонома Львовича будто ударило. Ларионов сын Никитин? Ну-ка, ну-ка…
Хлопнул себя Зеркалов по умной да памятливой голове, единственной своей надёже.
– Яшка, вели мне тележку запрячь. Еду с Петрушей, куда собирался, в объезд Москвы. А ты вот что…
Глава 4
Синий мужичок
Чтоб день и ночь ворота на запоре!
Чтоб день и ночь круг дома сторожа!
А. Н. Островский «Воевода»
Слабодушному оханью и бессмысленной суете вроде сжигания рукописи (что можно бы сделать и позднее) Ларион Михайлович предавался не так уж и долго. Человек он был распорядительный, военный, и когда опомнился, начал действовать с отменной разумностью.
Прежде всего перестал говорить шепотом и ходить на цыпочках, таясь от слуг. От домашних, как известно, всё равно ничего не утаишь. Да и не те у помещика были слуги, чтоб доносительствовать. Отношения меж барином и холопами в Аникееве, как и в большинстве старорусских вотчин, были патриархальные, семейственные – совсем не такие, как во времена позднего послепетровского крепостничества. Если людей и продавали, то не по одиночке и не на вывод, а целыми деревнями. Беда, коли приходила, становилась общей бедой, и одолевали её всем миром. Иначе в суровых природных условиях, в лихие времена было не выжить. Крестьяне лепились к своему помещику, помещик доверял своим крестьянам.
Всех, живших в усадьбе, Никитин поднял на ноги. Дворовых он держал немного, не любил плодить бездельство. Под одной с ним крышей – в самом тереме и пристройках – проживали кухарка, ключница, кривобокая горничная, мальчонка-посыльный, садовник да самый главный из слуг – Тихон Степаныч. Был он при барине когда-то дядькой; потом стал комнатным человеком, конюхом, лекарем, в походе же делался оруженосцем и денщиком. Ларион называл его по имени-отчеству и ничего важного не предпринимал, прежде не посоветовавшись со стариком. Его-то первого и разбудил.
– Тихон Степаныч, бери-ка свои травы, мази.
Пока старик, причитая, вправлял вывихнутые составы, обмазывал-обвязывал раны, Дмитрий скрипел зубами, терпел. Бабы переживали, утирали слёзы. Но без дела не стояли. Кухарка заварила медвяницу, силоукрепляющее снадобье. Ключница порезала на длинные полосы тонкое полотно. Горничная вытирала страдальцу со лба капли холодного пота.
Главное дело, однако, было поручено посыльному. Он понёсся в село, за военной подмогой.
Как и полагалось служилому дворянину, для большого государева похода Никитин должен был снаряжать в поместную конницу по одному ратнику с десяти дворов и свой долг всегда исполнял честно. Коней держал крепких, мужиков обряжал не в стёганые тегилеи, а в настоящие кольчуги и железные шапки, кроме копья и сабли выдавал каждому по мушкету. Были помещики, кто норовил послать на войну работников поплоше, но Ларион Михайлович никогда не кривил. И в первом крымском походе, и во втором, и в азовских осадах его десяток был из отборных молодцов, лучших во всём селе. Правда, единственных сыновей или многочадных помещик на опасную службу не брал.
Во втором азовском походе, двухлетней давности, отряд, в котором состояли аникеевцы, попал в степи, беззвёздной ночью, под налет татарской конницы. Одного мужика убили насмерть, ещё двоих ранило. Никого Ларион Михайлович не оставил на чужой земле, доставил домой всех троих, даже мёртвого – поперек седла, в проложенном пахучими травами мешке. Один раненый от антонова огня уже в деревне помер, но рад был, что довелось окончить жизнь дома. Другой выздоровел.
Вот этих-то восьмерых сопоходников Никитин сейчас и призвал.
Ещё не рассвело, а все они, вооружённые, были расставлены по караулам.
Будучи опытен в военном деле, помещик расположил свои малочисленные силы в ключевых местах.
Двоих, посменно, у Московской дороги – на лесистом взгорке, откуда далеко видно. Если что, дозорный должен был поджечь пук сена на верхушке высокого дуба. Ещё двое, тоже в очередь, должны были сидеть на крыше терема и безотрывно глядеть в ту сторону – не потянется ли к небу столб дыма.
Остальных стратиг оставил при доме: один чтоб отдыхал, а трое держали караул.
Вокруг усадьбы стоял тын, кое-где прохудившийся, но всё ещё крепкий, из дубовых стволов. Во времена Великой Смуты прадед Лариона Михайловича, если нагрянет ватага казаков, ляхов или просто лихих людей, укрывал за тыном всех своих крестьян. И ничего, отсиживались. Напоровшись на пули и стрелы, незваные гости уходили искать добычу полегче.
Осмотрев стену, Никитин вспомнил, что когда-то по её углам торчали сторожевые вышки, и порешил их восстановить.
Припомнил ещё важное: что из конюшни до опушки был прорыт подземный ход. Не для бегства (куда ж из своего гнезда бежать?), а наоборот – для деревенских, кто не успеет укрыться в усадьбе. Ходом много лет не пользовались. Дверь в него стояла наглухо запертая, ещё с тех пор, как Ларион мальчишкой туда лазил, был застигнут отцом и наказан так, что запомнил на всю жизнь.
Проржавевший замок пришлось сбить – никто не знал, где от него ключ. Никитин с Тихоном полезли смотреть, но далеко заходить поостереглись. Опоры какие прогнили, какие обвалились, во многих местах осыпалась земля. За день, за два не починить.
После того как первые, самые насущные меры предосторожности были приняты, начался военный совет. Участвовали трое: сам Ларион Никитич, премудрый Тихон и чистый, обихоженный, даже слегка порозовевший Дмитрий. Он сидел, не касаясь спинки кресла, весь перетянутый полотняными полосами, будто спелёнутое дитя. Как это исстари делается на советах, для почина спросили самого младшего. Чего, по его мнению, следует ожидать и когда?
– Сначала в Преображенском меня, конечно, искать кинулись, – немного помолчав для пущей солидности, заговорил Митьша. – Не нашли, поскакали в Измайлово. Думаю, сейчас ищут в моих комнатах, да на дворе, да по всем закоулкам. Дворцовые угодья обширны, преображенцам работы до вечера хватит… Далее что? Обыкновения ихние известны. Сядут в засаду – не вернусь ли, или, может, пришлю кого за нужными вещами. Я ведь, когда уезжал, ничего с собой не взял. Ни грамот, ни денег… Начнут всех в Измайлове опрашивать. С кем вожусь, да к кому в Москву езжу. Знакомцев у меня немного, но и немало. С каждого нужно спрос взять, да дом-двор обыскать. Это еще дня два… Не найдя меня в городе, станут искать шире. И тогда уж наверняка сюда нагрянут. А только очень скоро не получится. В Измайлове никто меня никогда не расспрашивал, где моя родовая вотчина. Среди московских знакомцев у меня близких приятелей, кто бы сказать мог, не осталось. Мишка знал Страхов, но он уехал в Гаагу бомбардирному делу учиться. Семён Ладейников в Воронеже, надзирает за строительством галеры, на которую царица Прасковья деньги жертвовала… А больше никто про Аникеево и не ведал. Значит, придётся преображенцам в Поместный приказ идти, писцовые книги просматривать…
– Ну, это мы знаем, – сказал повеселевший отец. – Третьего года нужно было список с жалованной грамоты снять, четыре месяца искали.
– Для князь-кесаря дьяки, конечно, побыстрей расстараются, а все ж меньше недели в своих мышиных хранилищах не прокопаются.
Командующий задумчиво погладил бороду.
– Стало быть, дней с десяток есть. Коли раньше объявятся – на то караулы поставлены. Успеем уйти… Теперь что скажешь ты, Тихон Степаныч? Когда Митьша сможет руками двигать?
– Эх, Ларион Никитич, милое дело молодым быть. У нас с тобой, старых хрычей, плечи после этакой страсти никогда б не зажили. А Митя, думаю, через недельку будет ложку ко рту сам подносить. Через две, пожалуй, и поводья удержит.
Теперь Никитин-старший знал всё, что было нужно.
– Две недели Преображёнка нам даст навряд ли. Как только у Митьши спина зарубцуется и суставы сколь-ни-сколь схватятся, посажу его в тележку, на мешки с сеном. Поедем на запад. Лошадей верховых сзади привяжем. Когда окрепнешь довольно, чтоб в седле ехать, попрощаемся.
– Лёшка мне дал письмо на Украину, к запорожскому полковнику, – сказал Дмитрий, кивая себе на грудь, где в холщовом мешочке была подвешена свёрнутая грамотка. – Туда что ли податься?
– Для Дмитрия Ларионовича Никитина сыщется судьба и получше, чем с запорожным отребьем якшаться.
Эти слова отец произнёс с видом хитрой многозначительности, но от объяснений пока что воздержался.
– Всё, иди спать. Во сне самая сила приходит.
* * *
Ларион хотел уступить сыну свою кровать, а самому лечь рядом, на полу, но Тихон Степанович не стал и слушать. У него, мол, в каморке тесно и утячей перины нету, зато дух травяной и образа в киоте хорошо промолены, благодать с них так и сочится. Помещик знал, что с Тихоном спорить – дело зряшное. Упорный старик, не сдвинешь.
Надо было и помещику после бессонной ночи передохнуть хотя бы час-другой. Он даже и лёг на помянутую перину (с возрастом кости стали лакомы на мягкое), поворочался, но уснуть не смог. Думы мешали. А потом во дворе застучали топоры.
Осерчав, а заодно обрадовавшись предлогу подняться, Ларион Михайлович накинул на плечи домашний кафтанец, вышел поглядеть. Это мужики, которым не смена караулить, вместо того чтоб в деревню вернуться, затеяли по собственному почину сторожевую вышку сколачивать.
Один, стало быть, отправился на Московскую дорогу, другой сидел на крыше, двое расхаживали с ружьями по ту сторону тына, а четверо свободных споро рубили-тесали бревна и доски.
– Тихо вы! – шикнул на них Никитин. – Сына разбудите! Шли бы домой, поспали. Вам на ночь заступать!
Самый пожилой, Савватей, спокойно ответил, не замедляя работы:
– Привычки нету днём спать. А за парня, Ларион Михалыч, ты не радей. Сам в двадцать лет помнишь, как спал? Из пищали не разбудишь. Шел бы ты восвояси, не мешал. Вот одну каланчу поставим, тогда уйдем.
Тоже упрямые, бесы. Русский народ, он из леса вышел. Привык пни корчевать, да лютые зимы терпеть – без упрямства при таком бытье не выживешь. Пошёл помещик проведать сына.
Терем был в полтора жилья: из нижнего, где хозяйские покои, в верхнее вела невысокая, в несколько ступеней, лесенка. Там жили слуги; в самой дальней спаленке, откуда свой спуск во двор, обитал Тихон.
Комнатка была тёмная, безоконная. Дверь всегда приоткрыта, чтоб воздух шёл и чтоб Степанычу слышать, что в доме деется.
Заглянув в щель, Ларион увидел, что сын спит, лежа на животе и беспокойно постанывая. В углу под иконами горела яркая лампада. Митьша сызмальства любил при свете спать – Тихон про это не забыл.
Сам старик сидел рядом и тихонько, скрипучим голосом напевал колыбельную, которую нянька певала в младенчестве и Лариону. Про Синего Мужичка:
«Баю-бай, баю-бай,
Спи, Митюша, засыпай.
Придет синий мужичок,
Ай, ухватит за бочок,
Да засунет в туесок,
Да утащит во лесок…»
Улыбнулся помещик. Вспомнилось, как сам в раннем детстве страшился неведомого Синего Мужичка и лежал на боку смирно, подложив под щёку ладошки.
Всё тут у Тихона было как надо, можно бы идти восвояси, но хотелось на спящего сына посмотреть, да и дело придумалось важное.
Бесшумно ступая, Ларион приблизился к ложу. Степаныч, смущённо крякнул, глупую песенку оборвал.
– Чего тебе, барин? Шёл бы, не будил дитё.
– В двадцать лет их из пищали не разбудишь. Подними-ка ему голову.
Отец снял с шеи образок, который собирался носить до Митиного первого похода, а там передать сыну ради сбережения в дороге и ратном деле. Теперь самое время.
Образок был старинной работы. На кипарисной, медью окованной дощечке честной воин Димитрий Солунский, Митьшин святой покровитель: на коне, с копьем. И, приглядеться, меленько прописана молитва Солунского архистратига Господу: «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей – с ними и я спасён буду, если погубишь – с ними и я погибну».
Касаться волос и шеи сына Лариону Михайловичу было приятно, до теплоты в груди. Митьша не проснулся, когда иконка оказалась по соседству с узким мешочком, в котором – отец знал – лежало письмо какому-то голодраному полковнику, которого, может, и на свете давно нет. Сразу и придумалось, чем заняться далее.
Неизвестно, когда грянет тревога. Нужно собрать сына заранее. Обдуманно, не спеша. Может, не на один год уезжает.
В сундуке у помещика лежали деньги, прикопленные для нового похода или на чёрный день. Без малого два ста рублей старой, еще Алексея Михайловича, чеканки. Чёрный день нагрянул, и такой, что черней не придумаешь. Значит, всё серебро в кожаную кису – и сыну. Надобно присовокупить алмазный перстень, жалованный прадеду за Смоленское сидение. Если Митьша совсем оскудеет, кольцо можно продать. Родовую саблю с самоцветной рукоятью тоже дать, с благословением. Но саблю не продашь. Ее дворянин может лишиться только вместе с головой. Каких дать коней? Ну, что Буяна, это понятно. А какого запасного – Зяблика или Ласточку, – еще думать надо.
Сопровождать Митьшу поедут Савватеев младший сын Стёпка, парень лихой и неженатый, да Фирс Сохатый. Он мужик хозяйственный, деньгам счёт знает. На первое время, конечно, Тихон при Мите побудет. Поглядит, как устроился на новом месте, а после вернётся в Аникеево, доложит.
Обдумав всё это, Ларион взялся за дело трудное и ответственное. Сел писать грамотку пану Анджею Стрекановскому. Сего первостатейного литовского шляхтича Никитин самолично полонил во время польской войны. Держал у себя честно, гостем, и отпустил без выкупа. Думать про то забыл. Но тому три года купец, вернувшийся из торговой поездки в Вильну, вдруг привозит от старинного знакомца послание. Помнит, оказывается Андрей Владиславович своего русского пленителя и кланяется ему, благодарит. Ныне он большой человек, подскарбий при коронном гетмане. У Преображёнки лапа длинна и когтиста, но до Вильны не достанет. Будет Митьше где отсидеться да себя показать. А там, глядишь, сгинет бесовское наваждение. Либо царь в разум войдёт, остепенится, либо (все под Богом ходим) сядет на Руси иной государь, истинного романовского духа.
Латинское обращение Salve Dominus Ларион вывел твердо, но потом надолго задумался. Латинский язык он когда-то учил, но в голове мало что осталось. Оно, конечно, написать сплошь по-латыни вышло бы важнее, однако рисковать не стал. Пан Стрекановский из старого православного рода, поймёт и по-русски.
Письмо писалось трудно. Несколько раз Никитин начинал занова. Прочитает, поразмыслит – эх, нужное забыл! И снова берёт чистый лист.
Уже далеко за полдень, наконец, закончил. Вроде бы вышло складно.
Подошел к окну. Смотрит: вышка уже стоит, и на ней один из караульных, который прежде на крыше сидел. Сработали мужики, что задумали, и ушли в деревню. Надо будет их наградить.
Ох, а про главное-то забыл! Чтоб гетман Митьшу не посылал единоверцев воевать, а лишь на турок, или крымчаков поганых, или на междоусобную свару между магнатами.
Если б помещик не вернулся к столу, то увидел бы кое-что диковинное.
Дозорный, который стоял на вышке, вдруг схватился обеими руками за горло. Меж сцепленных пальцев торчал оперённый хвост стрелы и пузырилась кровь. Захрипев, мужик сел на доски.
Из-за тына донеслись сдавленные крики: с одной стороны, с другой.
В несколько мгновений все трое часовых полегли, не успев выстрелить или подать знак тревоги.
«…А за такого витязя, каков мой Деметриус, тебе, пан Андрей, перед гетманом стыдно не будет», – приписывал в конце грамотки Ларион Михайлович, когда во дворе бешено залаяла собака.
Помещик сердито высунулся из окна, чтобы пса утихомирили, пока не разбудил Митю.
Над острыми брёвнами тына, над верхушками недальнего леса разливался порфирный закат. Но Никитин смотрел не на небо, а ниже.
Ворота, которым полагалось быть на запоре, скрипуче раскрывались.
Между створками, освещенный заходящим солнцем, стоял – вот диво! – крохотный человечек в синем кафтане, подпоясанный белым кушаком, при сабельке, а из-за спины у коротышки торчало древко татарского лука, подлинней своего владельца.
Синий Мужичок, за мной из леса пришел, мелькнула у Лариона Михайловича глупая, детская мысль.
* * *
Однако ворота раскрылись до конца, и оказалось, что по бокам стоят ещё двое усатых молодцев, чуть не саженного роста, и тоже в синих кафтанах – теперь Ларион разглядел: в Преображенских. А сзади на лугу были ещё люди, много, пешие и конные.
Как они подобрались незамеченными да почему им дали отворить ворота, рассуждать было некогда. Нужно было спасать сына.
– Караул! Воры! Бей их! – закричал Ларион Михайлович, не думая о том, что преображенцы – люди государевы и бить их никак нельзя.
Оружие лежало в большой горнице, на столе. Давеча, готовясь к будущей осаде, Никитин наточил саблю, почистил и зарядил оба свои пистоля.
Хоть бежать туда из письменной было недалеко, а всё равно опоздал хозяин. Будто какая-то сатанинская сила перенесла человечка из двора в терем. Когда Ларион ворвался в большую горницу, Синий Мужичок уже сидел на столе, побалтывая ножонками.
Рассмотрев несоразмерное лицо с проваленным носом, помещик понял: это карла. В руке недоросток держал, небрежно покачивая, один из хозяйских пистолетов.
– Где сына прячешь, Лариошка? – пропищал бесёныш визгливым голосишкой.
– Ты кто таков? Как по дороге прошел…
– Незамечен? – перебил карла и ухмыльнулся. – Лесом прошел, кустиками. Не дорогой же переться. Ты там, поди, тоже своих караульщиков сиволапых поставил. – Он важно оправил мундирчик, приосанился. – Зовусь я Яков Срамнов, Преображенского приказа десятник. А прислал меня по твою душу поручик Автоном Львович Зеркалов. Он твоего соседа свойственник, вот и догадался, куда беглый чашник спрятаться мог. – Внезапно глазёнки десятника сверкнули, левая рука тряхнула кулаком. – Выдавай сына, пёс!
За «пса» его, жабёнка, следовало бы напополам разодрать, но ради сына Никитин сдержался.
– Не ведаю. Не было его.
– Ага, «не было». А мужиков с ружьями на что караулить выставил? Что это у тебя за грамотка в руке? Возьмите-ка её, ребята.
Лишь теперь помещик заметил, что, выбегая из письменной, непроизвольно схватил со стола недоконченное письмо. Ныне оно выдавало с головой и отца, и сына.
Всё одно нашли бы, подумалось Лариону Михайловичу, и сдерживаться далее он не стал.
– Сам ты пёс!
Не убоявшись пистолета, ринулся на десятника, которого, казалось, плевком перешибёшь.
Но не тут-то было. Сильные руки дворянина зачерпнули воздух, а проворный карла, пав на пол, дёрнул противника за ноги.
Ларион упал во весь немалый рост, стукнулся затылком и на несколько мгновений сомлел.
Пришёл в себя от нестерпимой боли. Преображенцы прижимали ему руки к полу, а карла сидел на поверженном помещике и давил ему в шею своим острым локтем – до того мучительно, что Никитин закричал.
– Яков Иваныч, на господской половине нет! Везде смотрели! – крикнул кто-то.
– Ищите, робятушки, ищите, – проворковал десятник. – Сбежать или далеко спрятаться ему времени не было. Он полудохлый, на виске ломанный. На печи поглядите, да за печью, да внутрь суньтеся. После дыбы их, пытанных, на горячее тянет. На черной половине я сам посмотрю. Вы двое, держите вора крепко.
Поднялся у Никитина с груди, зато преображенцы навалились ещё сильней, не шелохнуться.
* * *
Согнув свою и без того куцую фигурку, Яха вскарабкался по ступенькам в верхнюю, чёрную половину терема. Он двигался, мелко семеня и по-собачьи принюхиваясь, заглядывал под лавки. В длинной не по росту, крепкой руке была зажата острая сабля. На первый взгляд была она будто потешная или детская, размером с длинный кинжал, но её булатным клинком Срамной запросто перерубал пополам здоровенного кобеля.
Заглянул в комнатку слева – пусто. Потянул носом: человечьей боязнью не тянет. В комнатке справа под лавкой кто-то сжался в комок. Не то: запах кислый, бабий. (Нюх у Яхи был совершенно исключительный, очень ему пригождался и в работе, и в жизни.)
Впереди оставалась ещё одна неплотно закрытая дверь, откуда лился свет. До неё оставалось несколько шагов, когда створка распахнулась, и в тёмный переход выскочил старик с кочергой. Со свету ему было Яшку не видно, да и не ждал он встретить карлу – ударил наотмашь, по пустому. У Срамнова над головой лишь ветром шумнуло.
В открывшейся двери десятник увидал того, кого искал. Молодой парень в рубахе с пустыми рукавами сидел на лавке. Он это, беглый чашник Митька Никитин, больше некому.
Этот-то, с кочергой который, снова размахиваться стал, но он теперь Яхе был не нужен.
– Охолони, старинушка, – пропел Срамной, всаживая деду в брюхо острие. Выдернул с вывертом, с требухой, на упавшего не оглянулся. Шагнув в горенку, сказал чашнику ласково: – Ну, здравствуй, соловушка.
Этим словом он обычно называл всех, кого ему предстояло допрашивать. Нет слаще того пения, каким у Яхи в руках пели испытуемые. Особенно такие красавчики, рослые да гладкие.
Вдруг сзади, с лестницы, топот, крик:
– Митьша, беги! Беги, родной!
А потому что оплошали дурни-преображенцы. Вздумали хозяина связывать, а для этого пришлось с него сначала слезть. Ларион Никитин был мужчина изрядной силы, а от отцовского страха мощь в руках удесятерилась. Вырвался, двинул одного в висок кулаком, второго сшиб головой в нос. Схватил со стола саблю – и наверх, сына выручать.
Если Яха и колебался, то не долее мига. Рубиться с помещиком, который, поди, в сабельном бою сноровист, было делом опасным, а главное, лишним. На что он, Лариошка, теперь нужен, когда Митька сыскался?
Выхватил Срамной из-за пояса прихваченный из горницы пистоль. Хорошая вещь, англицкой работы, такая осечки не даст. Осечки не было.
Тяжелая пуля, с большую вишню, попала, куда ей следовало – прямо в серёдку лба.
Но взбесившийся помещик, хоть и с дырищей в голове, не рухнул, как тому следовало, а только башкой мотнул. Сделал на гнущихся ногах шаг, другой, третий, всё тщился саблей дотянуться, а у самого уж глаза на закат пошли. Наконец свалился Яшке под ноги. То-то. Обернулся десятник, а беглеца нет. Пропал!
Через миг Срамной, правда, разглядел в углу малую дверку. Сбежал по тёмным ступенькам вниз, оказался во дворе.
Некуда было чашнику отсюда деться: вокруг тын, у ворот караул.
– Сюда бегите! Все сюда! – завизжал десятник.
* * *
Из-за чего отвернулся жуткий уродец, Дмитрий не видел, но случая не упустил. Кинулся вон из комнаты, дверцу толкнул грудью, ссыпался со ступенек, лишь чудом не сверзшись с них в темноте.
Сзади грянул выстрел. Кто по кому палил, непонятно. С разных концов двора доносились голоса, крики.
– Ироды! – голосила где-то бесстрашная ключница Лизавета. – Чтоб вас разорвало! Чтоб у вас брюхо полопалось!
В конюшню! Когда Степаныч растолкал спящего Митю и натягивал ему сапоги, успел сказать про подземный ход.
– Пролезешь там навряд ли, но хоть отсидишься…
Вечно запертую дверь в глубине старой конюшни Митьша в детстве видел много раз. Подходить к ней ему было строго заказано, но они с Лёшкой и покойным Илюхой, конечно, пробовали открыть ржавый замок. Сил не хватило.
Не совладал бы с ним Дмитрий и сейчас, безрукий-то. Однако замок валялся на земле.
Носком сапога он двинул створку, скользнул в темноту. Жалко, закрыть за собой дверь было невозможно. Это означало, что прятаться здесь бессмысленно. Рано или поздно доищутся. Может, ход не совсем осыпался. Надо пробовать.
Шагов десять-пятнадцать он преодолел, почти не сгибаясь. Потом стукнулся лбом, присел и дальше пробирался уже осторожней. Двигаться во тьме без рук было скверно. И не в пригляд, и не наощупь, а истинно наобум: то лбом «бум», то коленкой, а хуже всего, если плечом – тогда от боли в суставах хоть волком вой.
В одном месте пришлось лечь на живот и медленно, толкаясь одними ногами, ползти под обрушившимися опорами. Страшней всего было, когда застрял: ни туда, ни сюда. А начал брыкаться – наверху затрещало, посыпалась земля. В ужасе Дмитрий оттолкнулся от чего-то ногами, протиснулся. Сзади с тяжелым грохотом осыпался целый пласт земли. Назад теперь дороги в любом случае не было. Ну и пускай. Лучше здесь похорониться заживо, чем в пытошный застенок.
Он долго лежал, не мог отдышаться. Наконец собрался с силами, вытянул из-под завала одну ногу, вторую. Скрючившись в три погибели, на коленках пополз дальше.
Впереди еле заметно серело что-то узкое, щелеобразное. Митя задвигал коленями быстрее.
Так и есть! Дощатая дверца, и в ней щель. Он прижался лицом, губами к занозистой поверхности и чуть её не расцеловал. Неужто выбрался? Толкнул головой. Дверь не подалась. Попробовал грудью – лишь скрипнула.
За долгие годы ненадобности дверь перекосилась, вросла в землю. Попробуй, открой такую, хоть бы даже и здоровыми руками.
Сколько Никитин ни бился – всё попусту. Щель стала синей, потом чёрной. Снаружи наступила ночь, а обессиленный беглец никак не мог уразуметь, что спасение – вот оно, в двух вершках расстояния, а только одолеть преграду невозможно.
Грудью упираться неудобно. Плечами, что одним, что другим – невыносимо. Попробовал вышибить ногой – размаху недостаточно.
Однако и пропадать тут, в норе, чашнику показалось унизительно.
Сжав зубы, он приложился к доскам изодранной спиной, что было силы оттолкнулся от земли ногами и с воплем вышиб дверь – показалось, что вместе с собственной кожей и костями.
Корчило его ещё долго. Спина вся сверху донизу горела, по ней обильно сочилась кровь. Сжавшись в комок и уткнувшись головой в палую листву, Митя пережидал, пока не отпустит боль.
До конца она так и не прошла, но немного поотступила. Стало возможно думать – что делать дальше. В одиночку, слабому, безрукому.
Воздух был свежий и чистый, а над головой шумели деревья. Умирать не хотелось, уж особенно после кромешного подземного ползновения.
В Свято-Варфоломеевскую обитель нужно бежать, придумал Митьша. Там сестры добрые, отец им много жертвовал в маменькино поминание. Не выгонят, приютят.
Однако до монастыря ещё надо было добраться. Через село, где крестьяне помогли бы, не сунешься – там наверняка преображенцы. По дороге тоже опасно. Оставалось одно: продираться Синим лесом, через топь, а уж потом двигаться по берегу Жезны. Становилось зябко. Долго не порассуждаешь. Дмитрий поднялся и рысцой побежал в чащу.








