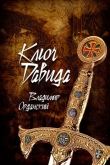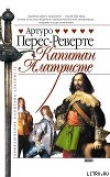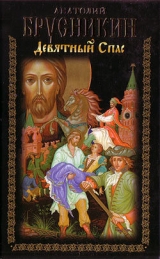
Текст книги "Девятный Спас"
Автор книги: Анатолий Брусникин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 3
Отцовское сердце
Если бы сердце того видеть можно,
Видно б, сколь злобна мысль, хоть мнятся правы
Того поступки, и сколь осторожно
Свои таит нравы.
А. Кантемир
«Ах, отецкое сердце, ты подобно замочной скважине, посредством которой отпирается неприступнейшая из дверей, – так говорил себе всадник, летевший размашистой рысью по размокшей осенней дороге. – Ещё тебя можно сравнить с щелью в латном доспехе, куда единственно может проникнуть калёная стрела!» Сравнение с уязвимой пятой Ахиллесовой, далее пришедшее на ум ездоку, было им отвергнуто, как неуместное: ибо, где сердце и где пята?
Девять лет, один месяц и четыре дня миновало с тех пор, как Автоном Зеркалов последний раз видел единственного своего сына. Поглядел тогда на крошечного младенца с сиреневыми глазами, проглотил комок в горле и отправился на большое дело, с которого должен был вскоре вернуться Виктором и лавреатом, однако претерпел жестокую конфузию и был брошен Роком на каменистый путь протяжённостью в долгие годы и многие тысячи вёрст.
Причудливая эта юдоль завела бывшего стольника сначала в полунощные края, потом в закатные страны и лишь ныне, обожжённым да заматеревшим, возвращала туда, куда каждый день просилось бедное сердце.
Слёзно восклицать и аллегоризировать было вовсе не в характере Автонома Львовича, однако и у стального человека имеется душа, которая, сколько её в панцырь ни загоняй, всё равно живая, а значит рано иль поздно пробьётся родничком, прорастёт травинкой. Очень уж тяжко дались Зеркалову последние недели, тяжелее, чем все предшественные годы. Сын был совсем близко, в подмосковной Клюевке, но вырваться туда нечего было и думать: работы невпроворот, а князь-кесарь крутенек, от дел ни на день, ни на пол-дня не отпускает.
Однако про последние недели сказ впереди, сначала – о предшественных годах.
Когда пала Софья, её ближний стольник угодил под розыск, однако же никакой вины на нём сыскано не было. О том, куда пропала заветная икона, свергнутая правительница упорно молчала, добиться от неё правды уговорами не смогли, а подвергать царскую дочь пытке на Руси было не в обычае. Победители повздыхали, посетовали, но после рассудили так: взяли власть без Девятного Спаса, как-нибудь и далее без него перебедуем. Царица-мать Наталья Кирилловна без главной иконы жить боялась, плакала. Юного же царя Петра, который Спаса отворенным видел лишь в раннем детстве, занимали не святыни, а иное – дела новые, шумные, суеземные. Он больше жалел о пропавших червонцах, чем о Филаретовом Образе. На сто тысяч золотых много что можно бы устроить: десять полков иноземного строя, иль целую флотилью многопушечных кораблей, иль большой поход снарядить против крымцев с турками. Однако и о судьбе дукатов от Софьи ничего узнано не было. Сражённая злопревратной судьбой царевна тяжко хворала и безмерно тосковала сердцем, но и в сей наигорший час своей жизни не утратила каменной твёрдости.
Долго ли, коротко ли томили Зеркалова спросами-внушениями, а в конце концов отстали. Однако в Москву опальному стольнику, как и прочим Софьиным приближённым, возвращаться было не дозволено. Подержали ещё недельку под нестрогим караулом и сказали новую государеву службу: отнюдь не мешкая и домой не заезжая отправляться в Пустозерск воеводой.
Воевода – звание гордое, многими искомое, да только это смотря где воеводствовать. В Пустоозерский острог, что поставлен на Пустом озере, в ста верстах от Ледовитого океана, никто своей волей не езживал: ни тюремные горемыки, которые там содержались во множестве, ни охранявшие их стрельцы, ни дьяки, ни сами воеводы.
До Мезени, где тоже не рай, две недели пути, а до столицы в два месяца не доскачешь. Острог у истока реки Печоры возводился с двоякой целью: содержать подале от Москвы осуждённых преступников и ещё вести торговлю с дикой Югорией, где узкоглазые язычники добывают рыбий зуб и звериные меха.
Гиблое это место – голое, тундряное, студёное. Везти туда малого мальчонку, в котором и так еле-еле жизненный огонёк теплится, – лучше уж сразу своими руками в землю закопать, всё мучений меньше.
И повелел Автоном оставить сына Петрушу в своей подмосковной Клюевке, полученной за покойницей-женой. Тамошний староста Минька Протасов каждомесячно отписывал барину во всех подробностях, здорово ли чадо, да сколько росту и весу прибавило. Воевода у себя в избе на придверке углём помечал: аршин и дна вершка, аршин и три вершка, дна аршина без полутора вершков. Бывало, по часу перед метой стоял, пытался вообразить, каким он ныне стал, Петюша.
Про рост и вес староста писал охотно, о прочем же докладывал смутно, намеками. Мол, дитя вроде бы здорово, однако неразговорчиво, всё молчит да молчит. Это бы ничего. Автоном и сам в детстве не любил зря языком болтать, узнавал свою породу. На восьмом году велел управляющему приставить к Петруше учителей, чтоб грамоте и всему прочему наставляли. Староста писал, что нанял, но об успехах мальчика ничего не сообщал. «Знать, неприлежлив, – сокрушался воевода. – Ну да ладно, опала закончится, возвернусь – всё поправим».
На новом месте он осваивался долго, осторожно. Должность была хоть и захудалая, но при дерзости и сноровке прибыточная. Москва далёко, туземцы кляуз не пишут. Прежний воевода каждое второго соболя да мало не половину моржового зуба себе брал, уворованное в Архангельск обозами отправлял, за что и повешен в Пустозерске на площади, со связкой гнилых соболей на шее.
Мимо казны Зеркалов ничего делать не стал. Смысла не было. Ну, наживёшь тыщонку, иль две. Во-первых, тоже можно по доносу в петле оказаться, как предшественник. А во-вторых, велика ли корысть? Выслуживаться надо было, в Москву возвращаться, где ждали милой сын и великие замыслы, которые воевода обдумывал бесконечными зимними ночами.
Чем-чем, а терпением Вседержатель его не обделил. Другой бы давно в отчаянье впал. Шлешь в казну год за годом югорский ясак вдвое против прежнего, а нет тебе от начальства никакой благодарности. Забыли в Москве стольника Зеркалова, никому он не нужен. А вести доходят медленно. Многие из них невероятны.
Чудные дела творились в отечестве. Царь Пётр, в чью честь Автоном назвал сына, правил не так, как прежние цари. Из Москвы писали о шумных гульбищах, о том, что в силе ныне иноземцы. Потом царь два года подряд ходил турок воевать и взял Азов – крепостцу невеликую и большой кровью, но всё равно ведь победа. На реке Дон, во многих сотнях вёрст от моря, зачем-то строили парусный флот.
Много всякого захватывающего и малопонятного происходило там, вдалеке, а Зеркалов всё томился, тратил попусту хорошие годы своей немолодой уже жизни.
В конце концов переписка, которую воевода вёл с многими московскими знакомцами, не забывая прикладывать к каждой грамотке гостинец (горностая ли, рыбки ли солёной), дала-таки плоды.
Нет, покровительства или, как теперь говорили на Москве, протекции Автоном Львович за свои скромные подношения ни от кого не дождался, но важную весточку вовремя ухватил, осмыслил и не преминул использовать.
Сообщили ему как-то, между прочими известиями, что ныне велено отправлять волонтиров за границу, обучаться нужным государю наукам: корабельной да пушечной, врачебной да апотецкой, рудознатной да зодческой и другим всяким. Шлют стольников, боярских недорослей, гвардейских офицеров, но и прочего звания людей, ибо ехать своей волей мало кто хочет, потому что боязно и противно.
Ни страха, ни брезгливости Автоном Львович отродясь не ведывал, зато умел во всякой вещи прозирать полезность, хотя бы и не ближнюю, а отдалённую.
Отправителю важного письма и всем прочим, кому имело смысл, воевода отписал, приложив дары вдвое щедрей обычного, что ежели кого – самого ли, родича ли – станут неволить ехать в неметчину, а он не схочет, то пусть-де знают, что Автоношка Зеркалов своим доброприятелям всегда услужить рад и готов за други своя отправиться хоть к чёрту, хоть к дьяволу.
Полугода не прошло, получил он слезницу от царского спальника Фаддея Беклемишева, кому сказано в Голландию собираться, а у него пухлая хворь, жена-дура и именье в запусте. Поезжай за меня, Автономушко, молил спальник, а я уж в Посольский приказ поклонюся рублишками ста-полутораста, не всё ль им равно.
Вслед за тем, вскоре, подоспела и грамотка из Москвы: воеводство оставить и поспешать на западный рубеж, вдогон за иными дворянами, кто определён в заморское учение. Ежели Зеркалов до рубежа кумпанство догнать не поспеет, то возвращаться ему назад в Пустозерье и нести службу дальше.
* * *
За осьмнадцать дней отмахал Автоном Львович две с половиной тыщи вёрст. Ел и спал на ходу, даже большую нужду прямо из саней справлял. В Смоленске присоединился к неспешно двигавшемуся обозу, получил от старшого, Посольского приказу дьяка, пашпорт и лишь тогда перевёл дух.
Из 122 дворян был он самый старый, а следующему за собою по возрасту, двадцатисемилетнему, мог бы приходиться отцом, но это Зеркалова не смущало. Чему и где обучаться, тоже было всё равно. Выпал город Мюнхен, Баварской земли, а наука для изучения – меднолитие.
Мудрёное это искусство Зеркалову не приглянулось. Мороки много, а прибыток взять неоткуда. Да и не за тем он ехал в тридевятое государство, чтоб медь варить. Нужно было ближе к свету выбираться, молодому государю себя как-то показать.
Пожил Автоном Львович в немецкой земле, поездил туда-сюда, огляделся, принюхался. Ну-ка, чему истинно полезному у вас тут можно поучиться? Как Европу для зеркаловского блага употребить?
Понемногу созрела у него мысль. Большая, государственная. Такая, что можно не боясь кары за дерзость, самому царю прожект подавать.
Как раз, на счастье, и оказия подвернулась. Его царское величество надумал сам в Европу пожаловать, неприметным манером, будто бы сопровождая Великих послов. Как бы Автоном Львович свой всеподданнейший репорт в Москву послал, положенным порядком, еще неизвестно, дошла бы грамотка до государевых ручек или нет. А тут отписал приватной поштой, в англицкий Лондон, где, как сказывали газеты, ныне обретался русский царь – и дале осталось лишь Бога молить, чтоб бумага дошла до Петра Алексеевича.
Ибо если дойдёт, о прочем можно не тревожиться. Дело было верное, а письмо дельное. Царь на государственную пользу ухватчив.
Осмотревшись в Европе, многому там удивившись и над многим призадумавшись, понял Зеркалов: живём мы, русские, подобно слепцу, что бредёт через дикую чащу, не ведая, где ямы, где хищные звери, а где грибницы и ягодные поляны. Счастье, что и нас тамошние лесные жители почти не видят, не замечают. Однако стране, которая возжелала быть среди равных равной (а если получится, то и первой), нужно иметь не только клыки и зубы в виде армии и флота, но ещё зоркие глаза и острый нюх. Внутреннего супостата на дыбу вздёргивать – это мы умеем, дело нехитрое. Но времена настают новые, и супостаты ожидаются пострашней боярских да стрелецких заговорщиков.
Всё это в репорте было написано, а вывод делался такой: надобно России, по примеру англицкой короны и прочих великих держав, насадить по всей Европе соглядатаев, кто будет докладывать в Москву обо всём тайном и явном, нужных человечков прельщать щедрыми дарами, вредным – вредить. Но главной задачей сей службы будет всё-таки сведывать, выведывать да разведывать, потому назвать новый приказ челобитчик предлагал Сведочным, Выведочным или Разведочным.
Через малое время пришёл ответ от государева денщика Александры Кирьякова: быть тебе, волонтиру Зеркалову, не мешкая, в цесарской Вене и ожидать там; с тобой будет говорить господин Пётр Михайлов (так по-тайному звался в поездке царь).
Перекрестился Автоном Львович, плюнул в сторону постылого литейного завода и отправился в не столь дальнюю от Мюнхена цесарскую столицу. Теперь, твёрдо знал, жар-птицы не упустит.
До Вены его величество добрался через голландские и германские земли только летом. Дел у государя при императорском дворе было много, и главнейшее – укрепить союз против турецкого салтана. Цесарь Леопольд царя обхаживал, звал «дорогим братом», сулился верной дружбой до скончанья времён, а сам тем временем сговорился с Портой о замирении. Для Петра Алексеевича австрийское коварство было, как Перун средь безоблачного неба.
Лучшего мига для разговора о Разведочном приказе и помыслить было нельзя. Великая политическая конфузия произошла единственно из-за того, что глаз своих у Великого посольства не имелось, принимали всякое слово на веру.
Во время аудьенции (по-старому – «великогосударева очезрения») Автоном Львович всё продуманное высказал, прибавив ещё, что одной сведки мало, надобно в Москве и вдоль рубежей посадить знающих служилых людей, кто станет иностранных сведчиков выявлять. Ибо ныне, когда Россия стала игроком на европской шахматной доске, хлынут и к нам англицкие, французские, цесарские и прочих стран спионы. Так уж устроен мировой политик.
Хоть внутренне Зеркалов и трепетал, но излагал свои мысли складно и ясно. Был у Автонома особый к тому дар. Выслушан был как должно – со вниманием.
– Дельное глаголешь, – изволил обронить государь, а далее молвил то, на что челобитчик больше всего надеялся. – Затея нужная, большая. Ты придумал, тебе и…
Но недоговорил, нахмурился. Круглые глаза венценосца неистово сверкнули.
– Погоди. Ты какой Зеркалов? Не тот ли, что у Софьи служил? Завтра приходи. Подумаю, как с тобой быть…
«Эх, Софья-Софья, чтоб тебе удавиться в твоей келье! Всю жизнь ты мне сломала», – горько думал Автоном Львович, чувствуя, сколь опасно накренилась колесница его судьбы.
Накренилась, но пока ещё не перевернулась, как это случалось прежде – сначала из-за Софьиной бабьей слабости, потом из-за сатанинского происшествия в Синем лесу, когда по тёмному стечению обстоятельств разом пропало всё, на чём Автоном собирался зиждеть своё счастье.
Ночь он не спал, готовясь к новой беседе. И надумал, как поправить дело – не просто выровнять колесницу, но ещё и быстрей да ровней прежнего запустить.
Раз в Петре за минувшие годы ненависть против сестры не остыла, нужно пасть в ноги его величеству и рассказать про Сонькино блудное зазорство. Эту тайну Автоном Львович полагал для себя поберечь (имелось у него на сей счёт некое намерение), но ради государева доверия ничего не жалко. Пусть видит Пётр, что Зеркалов с царевной рвет крепко, навсегда. Власть этакую верность в человеках ценит.
Плохо ли было задумано? Куда как крепко. Но не назначила Фортуна зеркаловской колеснице гладких дорог. Вновь, уж в который раз, не повезло многотерпцу.
Второй встречи с царём не случилось. Назавтра из Москвы, от князь-кесаря Фёдора Юрьевича Ромодановского, примчался полумёртвый от скачки гонец. Привёз тревожную весть месячной давности: стрелецкие полки взбунтовались, идут на Москву. Стало Петру не до сведочного приказа.
Явился Зеркалов к назначенному часу в гостевой дворец, где остановился царь с приближёнными, а там все бегают, шепчутся. Чья на Москве взяла – наша иль ихняя?
Пока гонец пыль по дорогам взбивал, всё уже там, в двухтысячеверстной дали, разрешилось: или князь-кесарь бунтовщиков разметал, или они в столицу вошли, на правленье Софью вернули – кого ж ещё?
Александр Васильич Кирьяков, царский денщик, сказал: «Вот тебе, Автоном, случай – свою верность доказать. Скачи в Москву. Если узнаешь по дороге плохую весть – возвращайся быстрее ветра. Если ж, по Божьей милости, верх взял Фёдор Юрьевич, передай ему от государя письмо. А на словах прибавь: сыск вести строго, крапиву обрывать не по верху, дойти до самого корня. Он поймёт».
* * *
В первые дни бешеной скачки Автоном Львович ещё убивался из-за своего невезения, а пуще того страшился за сына. Ведь если Софья села в Кремле, она за пропавшую дочь, за стольникову измену весь зеркаловский род в пыль разотрёт – есть за что.
Но в Львове-городе узнал, что в Московии смута подавлена и власть царя Петра сохранилась. Тогда ход мыслей переменился.
Можно было, конечно, повернуть назад и доставить отрадную весть первым, обогнав эстафету. Хорошим гонцам испокон веку полагается награда. Однако, поразмыслив, Зеркалов делать того не стал, а двинулся дальше, ещё быстрей прежнего.
Невелика птица гонец, хоть бы и с благой новостью. А тут можно было, наконец, в Москву вернуться. Там, во-первых, сын Петруша. А во-вторых, чутьё подсказывало, хорошие времена настают. Ключевые.
Во всей России, кроме Зеркалова, тогда, может, один только человек уразумел, что весь стержень государственности отныне поменяется. Человеком этим был князь-кесарь Ромодановский, муж огромного ума – холодного, дальновидного. Через стрелецкую дурь, через Петров страх перед бородатыми крикунами можно было всю Русь на иную ось пересадить. Главной государственной опорой отныне будет не боярская дума, не казна, не войско, а ведомство третьестепенное, никогда прежде большой силы не имевшее. Оно царя, когда надо, напугает, а когда надо, успокоит. Кто ведает страхом, у того и власть – вот какое открытие сделал князь Фёдор Юрьевич, глава Преображенского приказа.
Названием своего детища князь-кесарь втайне гордился, о чём был у него с Зеркаловым в первый же день памятный разговор.
Порасспросив венского гонца о том, о сём, Ромодановский сразу понял: человечек полезный, пригодится – велел Автоному состоять при себе. И разговаривал не как со слугой, а как с помощником и единомысленником.
– Иные из моих дьяков сетуют. Мол, зовут нас «Преображёнкой», и сие нам в умаление. Надобно-де, как прежде, именоваться Приказом тайных дел, для острастки, – по своему обыкновению, медленно и лениво ронял слова Фёдор Юрьевич. – Псы они, дьяки-то. Острые зубьём, да не умом. «Преображенский приказ». Звучит-то как! Музыка сладостная! Прикажем – вся Русь под неё запляшет, преобразится.
Слушая подобные речи, Зеркалов таял душой. Вот начальник, перед которым не стыдно себя преклонить! С этаким орлом и сам воспаришь. Вот кого надо держаться!
Не зря Пётр этого рыхлого, отечного дядьку сделал своей правой рукой. Не Лефорта, не Бориса Голицына, хотя те царю во сто крат милей. Государь знает, с кем Хмельницкого гонять и шутихи шутить, а кому настоящее дело доверить. Ромодановский – скала, дуб несокрушимый, дракон огнедышащий. Счастлив монарх, кто может беспокойную державу оставить на такого наместника, а сам укатить в чужие земли на целых полтора года!
Ни единого часа на семейные дела не дал строгий начальник Зеркалову. Сразу же кинул в самое пекло, поручив сложнейшее направление всего большого сыска: выявить, не было ль у стрельцов тайных сношений со старым боярством да дворянством.
Было бы это истинно золотое дно, а не направление, если б не кесарев строгий догляд. Многие знатные семьи щедро бы платили Автоному Львовичу ни за что – просто чтобы обошёл их своим страшным вниманием. Но Ромодановский был известен тем, что мзды отродясь не брал, богатств не стяжал и за корыстное умышление своих людишек, кто попадался, карал смертью. Так что животишек за горячие эти недели Зеркалов не нажил нисколько, ещё и поиздержался.
Перед тем как явиться в Вене к государю, он, желая понравиться, сильно потратился на гар-де-роб, сиречь обновил весь платяной наряд. Бороду-усы обрил, макушку прикрыл алопжевым париком, чулков одних шёлковых, по восьми талеров, накупил дюжину пар. Пусть зрит его величество, что Автоношка Зеркалов, хоть годами и немолод, но и не стар ещё, ибо человек передовой, европейского замеса. Без длинных волос и бороды он и правда помолодел, седины-то стало не видно!
А только в Москве, у князь-кесаря, одевались пока по-старинному. Фёдор Юрьевич был муж исконного обычая, без Петра же вовсе разнежился: ходил в распашных охабнях до земли, в мягких татарских сапогах, лысину любил покрывать тафтяной тюбейкою. Пришлось Автоному Львовичу сызнова в расход входить. Венгерский кафтан пошил, портков широких, сапог сафьяновых. Хорошо, хоть усы сами, бесплатно вылезли. А бороду запускать Зеркалов не стал, всё равно настоящая скоро не вырастет. Будешь, как дворовый кобель, с серыми клоками на роже ходить.
Ладно, деньги – дело второе, была бы сила. Главный урок Автоном Львович схватил на лету: подлинная сила у того, кого трепещут. Трепет же в эти два месяца он сумел внушить, ох многим. Кто забыл Софьиного ближнего стольника – вспомнили. Кто знать не знал – узнали.
Одних Зеркалов, прочим в наущение, втянул в розыск крепко, до вопля и рыдания. Других попугал, да отпустил. Чтоб век помнили, благодарны были.
Сам-то он быстро разобрался, что никакого заговора в Москве не было. Жёнки стрелецкие за мужьями скучали и лясы точили, это было. Попы староверные врали, будто царь в заморской земле помер, тоже было. Однако никакого сговора между знатью и стрелетчиной не водилось и водиться не могло, ибо бояре с дворянами – это одно, а стрельцы – совсем другое, меж ними давняя вражда и взаимное неверие.
Фёдор Юрьевич эту правду не хуже своего помощника знал, однако, когда, на самом исходе лета, царь вернулся в Москву и велел копать истовей, глубже, безжалостней, князь-кесарь перечить не стал. Колесо сыскное закрутилось вдесятеро быстрее. Преображенские дьяки в очередь писались – на пытку в расспросные избы.
Не спали работнички, ели всухомятку, вина и подавно не пивывали. А никто не роптал. И за страх, и за совесть радничала Преображёнка. Чуяла, что ныне становится наипервейшим из приказов.
Бояре шептались про Ромодановского, что вот, мол, свой природный князь, хорошего роду, а в христианских кровях омывается, слезами упивается, но Зеркалов знал: не душегубствует Фёдор Юрьевич, не свирепствует попусту. Выковывает столп железный, на коем стоять отныне всему Российскому государству. Прочно стоять, грозно, подотчётно. Была Московия деревянным царством, а впредь будет железным. Будет бить своих, чтоб чужие боялись, и чужих, чтоб боялись свои.
Следствие по стрельцам, по инокине Сусанне (так нарекли постриженную Софью), по охвостью Милославских разворачивалось обширное, конца-краю не видно.
Яха Срамнов был при Автономе Львовиче неотлучно, как в Пустозерске и на неметчине. И глаза, и голова, и руки – всё карлино естество исправно служило хозяину, всё пригождалось. Иногда, если попадался особо упорный пытуемый – никак не желал показывать, что потребно Зеркалову, приказного палача отпускали отдохнуть, звали Яху.
Он подойдёт к подвешенному. Походит на коротких ножках туда-сюда, поглядит, понюхает. Потом кнутом разок ожгёт, или даже просто пальчиком куда-то ткнет – и готов раб Божий. Завоет воем, заизвивается. Что надо скажу, кричит, только чёрта этого уберите.
Всё б хорошо, всё б ладно, если б не тоска по сыну, которая теперь мучила Автонома Львовича вчетверо сильней, чем в Пустозерске или Мюнхене. Ведь полсотни вёрст до Клюевки! Шесть часов рысяной скачки, если одвуконь. На повозке ехать – день.
Так бедный отец и протомился бы по меньшей мере до Рождества (ранее того сыску закончиться было никак невозможно), если б не надумал, как совместить два заветных чаяния – разумнополезное с душеотрадным.
Волшебные слова, что отворили перед Автономом Львовичем дверь служебного заточения, были таковы: «милославское семя». О непреходящей лютости царя к Милославским знали все. Этот род, некогда один из славнейших на Руси, был выведен почти под корень, но Петру всё мало. Не столь давно устроил Софьиному деду по матери, давно почившему князю Ивану Милославскому, небывалую доселе посмертную казнь: выволок из могилы гроб, велел раскрыть, поставить под эшафот и поливать кровью четвертуемого стрелецкого полковника Цыклера. Вон оно как!
Посему, когда Зеркалов заговорил о своём зяте, Матвее Милославском, да о том, что заради государевой правды ни родственника, ни свойственника не пожалеет, кесарь глазищами так и засверкал, а ноздри раздул, будто волк, учуявший запах свежей крови.
Автоном же гнул свое, искусно сплетая истину с ложью. Мол, князь Матвей человек тихий, себе на уме, близ Софьи никогда сам не вертелся, однако ж царевна к нему благоволила, в последнюю пору хотела приблизить, а жену его, Автономову родную сестру, даже сделала своей ближней боярыней. Ныне Матвей вдовеет, сидит безвылазно у себя в Сагдееве. А деревенька та от Москвы всего в полудне пути. Куда как удобно для тайного изменнического дела! Зная Матвейку, прехитрого лиса, трудно-де ему, Автоному, поверить, что тот в стороне от заговора был. Не навестить ли дорогого зятька? Не погостить ли, не приглядеться ли? Не потянется ли оттуда какая полезная для сыску ниточка?
Расчётец оказался верен. Поезжай немедля, сказал лукавому помощнику Фёдор Юрьевич. Погости у зятька сколько для дела надобно. И ежели хоть в чём, хоть в малости какой зацепочку сыщешь… ну, не мне тебя учить. А верность тебе зачтётся.
От князь-кесаря Автоном Львович вылетел, будто на крыльях.
Вот оно! То, чего девять с лишним лет чаял, отчего бессонными ночами в бессильной туге подушку грыз!
В Сагдееве таилось, ожидало своего часа зеркаловское счастье. Там, там, где же ещё!
Проклятой грозовой ночью, когда у Автонома из рук выпорхнула пойманная жар-птица, неведомые похитители угнали телегу по сагдеевской дороге.
Яха после выяснил, окольно, что княгиня Авдотья померла, но её новорожденная дочка жива и воспитывается у отца. Значит, и сокровища там: бочонки с несметным богатством и, главное, царская святыня – Девятный Спас. Сидит боязливый, осторожный князь Матвей на краденых сокровищах, яко паук. Ждёт своего часа. Золота он не трогал, разве что чуть-чуть зачерпнул – не на что ему было в своём Сагдееве сто тысяч рублей стратить. А икону упрятал, не нарышкинскому же семени её отдавать?
Долго выжидал Автоном свой час и наконец дождался! Ну, зятёк, скоро обнимемся.
Однако, вырвавшись из Преображенского на волю, Зеркалов помчался, конечно, не на север, в Сагдеево, а на юг, к реке Пахре, в свою деревню Клюевку. К сыну.
Сердце нетерпеливо колотилось в груди, того гляди вырвется и полетит впереди коня.
Ибо, что есть всё злато подсолнечного мира, все его суеты и соблазны пред отецкой любовью? Прах и перхоть.
* * *
Для быстроты скакал налегке, верхом. Яха на своём крохотном коньке сначала сильно злил Автонома Львовича, потому что отставал. Но за тридцатой верстой, когда каурая хозяина начала приставать, сбиваться, конёк себя показал. Теперь он дроботно потаптывал вровень. Правда, и ноша у него была невеликая.
Надолго оттягивать поездку в Сагдеево было нельзя, но уж одну-то ночку, поглядеть на Петрушу, Зеркалов себе выделил. И на сына посмотрит, и себя сыну покажет. Тут ещё неизвестно, что важней.
Жить же скоро станут вместе. Вот сыск закончится, получит Автоном награду за рвение, обзаведётся на Москве домом. Ну, а если получится в Сагдееве заветное добыть, тогда… Тогда обитать Зеркаловым во дворце, едать-пивать на золоте, разъезжать не в седле – в карете с зеркальными стёклами.
Клюевка была деревенькой плохонькой, стоявшей на скудных землях. В лучшие годы староста выручал с проданного урожая много двести рублей, да и тех Автоном себе не брал, велел тратить на сына.
Но когда завидел на косогоре серые убогие избёнки, освещенные закатом, показалось – град небесный в златом сияньи.
Взбодрив взмыленную кобылу татарским посвистом, Зеркалов поднёсся к островерхому господскому дому размашистой наметью. Соскочил с седла, взбежал на высокое перильчатое крыльцо.
Навстречу семенил Минька Протасов, староста, вытирая с трясущихся губ кашу. Приезд барина застал старика врасплох, за вечерней трапезой.
– …Радость-то, радость… – лепетал он, с ужасом глядя на Автонома Львовича.
– Петруша где? Здоров?
Приехавший нетерпеливо заглянул под низкую притолоку в одну горницу, в другую.
– Так слава Богу…
Минька нырнул в боковую дверцу, привел оттуда худенького мальчонку в чистой белой рубашке, перепоясанной узорным ремешком. Разглядеть получше в тёмных сенях было трудно.
– Я это, тятя твой… – Голос у Автонома дрожал и рвался. – Пойдём на свет, поглядим друг на дружку.
Бережно, будто великую драгоценность, взял сына за тонкую вялую ручку, повел на крыльцо. Тот головы на отца не поднимал. Робел – понятно.
Автоном сам перед сыном на корточки присел, впился взглядом.
Бледное личико под стриженными в кружок золотыми волосами было не оробевшим, а безучастным, пустым. Ничто в этом безмолвном сонном отроке не напоминало крохотного младенчика, с которым Автоном Львович простился девять лет назад, перед роковой поездкой в Троицу. Лишь глаза были того же невиданного лилового оттенка. Но смотрели они мимо Зеркалова. Куда это?
Отец растерянно оглянулся. На карлу, спускавшего со стремени свою короткую ногу, вот куда.
– Яшка это, холоп мой. Ты его не бойся.
Однако непохоже было, что Петруша боится. Взял и перевел взгляд с Яхи на красный полукруг солнца, уползавшего за край земли.
– Он этак может и час, и два, на небо-облака смотреть, – тараторил за спиной Минька. – Или сядет у окна, целый день сидит. Не позовешь кушать – сам не попросит…
– Мой сын что… малоумен? – Зеркалов взял старосту за плечи, спрашивал же шёпотом. – Головой хвор?
Перед глазами у Автонома расплывались и лопались круги, то чёрные, то белые. Нет, не могло быть, чтоб мальчик народился дурачком блаженным!
– Погодь! Ты же писал, учителя к нему ходят?
– Ходили… Сначала дьячок. Бился-бился, а Петруша ни гу-гу, ни полсловечка. Розгой-то его, как других, нельзя, ты это строго заказал. А без розги как спросишь? Я дьячку говорю: долдонь своё. Он всю науку честно зачёл – и азбуку, и псалтирь, и цифирь. – Минька торопился оправдаться, побольше сказать, пока барин слушает. – В Москву я поехал, бурсака учёного добыл. По два рубли платил, на всём готовом. Тоже усердный попался. И про заморские страны чёл, и про звёзды на небе, и про божественное. Бывало, зайду – так-то складно, заслушаешься. А барич сидит, пальцем по столу водит или в окно глядит. Слышит ли, нет ли, – не поймешь…
– Почему о том не отписывал? – с трудом выдавливая слова, перебил Зеркалов старостино лепетание.
– Страшился, осерчаешь…
– Страшился? Пёс!!!
Двумя руками, не помня себя, Автоном схватил Миньку за жилистое горло, стал бить головой о придверок: на! на! на! Опомнился, лишь когда вспомнил о сыне. Но поздно.
Весь косяк был в красных брызгах, глаза у Миньки закатились под лоб, и стоило Зеркалову разжать пальцы, как тело грузно увалилось ничком.
– Не гляди, Петруша! – в ужасе воскликнул Автоном Львович. – Он плохой! Поделом ему! А на тебя я нисколько не гневен!
Далее же случилось такое, отчего родитель обмер.
Петруша не явил ни страха, ни смятения. Напротив, в его удивительных глазах впервые мелькнуло нечто живое, похожее на любопытство.