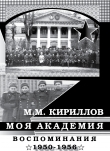Текст книги "Смерть Кирова"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Но вот когда в 1929 году отправил Троцкого в ссылку, когда понял, что ему подвластно все – растерялся, плебейский страх объял душу, все надо было решать быстро, пока не вернулся барин, виртуальный хозяин, но – настоящий (образ грядущего завоевателя трона преследовал его всю жизнь). Страшился ситуаций, когда выбор мог поставить его в невыгодное положение, грозить проигрышем. Затаивался, молчал, думал – а время поджимало, время вопило: “Давай, давай!..” Время взывало к разуму, к знаниям, которых у Сталина никогда не было ни в избытке, ни в даже достаточном для политика объеме. Этот латентный период тягостного вызревания спасительного решения длился у него от десяти до пятнадцати дней, примерно столько пошло на подготовку к выступлению по радио 3 июля 1941 года. Буйство альтернатив иссушало мозг в эти томительные дни и недели, голову ломило от переплетения вариантов; весы, на которых соизмерялись альтернативы, оказались грубыми; в эти мучительные дни он становился особо нетерпимым для подчиненных, и те, разгадавшие причину сталинских гневов, старались побыстрее подтащить его к выходу из кризиса. “Оба хуже”, – так отозвался он на вопрос, какой уклон, левый или правый, хуже для партии, и все считают это юмором Сталина. А ответ был выстраданным признанием.
Утопая в море вариантов, неизбежных при выборе наиболее верного и точного, Сталин хватался за соломинку, использовал подделки, фальшивки, муляжи, и превосходно зная цену выпытанным показаниям арестованных, мог с легкостью приказывать: “Пересмотреть дело такого-то!”
Вот оно – трагическое одиночество соглашателя, на которое он обрек сам себя, после выстрела в Смольном вынужденный навсегда расстаться с оппозицией. Все годы до гибели Кирова он то отстранялся от нее, то прислонялся к ней. Диктатура теперь, после 1 декабря 1934 года, становилась и спасением и бедой!
Психиатры дадут точный диагноз такому замедлению мысли, оно даже не болезнь, ей подвержены все люди, но простому человеку, обремененному бытовыми неурядицами, двузначность выхода из затруднений чаще всего решается без ощутимых последствий для него, с минимальным риском. Но для главы правительства, да еще в решающие моменты государственного бытия, такая замедленная реакция – нетерпима, более того – преступна, и в жизни Сталина, если в ней покопаться, найдутся роковые для него обстоятельства и даты, после которых и возникла эта вялость мысли, эта боязнь, эта аномалия психики, катастрофически повлиявшая на него, на его подчиненных и всю систему правления.
И еще одна беда: пугался выбора – и тянулся к нему. Лишил накануне войны разведку права анализировать информацию, сам решил стать оценщиком ее – и обманут был Гитлером. И не раз еще попадался на собственной неспособности прилагать мозги к решению сложнейших стратегических задач. Способствовать или препятствовать образованию государства Израиль? Станет ли оно защищать интересы СССР на Ближнем Востоке? Вопрос для того времени таков, что ответ напрашивался сам собой, достаточно сравнить количество евреев на Западе и в СССР да учесть, а где вообще находится еврейский капитал; вопрос, короче, настолько простой и не требующий умственных усилий, что доступен Ворошилову. А Сталин решил: добиваться признания Израиля, помочь оружием. И просчитался, евреям много ближе был Запад. Что последовало дальше – известно.
Мышление Сталина, не способное решать стратегических задач, было целиком построено на прецедентах, он был истинным корифеем в делах, что под рукой, хорошо запоминал цифры, строил выводы, простиравшиеся на месяц-другой, прекрасно улавливал настроение собеседника, рептильные душонки своих соратников видел насквозь, мог – хам по натуре – превосходно вести себя “в обществе”. В 1941 году лично распределял санитарные машины (какому фронту больше, а кому и меньше), в чем весьма преуспел и, можно уверенно сказать, распределил талантливо. И утверждал списки на фуфайки и валенки для строителей МГУ, никого не обделяя.
Нет, не умел он смотреть на много лет вперед, не было у него того полета искрометной мысли, как у врагов – Троцкого и прочих, лишен был дара предвидения, страшился учитывать случайности, и не могло быть иначе: как может мозг научиться предвидению, если он постоянно сконцентрирован на обязательной сегодняшней победе над очередным врагом.
После выстрела в Смольном уничтожение свидетелей собственной дурости стало первостепенной задачей Сталина: нет свидетелей – нет и разъедающего душу прозрения. Аресты шли за арестами. Людей сажали за упоминание в письмах фамилии “Киров”, за былое общение с ним или случайную встречу. Все пошли под нож, все те, кто хотя бы косвенно, боком и далеко от Смольного, причастен был к событиям в Ленинграде – или не причастен, какая уж тут разница. Судилище за судилищем, “Московский центр” за “Ленинградским”, намечался еще один открытый процесс, под расстрельные статьи тащили “Ленинградский вредительский, шпионский, диверсионный центр”. И отменили вдруг. Потому что Вождь глянул на “членов” центра и обомлел: на скамье подсудимых сидели бы соратники Кирова, секретари обкома и горкома, руководители областных и городских контрольных комиссий, секретари райкомов партии и руководители профсоюзных и советских учреждений, культуры и печати, транспорта и кооперации, – то есть все те, на кого опирался Мироныч в Ленинграде, и получалось, что либо сам Киров проявлял преступную халатность, окружая себя врагами рабочего класса, либо сам был скрытым врагом.
Выводы после выстрела в Смольном были сделаны колоссальные по значению. Во-первых, никакого усиления охраны самого Сталина не последовало, в этом и нужды не было. Во-вторых, поставлены под жесткий партийный контроль органы НКВД, для чего снят Ягода и на его место назначен Ежов, Сталин вообще решил избавиться от профессионалов в руководстве НКВД, их и начали постепенно изгонять, судить, расстреливать, на замену им пришли такие же, как Сталин, недоучки, но проводящие оперативно-розыскные мероприятия только с санкции высших органов партии. В-третьих, интуитивно найден способ избавления себя от мук выбора, и способ заключался в том, чтоб коллегиальный орган, то есть Политбюро ЦК ВКП(б), сплошь состоял из людей, с ним всегда согласных, преданных ему, и люди эти стали помогать ему – молчаливым или немолчаливым согласием, одобрением, помогающим преодолевать страх, начинавший его охватывать, когда над Сталиным топором нависал выбор. Приглашал преданных ему сотоварищей в кабинет, рассаживал этих статистов, ходил за их спинами (всех заранее предупреждали: не поворачиваться); зверь в засаде по шорохам трав и шевелению веток улавливает приближение жертвы – так и Сталин догадывался, кто безмолвно соглашается с ним, а кто безгласно возражает. Цирковая лошадь по дрожи ресниц дрессировщика поднимает ногу и бьет копытом ровно столько раз, сколько тому надо, – точно такой чуткостью и обладал Иосиф Сталин, по мельчайшим, никому не видимым приметам узнавая, кто о нем что думает. Тяжкое бремя дум возлагать на себя не умел, ошибался и ошибался, принимая самые очевидные решения, пренебрегая здравыми доводами, и само окружение, им подобранное и вознесенное, коллективное отражение его “Я”, подстрекало Сталина, подталкивало к ошибкам. После испанской кампании созвал на совещание прибывших оттуда генералов и полковников, стали сообща подводить итоги, встал неизбежный вопрос о танках: как они в Испании – оправдали себя? Оправдать-то оправдали, так отвечали генералы, но только в тесном взаимодействии с пехотой и небольшими группами, и посему крупные танковые соединения типа бригады или корпуса – небоеспособны. С чем товарищ Сталин и согласился, да вдруг пискнул один из приглашенных, впервые на такое совещание попавший, человек не комильфо по кремлевским понятиям, поскольку правил приличия не знал и к кремлевскому небожителю обратился не “товарищ Сталин”, а чересчур фамильярно: “Иосиф Виссарионович”. Этот человек высказал следующую мысль: нельзя по Испании судить о роли танковых соединений, Испания ведь – гористая страна, там танкам мешал рельеф местности!.. Тут бы “товарищу Сталину” и задуматься, представить себе характер будущей войны и будущий театр военных действий в лесостепях Европы. Но думать не стал, противное это дело для него, да и Тухачевский, старый враг, что-то там предрекал, на чем-то настаивал. И с генералами этими и полковниками так хорошо себя чувствуешь! Поэтому решено было: танки – придавать пехоте, и только! А разные там механизированные корпуса и танковые армии – да пусть немцы тешатся ими!
А уж порядки в этом коллегиальном органе, в Политбюро… Некий проект предполагаемого решения ходил по кабинетам, Сталин редко подписывал его первым, он нуждался в большинстве.
И Сталин, и Киров, и Николаев, и весь люд, населявший СССР, – все они были фигурантами Большого Дела, заведенного ЧК—ГПУ—ОГПУ—НКВД. Орган этот подчинялся партии и только партии, но, как все учреждения в мире, хотел быть автономным, и самостоятельность его в СССР становилась чрезмерной, порою угрожающей. Едва успели расправиться с “Ленинградским центром”, как заварилась каша с “Кремлевским делом”, из полотеров и уборщиц Кремля выбивали показания во вредительстве, окружение Сталина поджалось, как собака при виде палки. (И в Ленинграде, и в Кремле орудовал тот самый Люшков, что впоследствии перебежал к японцам и отрицал какую-либо виновность вождя в убийстве Кирова.) Карающий меч революции колол, рубил и сносил головы кому попало, и вовсе не рука партии держала его, меч обречен был на неповиновение. Органы вели себя так, будто СССР – страна, оккупированная внутренними войсками НКВД. Население рассматривалось безоружной, к счастью, массой, враждебной правительству и, естественно, самим органам. Обширная сеть информаторов присуща любому государству, но вербовка агентуры происходила в СССР так, будто порабощенное население обязано было строчить доносы беспрекословно, а отказ сотрудничать приводил к жесточайшим наказаниям, чаще всего – бессудным. И – при полной ненаказуемости самих этих органов.
Много позднее, в 60-х годах ЦРУ при планировании своих операций рассматривало территорию СССР как оккупированную войсками КГБ, а население – порабощенную оккупантами людскую массу; лишь опыт войны в Северном Вьетнаме, где безвозвратно пропадали заброшенные туда агенты, скорректировал планы. И некоторые дальновидные теоретики вынуждены были признать, что оккупация 1/6 суши земного шара кое-чем отличается от аналогов Второй мировой войны. Такие взгляды на СССР проникли в широкую печать, что вызвало возмущение советских публицистов. Гнев их понятен, но и ЦРУ можно понять. Глава НКВД Ленинграда Медведь охрану Кирова именовал “разведкой”, причем не в частном разговоре, а в официальном документе, и вся терминология сыскных ведомств СССР строилась по предубежденному принципу: кругом – враги. (“Резидент” – понятие, применимое к агенту за рубежами страны, которой он служит, человек, с которым на связи завербованные им информаторы. Но НКВД и в собственной стране называло резидентами своих сотрудников, работавших в советских учреждениях и имевших явочные квартиры.) Органы в центре и на местах отваживались на самодеятельность, ОГПУ, к примеру, сопротивлялось выселению раскулаченных крестьян, поскольку пропускная способность его была столь низкой, что транспортировка арестованных к местах поселения могла затянуться на годы (голодомор 30-х годов в значительной мере объяснялся нехваткой транспорта).
Опытный аппаратчик Сталин, едва оправившись от декабрьского потрясения, принял временные меры против сумасбродства ретивых служак из НКВД.
Так родилось известное “дело Молотова”.
Еще Ягода возглавляет НКВД, еще удерживают свои кресла начальники областных управлений, еще звенит в ушах выстрел Николаева – и Сталин решается на акцию, взволновавшую историков и политических деятелей, отраженную в десятках, если не сотнях публикаций. Мысль его проста: очередной лжезаговор, – а он возможен, – с умыслом на покушение направится против кого-либо из членов Политбюро. Их-то Сталин знал как облупленных, и ценил только Молотова, усидчивого и въедливого, трудоголика по нынешней классификации, человека государственного типа мышления. (Что и выявилось много позднее: уже перестройка, уже перекраивают прошлое, объявляя недействительными договора и соглашения, то есть продукты времени, принадлежащие только времени изготовления и без срока годности; уже показаны копии секретных приложений к пакту Молотова—Риббентропа, а Молотов продолжает упорно твердить: никаких приложений к пакту не было.) И терять такого преданного делу чиновника Сталин не хотел, зная истинную цену Кагановича, Ворошилова и прочих лакеев. Вероятность же того, что какой-либо новоявленный Запорожец сварганит бестолковый план покушения и Молотов погибнет, – возможность такого финала не исключалась. И происходит таинственное явление: Молотов вдруг становится никчемным работником! Членам “Московского центра” (январь 1935 года) приписывается уничтожение членов ПБ – всех, кроме Молотова! Чтоб уж никаких сомнений не оставалось, обвинитель Вышинский несколько раз уточняет в допросах на суде список тех, кого оппозиционеры намеревались убить, и всякий раз Молотова в будущем мартирологе не оказывалось. Материалы же первых допросов участников показывают: следователи НКВД приписали им покушение на Молотова, но Сталин, изучив показания, приказывает зачислить в жертвы приготовляемых убийств Чубаря, Калинина, Андреева, а Молотова – вычеркнуть. Одновременно забывается и “кемеровский” эпизод с Молотовым в сентябре 1934 года, когда при поездке по Кузбассу машина с Молотовым едва не свалилась в кювет, шофера Арнольда тогда простили. Много любопытных версий выдвинуто о внезапном охлаждении Сталина к лично ему преданному Председателю Совнаркома. Но в 1936 году, уже при Ежове, когда охрана Сталина и все членов ПБ была усилена и вообще начала функционировать под сильным надзором самого Сталина, – тогда “опала” с Молотова снялась и повторно допрошенный Арнольд признался, что хотел сбросить верного сталинца Молотова в пропасть.
Таково было недоверие Сталина к собственному карающему мечу, так до конца жизни и не изжитое. Догадывался, знал, что он уже пленник созданной социализмом системы, что ни на НКВД, ни на МГБ—МВД узду не наденешь, никакой контроль за ними невозможен, и единственное, что мог сделать – приказал все расстрельные списки пропускать через него. Однажды вслух и серьезно заявил, что желал бы после своей смерти видеть во главе правительства Вознесенского, а лидером партии – Кузнецова. Сказал – и ничуть не удивился, когда ему на стол положили материалы, изобличающие Вознесенского и Кузнецова в измене.
“Кировский поток”, то есть изгоняемое из Ленинграда население, начал опустошать город еще при Кирове, но только после гибели его забурлил. У Сталина к тому же всегда маячил в воображении суд над И.В. Джугашвили, все бытовое и политическое поведение его – психологическая подготовка к неизбежной расплате за позорные ошибки, за все, он представлял себя осуждаемым – и уничтожал поэтому свидетелей как обвинения, так и защиты – по мере убывания первых. Прощенные им Запорожец и Медведь были в 37-м расстреляны, Артузов – тогда же, из всего следственного аппарата кировского времени уцелели ничтожные единицы, Шейнин, к примеру, помогавший Агранову изобличать оппозицию, Райхман, юркнувший за спины коллег. Прочесали всю страну к началу 1938 года, на Ягоду (его не сразу взяли, потому что надеялись: он отловит всех причастных к авантюре) надели намордник, бывший нарком коротал остаток жизни в камере. Он, как и все вовлеченные в лжезаговор, превосходно понимал: признание в том, что он сотворил, ведет к немедленному расстрелу, зато согласие с липовыми обвинениями дарует некую вероятность сохранения жизни.
Всю страну перетрясли. Вспомнили и о журналисте Гарри, который о многом мог догадаться, не спасла его известность и два ордена Красного знамени; наградили и третьим, когда сидел в тюрьме, о чем ему сообщил сам Фриновский, заместитель Ежова, “по-дружески” пригласив в свой кабинет, там же, на Лубянке.
Известных Кирову ленинградских большевиков либо расстреляли, либо рассовали по гибельным лагерям.
Всех – но не всех.
В живых оставался последний, тот, кто был поумнее чекистских душегубов, консультант, если не разработчик не по его вине сорванной операции, а таковым мог быть, пожалуй, только он, Абрам Слуцкий, руководитель ИНО, шеф внешней разведки, которому в середине 30-х на откуп отдали большую часть Европы, где он создал самую эффективную для того времени агентурную сеть. По какому-то недоразумению, так считали многие, продолжал жить и служить тот, который, обматерив в разговоре “троцкистских собак”, тут же всплакивал над несчастной судьбой их. Кто каждый прожитый день считал подарком судьбы. Бессчетно тративший деньги в кабаках Парижа и Берлина, Слуцкий и московские пьянки обставлял с западным шиком. Еще не закатилась звезда Ежова, казни в аппарате НКВД набирали мощь и размах. Комиссары Госбезопасности всех рангов послушно подписывали уничтожавшие их протоколы и признания, на партсобраниях с пеной у рта спорили, кто больше повинен в преступлениях, то есть кто чаще перекидывался словечками о погоде с только что арестованным соседом по лестничной площадке. А Слуцкого не трогали. Долгоживучесть его объясняют заботой НКВД о закордонной агентуре, она будто бы сдаст себя мировому империализму, когда узнает об аресте шефа. (Поскольку позднее этого она не сделала, то поневоле родилась мысль о двурушничестве, и, повинуясь еще одному взлету большевистской мысли, разведчиков звали в Москву и уничтожали.)
Всех вроде бы расстреляли к началу 1938 года, а сорокалетний комиссар Госбезопасности второго ранга Слуцкий Абрам Аронович все еще ходил в Москве по утрам в свою контору и рассказывал анекдоты. Циник, жуир и аналитик сохранял в себе слезливое человеколюбие местечкового парня и пустобрешество хитрого балагура. Мог в частных разговорах отрицать очевидное и утверждать невероятное, задуривая собеседников. Был он мудрым евреем, а каждый еврей знает, как недолог его век, если перейдет он некую черту, проведенную не им самим, не еврейским богом, а непознаваемой судьбой, в чем и суть избранности. (Отсюда и почти трансцендентная связь судеб с чертой оседлости.) О существовании такой черты ему не думалось в бытность монтером хлопкоочистительного завода в Андижанском уезде, да и позднее на ум не приходили мысли о границах бытия. Допрашивать его по любому делу было смертельно опасно, Слуцкий мог не только лишнего наговорить, но и с лишнего начать при аресте. Удостоился он поэтому исключительно высокой чести, погиб на боевом посту, был приглашен в кабинет Фриновского; подуставшему шефу внешней разведки предложили чай, вино, пирожные. Отравленный ядом, он и скончался там, унес в могилу детали ленинградской операции, фамилии и адреса. А может – и просто помер в кабинете, знало отзывчивое сердце его о расстреле Запорожца, которому верил и который ему поверил, о допросах скупого на слова Ягоды. Нет Слуцкого – в живых еще заместитель его, красавец Шпигельгласс, майор Госбезопасности, человек, которого тянуло к конторским счетам, финансы, видимо, были его стихией, но революционная буря на гребень волны взмывает не только ошметки моря, но и лежавшие на дне бриллианты, и судьба превратила царского прапорщика в советского разведчика, в ноябре 1937 года награжденного орденом Ленина за хищение и переправку в СССР из Парижа генерала Миллера, руководителя РОВСа. Заветную еврейскую черту угадывали гои, славяне, немцы и прочие, они-то и предположили, что преемник Слуцкого что-то да может знать о ленинградской мистификации. Знал или не знал, но в черту Шпигельгласс, человек очень чуткий, посвящен был, и как только чекисты вошли в его кабинет, он распахнул окно, раскинул руки крыльями, шагнул – и полетел к земле, оставив позади черту, ринулся туда, к избранности.
Спешка с ликвидацией Слуцкого вызывалась тем, что шел уже февраль 1938 года, а в марте начинался процесс над правотроцкистским блоком, на скамье подсудимых среди прочих – и Генрих Ягода, многое знавший о сочиненном заговоре, о капкане, куда попал НКВД, гибельную ловушку смастеривший себе руками Запорожца.
Процесс открылся. И 5 марта происходит следующий диалог.
ВЫШИНСКИЙ. Вы лично приняли какие-нибудь меры, чтобы убийство Сергея Мироновича Кирова осуществилось?
ЯГОДА. Я лично?
ВЫШИНСКИЙ. Да, как член блока.
ЯГОДА. Я дал распоряжение… (Запинается.)
ВЫШИНСКИЙ. Кому?
ЯГОДА. В Ленинград Запорожцу… (После молчания.) Это было немного не так.
ВЫШИНСКИЙ. Об этом будем после говорить…
В стенограмме нет ремарки “спохватывается”, но Вышинский, это уж точно, опомнился, решил не уточнять: говорить не стали ни в этот день, ни в последующие.
Пошла речь и о Николаеве, задержанном однажды с портфелем, где был револьвер. Запорожец (которого в Ленинграде не было) будто бы освободил будущего убийцу.
ВЫШИНСКИЙ. А вы это одобрили?
ЯГОДА. Я принял это к сведению.
ВЫШИНСКИЙ. А вы дали потом указание не чинить препятствий тому, чтоб Сергей Миронович Киров был убит?
ЯГОДА. Да, дал… (Взрывается.) Нет, не так.
ВЫШИНСКИЙ. В несколько иной редакции?
ЯГОДА. Это было не так, но это не важно.
Большего Ягода сказать не мог. Но и этого достаточно для уяснения смысла недомолвок.
Греческим хором звучали для Сталина покаянные или обличающие слова на процессе. Он правил стенограммы допросов, наслаждался ими в грезах о своей непогрешимости…
И зорко высматривал тех, кто мог оброненным словом развеять миф о причастности оппозиционеров к убийству Кирова.
103 белогвардейца были расстреляны 2 декабря, если не раньше, на исходе 1 декабря. Они не содержались в общей камере “Крестов”, а рассредоточены были по тюрьмам страны, но Ягода превосходно знал, что такое “тюремный телеграф” и как этапы разносят по стране клеветнические домыслы, – выстрелы поэтому последовали незамедлительно.
Небольшая промашка случилась: на территории Финляндии оставался живым и невредимым бывший писарь Петриченко, в марте 1921 года возглавивший Временный революционный комитет Кронштадта. После разгрома мятежа (или восстания, кому как нравится) он ушел по льду к финнам, позднее установил связь с советской разведкой и кое-что ценное приносил вплоть до начала войны с немцами, побывал однажды и в Советском Союзе, но еще до выстрела в Смольном, иначе бы не вернуться ему в Финляндию. Но в 1944 году, после подписания мирного договора с Финляндией, чекистам отдали на откуп все аресты в ней, в Хельсинки настал день открытых дверей, и Петриченко был схвачен; не помогли заслуги перед СССР, передача сведений о линии Маннергейма, и т.п. 10 лет – и смерть где-то на пути к очередному лагерю. Существуют и более цивилизованные варианты отстрела этого знатока белогвардейских тылов, осведомленного, конечно, о том, кого мог привлечь Запорожец к фиктивному заговору против Кирова. Будто бы его в апреле 1945 года, уже помилованного, передали контрразведке Красной Армии, а та чтила принцип: “За старое – спасибо, за новое – отвечай!”
За двадцать лет со дня выстрела в Смольном на планете изменился климат, погода над СССР залихорадила, антициклоны поменялись местами с циклонами, роза ветров завращалась, разгоняя тучи над Смольным, и птенцы гнезда кремлевского решили во всех бедах, включая и убийство Кирова, обвинить Сталина.
Для начала обратили взоры на Смольный и увидели коридор на третьем этаже его, тот, о котором забыли, который заслонен был великолепием фойе роскошного заводского клуба, где сквозь ликующую массу трудящихся проходил герой отредактированного Сталиным фильма “Великий гражданин”, и кинозрители, а также почти весь советским народ воочию убедились: подлый убийца, “подосланный врагами рабочего класса”, стреляет в Кирова где-то за кулисами, в безлюдье, – ибо будь хоть один человек рядом – вражина был бы схвачен подбежавшей рабочей массой, и от немедленной расправы спасен бдительными чекистами. Фильм этот – серия фрейдистских оговорок и умолчаний Сталина, изучение их много дало бы любопытствующим, поскольку в сценарии – отголоски упрятанной в Сталине правды о выстреле. Нет, само собой, никакой “личной жизни” у главного героя, он бессемейный и одинаково бесполо добродушен с женщинами.
Двадцать с лишним лет коридор 3-го этажа Смольного будто пустовал, и начал постепенно наполняться звуками, разного рода обслугой, – электриком, столяром, курьером, “топтуном” (и не одним), еще кем-то, пока не запрудился толпою тех, кого уничтожили за то лишь, что они могли что-то видеть или слышать, – обычнейшими людьми в обычнейшем советско-партийном учреждении, где несть числа бездельникам, шастающим из угла в угол, где всегда есть женщины, держащие себя на уровне присутственного места, коему служат, где поблескивает матово паркет, а стены источают унылый запах беспросветной казенщины. Вслед за реконструкцией события произошла и реинкарнация сгинувших душ, перевоплощение их в исторические фигуры. Наступила эпоха реабилитаций. Были – в разное время – созданы три комиссии, чтоб узнать наконец, кто же все-таки убил Кирова.
И с теми же огульными обвинениями и доказательствами, что были в 30-х годах, через двадцать с лишним лет люди приводили абсолютно противоположные обвинения и доказательства. Давний выстрел в Смольном открыл эпоху мифов об убийстве Кирова Сталиным, и как исполнительный следователь по приказу сверху сочиняет липовое дело, подгоняя под заранее заданного убийцу все найденные и ненайденные улики, так и комиссия Шатуновской (коммунистки, отсидевшей свои срока) покопалась в прошлом и нашла убедительные для мифа основания, а чтоб уж расчистить дорогу новым властителям, постановила: Сталин – убийца Кирова. Комиссия эта мало чем отличалась от той оравы следователей, что некогда навалилась на оппозицию, и Шатуновская рьяно приступила к развенчанию Сталина. Зубры из Политбюро, превосходно осведомленные о невиновности Сталина, ухмылялись, наблюдая за потугами верной ленинки и бывшей сталинистки найти истину. Для начала та собрала в один мешок все нужные документы и выстроила для расспросов-допросов уцелевших свидетелей. Начался Малый Террор, из которого вытекла Малая Ложь. Вдруг выяснилось, что Сталин и Киров – заклятые враги, что на 17-м съезде партии почти триста делегатов отвергли голосованием кандидатуру Сталина, что состоялось собрание старых большевиков на квартире Орджоникидзе, на котором Кирову предложили возглавить партию, что…
Зубры в ЦК (Шверник и прочие) не могли, наверное, сдерживать улыбки и дома хохотали над детскими проказами свадебной генеральши. Они-то уж точно знали, что это в какой-нибудь гнило-либеральной партии делегатов на съезд выбирают. В партии нового типа их назначают (как, впрочем, и везде), и Сталин определил на съезд только преданных ему людей, успевших и поморить миллионы людей голодом, и умертвить десятки тысяч. В итоге на съезде такой получился бы расклад: смени Сталина, избери другого “верного ленинца” – тот сразу припомнит им все грехи. Да и выработался уже стереотип, шаблон, в понятие “верный ленинец” партийная масса вкладывала близость большевика к Ильичу, совместное участие в борьбе за единство партии и во славу Октябрьской революции, то есть все то, чему Сергей Миронович Киров не соответствовал. Он, короче, в ленинскую гвардию не входил и уже по этой причине не мог никак стать во главе партии.
А край, давший стране Сергея Мироновича Кострикова (Кирова) остался верен ему до конца. Много славных людей родилось, жило или побывало в Вятской губернии, среди них выдающиеся художники, революционеры-демократы, врачи, полководцы, писатели, их до сих пор почитают в Кировской области, не пожелавшей стать Вятской в эпоху всеобщих перемен и переименований. Здесь бережно сохраняют памятники, со скрупулезным почтением берегут даже здание, построенное по проекту Вацлава Воровского, того, кого убил в 1923 году белогвардеец, несомненно, подосланный врагами рабочего класса. Преклоняются перед памятью умерщвленного беляками труженика, небезучастны даже к дому, где проходил первый волостной съезд, и к школе, в какой учился террорист-подрывник Степан Халтурин, и к зданию, откуда давал руководящие указания Сталин, когда выравнивал прогнувшийся восточный фронт.
Но превыше всех – Киров, именем его названо многое, и поскольку до Кремлевской стены далеко, вятичи ходят на могилки его сестричек, Анны и Елизаветы, скромных тружениц, в один год простившихся с землей, взрастившей и бабушку Меланью, и деда Кузьму, и матушку Екатерину Кузьмовну, – все они лежат рядом с ними и вдалеке от братика Сергуни, который скончался за много верст от Уржума, дав потомкам повод и время поразмышлять о жизни и смерти многих поколений. Сестрички же, не дававшие о себе знать могущественному брату до 1934 года и на похороны его приглашенные, горько, наверное, сожалели о том, что подался брат Сергуня в студенты и революционеры, а мог бы достойно и скромно, как они, отдавать себя простому народу; зря уехал, ведь отыскал бы в Вятке или в самом Уржуме место, где нашли бы применение диплом Казанского училища и работящие руки Сергея Кострикова…
Есть убийства, раскрыть которые невозможно из-за обилия, нагромождения улик и доказательств, и если даже найден виновник, человек, направивший на жертву пистолет или поразивший ее кинжалом, всегда потомкам остаются в наследство десятки “почему” и сомнения в торжестве справедливости, о чем, кстати, знал Вышинский, во благо себе и большевизму теоретически обосновав неполноту любого следствия. Выживания ради люди построили системы причинно-следственных зависимостей, из сетей их выпутаться невозможно, и только интуиция, эксцесс сознания, позволяет освободиться мозгу от пут.
Но всеядная, прожорливая человеческая мысль ищет того, чего не было и нет: правды о днях прошедших. Ни одна из версий не будет окончательной, полной, всеохватывающей, абсолютной. Ни одна – но во взаимной дополняемости с другими измышлениями они, все вместе, поедят друг друга и сведутся к выигрышной банальности.
Что ныне стало циклоном, а что антициклоном – уже не понять, засуха ли, наводнение, – да то и другое, пожалуй. И барометры не покажут, какой на дворе строй и какое общество. Крепость уз, не позволяющих ему распадаться, стабильность его, испытанная веками, – не в твердой валюте или гимне и не в конституции, а в прелестной дурости небылиц, которыми окутывают себя нации, стремясь выглядеть чище, менее глупыми и более привлекательными (в товарном или эстетическом обличье); память народа отбрасывает излишества и нюансы толкований себя, потому и живуча; они, история и память, – из кровавого, стонущего, плачущего и пляшущего человеческого материала, а ежели от него попахивает еще водочкой и закусью, то цены нет народным преданиям о времени, какое выпало Руси, протяженность же этого времени – века нескончаемые, – такая уж судьба, такой уж жребий вытащила Природа, распределяя пути наций.