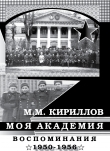Текст книги "Смерть Кирова"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Но случайные, никем не подосланные, шальные убийцы – люди с нарушенной психикой, неврастеники, видящие мир не так, как здравомыслящие обыватели и неглупые следователи; им присуща особая оценка событий, вещей, они отринуты от обиходно-бытовых представлений о действительности, они ищут смысл там, где его нет, и всегда что-то находят, не видят того, на что смотрят все, и магнитом тянутся к окну, из которого можно выстрелить, к узкому проходу, ведущему в правительственную ложу с беззащитным президентом, к коридору в Смольном.
Покушение произведено – и оружие отбрасывается в сторону или роняется, оставляется на месте преступления. Оно, оружие, уже не принадлежит убийце, оно – собственность жертвы, как стрела в его теле, и объяснение этого языческого ритуала – во тьме веков, и то, что нынешние киллеры отшвыривают ТТ или АК, якобы торопливо убегая, потом уже квалифицируется как нежелание оставлять отпечатки пальцев…
Итак, этот день, 1 декабря 1934 года.
Бывают дни, когда у человека все валится из рук, когда он “с левой ноги встал”, когда все, что делает он, не складывается в связность, а рассыпается на фрагменты, когда он растерянно замирает вдруг и в некотором испуге оглядывается: да что это со мной? да где же я нахожусь? Начинается эта бестолковщина с утра, с торопливого шага к остановке, а автобус – из-под носа уходит, следующий же – переполнен и берется штурмом; задержка его приводит к нарушению графика, и город сбивается с ритма, гневается, город разлаживается, вся жизнь города – сплошное несовпадение; прямые и обратные связи рвутся, ни дыма, ни гари, а город будто в развалинах. Словно магнитные бури разразились! Будто сутками ранее солнечные протуберанцы выбросили в сторону Земли некие частицы, которые достигли города на Неве, нарушили все планы, графики и очередности, что-то почему-то происходит раньше положенного, а что-то – позже; быт миллиона людей запульсировал с невиданной частотой. И тогда в человеке срабатывают угасшие было первобытные навыки, человек чует беду, которая не за горами, и увиливая от беды, стремится обмануть судьбу изменением поведения, нарушением собственного ритма, который привел его к беде. Отменяет свидания, откладывает вроде бы неотложные дела, щепотно крестится, бормочет проклятия…
В Ленинграде же происходило то, что всегда наблюдается перед землетрясением: населяющие ареал животные задолго до первых толчков улавливают подземные колебания и начинают беситься. (Такие дни порою растягиваются на месяц и годы, распространяются на все города и веси, и люди – в попытках вернуться к норме – впадают в исступление, громят дома, убивают всех подряд, реализуя заложенные в них так называемые деструктивные склонности; чтоб избежать спонтанных взрывов, природа наделила людей способностью уничтожать друг друга по заранее обговоренным правилам – и возникают войны.)
29 ноября, по приезде Кирова из Москвы, “Ленинградская правда” оповестила:
1 декабря в 18.00 во дворце Урицкого состоится собрание актива ленинградской ВКП(б), вход по пригласительным билетам с обязательным предъявлением партбилета, членам же обкома и горкома достаточен пропуск. Такие собрания – обычное повсеместное событие после пленумов ЦК, всегда происходивших в Москве. Рядовое событие, к которому надо однако готовиться, и Киров из дома обзванивал секретарей райкомов, встречался с разными людьми, 30-го же объезжал город, потом засел за будущий доклад на собрании. День был выходным, домработница отпущена, жена за городом, связь со Смольным не прерывалась, дежурная секретарша присылала с шофером газеты, сводки и прочее. Поздним вечером еще один звонок в Смольный, просьба найти коробку карандашей. Нашли коробку – и тут же вновь звонок: карандаши не нужны, они обнаружены в квартире. С утра – да, в тот самый день 1 декабря, – вновь звонки в Смольный, понедельник, все на месте, уточнения к докладу за уточнением, нужные бумаги присланы курьером, сновавшим от Смольного к улице Красных Зорь, и курьеру Кировым сказано: больше приезжать не надо, все материалы к докладу есть. Верхушка Смольного абсолютно точно знает: Киров из дома поедет сразу во дворец Урицкого (Таврический дворец). То есть предположительно покинет квартиру чуть позже 17.00.
Последние часы и минуты жизни: Киров в одиночестве, домработница то ли не пришла, то ли посчитала себя свободной и в понедельник. В 15.00 в кабинете 2-го секретаря обкома Чудова начинается совещание, предваренное звонком Кирова, что-то было сказано второму человеку в области и ему же какие-то слова добавлены минут через двадцать. Всем становится понятно из смысла разговоров: Киров в Смольный не приедет!
Вдруг в 16.00 раздается телефонная трель в гараже Кирова, во дворе того же дома 26/28 на улице Красных Зорь, и, повинуясь звонку, шофер Кирова подает машину к подъезду. Куда ехать, зачем – шофер, разумеется, не знает. И Киров не знает, охрана тем более. Но, дисциплинированная и натасканная, “ведет” Кирова по улице, один охранник спереди, второй сзади, машина чуть поодаль едет следом. У Троицкого моста процессия останавливается, на дальнейший променад Киров не решается и садится в машину. Куда и зачем – это решено просто: Смольный!
Едут, подъезжают – не к “секретарскому” подъезду, откуда до кабинета ближе, а к главному, где людей много, где на Кирова хлынут обычные заботы и он наконец-то вспомнит, зачем ему понадобился Смольный, приезжать куда не собирался. Все знакомы или почти знакомы, но ни один из них не дает мысли толчка. Люди мелькают, первый этаж, второй – останавливает кого-то, спрашивает, тот отвечает… Не то, не то… Третий этаж, еще одна остановка, разговор, так и не прояснивший ничего… Знакомый до чертиков коридор “своего”, третьего этажа – нет, ни малейшего намека…. А ноги несут дальше, привычным, отработанным маршрутом, к кабинету… Сейчас откроет дверь, до нее – несколько шагов…
Пройти их ему уже не суждено было. Ослеп, оглох, повалился, упал ничком, получив все-таки ответ на измучивший его вопрос…
И для Николаева день этот начался суматошной беготней по квартире на улице Батенина, в досаде на себя, не уговорившего жену достать билет во дворец Урицкого! Все предыдущие дни в нем звучал хор голосов, звавший куда-то (примерно ту же какофонию слышал некогда и Люббе), голоса орали в уши, завывали, и вдруг ночью наступила тишина. А утром захотелось пустоту эту, тишину тревожную заполнить живыми голосами, его потянуло к людям! Еще вчера он узнал, что в Урицком соберется актив города и области, а ненавидевший партбюрократов Леня Николаев тянулся к носителям власти. Даже стоя рядом с ними, он преисполнялся уважением к себе и верою в то, что когда-нибудь он приобщится к Большому Делу, что не напрасны все его труды по устройству новой жизни.
Мало у кого из партбюрократов стоял дома телефон; за него сел Николаев (или встал рядом, если тот – на стене), обзванивая знакомых и незнакомых с единственной просьбой: пригласительный билет! Ему во что бы то ни стало надо попасть во дворец Урицкого. Непременно! Там, во дворце, он как бы вольется в русло Большого Дела, он там станет полноправным членом ВКП(б)! Он будет в рядах тех, кто вершит судьбы маленьких человечков.
А билета нет и нет. Яростно вышептывая проклятья, он рыщет по квартире, находит последнее приобретение, новую рубашку, редкая вещь в домах ленинградцев, хватает портфель с непременным наганом (разрешение на него – № 4396), доставать который сегодня не придется: народу во дворце еще больше, чем на перроне московского вокзала. Приезжает наконец в Смольный, суетится на первом этаже, где полно знакомых по комсомолу, в бесполезных поисках билета, на втором этаже та же неувязка. Для третьего понадобился партбилет, взносы уплачены по ноябрь. Здесь ему обещают все-таки дать пригласительный билет, ближе к вечеру, когда “прояснится обстановка” и кого-нибудь из коммунистов отвлекут другие дела, более неотложные, чем доклад Кирова и прения по нему.
На час он удаляется, бродит вокруг штаба областной власти. В желудке – пусто, в ушах – гулкое звенящее безмолвие. А когда возвращается на третий этаж Смольного, ему становится совсем неуютно, скверно. Дразнит запах, столовая № 4 (для VIP-персон того времени, рядом с кабинетом Кирова) источает ароматы пищи, простым коммунистам не доступной (доступная им “столовка” этажом ниже). А по коридору ходят сытые люди, из кабинета Чудова, 2-го секретаря обкома, доносятся голоса уверенных в себе единомышленников, в соседнем кабинете чайная ложечка позвякивает о стакан, помешивает в нем сладкую темную жидкость…
Невыносимые муки! И отбивая запахи съестного, Николаев вбегает в уборную. Он пришел немного в себя, окутанный аммиачно-хлорным духом сортира, отдышался, вышел в коридор – и слева от себя увидел идущего Кирова. Кирова!
Он остолбенел. Кровь отлила от лица, он побледнел, и было чему напугаться до смерти. Человек, мельком когда-то виденный им наяву, но многократно воспроизведенный и приближенный к нему мечтаниями, фантазиями, тот, которого он уничтожал не раз, паля по нему из нагана, – этот самый бездушный бюрократ Ленинграда находился от него в пяти шагах, в трех, в двух, вот уже прошел мимо, вот уже между ними два шага, четыре…
И, догоняя призрак, недоумевая, как он появился здесь, Николаев двинулся вслед, кого-то толкнул, торопливо, машинально, глаз не спуская с Кирова, расстегнул портфель, забыв о прорези, достал наган, выстрелил – и неожиданно для него призрак повалился, лег на пол, и только тогда Николаев вспомнил о своей страшной угрозе, он ведь хотел застрелиться на глазах всех бюрократов! И тогда вновь взводится наган, дуло приставляется к виску. Но выстрел почему-то не вталкивает пулю в голову, Николаев жив, и тут-то до него доходит смысл происшедшего. “Что я наделал?.. – в ужасе кричит он. – Что я сотворил?!”
С ним истерика. Он бьется в припадках ее. Он мычит, теряет сознание, и только через несколько часов его начинают допрашивать. Твердо, чисто и ясно утверждает: да, убил он, чтоб отомстить за все поругания. Да, да, он убил, он, никто его не принуждал, никто его не склонял к убийству. Только личные мотивы, всего лишь, не более.
На чем и стоит, потому что чувствует: Большое Дело не только сделано. Назревает истинное, возвышенное, еще более величественное Большое Дело!! Оно и приближается к нему, это Большое Дело, сам Сталин хочет его видеть, а с Вождем – все помощники Вождя, въявь, вот они, рядом, они смотрят на него, они участливо спрашивают. Это они, конечно, приказали его хорошо кормить, и воодушевленный Николаев смело смотрит в будущее, даже если оно – могила. Но через несколько дней выясняется, что Большое Дело уходит из рук, вежливые однопартийцы следователи допытываются, кто помогал ему, кто руководил им, и среди тех, кто якобы его заставлял убивать – Ванюша Котолынов, друг детства, которому он многим обязан, который никогда не считал его калекой, уродом. Ужас! Вешаться надо, вешаться, спасая Ванюшу!
Попытка самоубийства не удалась, теперь постоянно в камере Николаева два охранника. А следователей еще больше, и наступает прояснение, Большое Дело, отодвинутое куда-то, возвращается: отныне он, Леонид Васильевич Николаев, не просто человек, произведший выстрел, он – обвинитель целой организации, он указывает следователям, кого сажать надо, он изобличает истинных преступников, тех, кто хотел убить дорогого Мироныча. На очной ставке Котолынов, правда, все отрицает, даже осмеливается нападать на Леню Николаева, укоряя его дачей в Сестрорецке, и осмелевший Николаев резко обрывает его: “И ты, и каждый может иметь!” Котолынова Ванюшу он уже ненавидит, он вспомнил, что тот перекрыл ему дорогу в командирское училище.
Но те, кто допрашивает Николаева, видят его насквозь, верно определяют: обостренно честный человек, склонный к хвастовству, но не в ущерб друзьям, – и решено допрос его в судебном заседании не делать. На оглашении приговора Николаев видит тринадцать членов неведомой ему организации, среди них Ванюшу – и забывает, как тот в Выборгском райкоме унижал его. Он хочет отказаться от всего рассказанного следователям, но уже поздно. И вновь Большое Дело пытаются украсть у него, приговаривая к расстрелу. “Обманули!” – истерически вопит он, а его тащат, тащат куда-то, его расстреливают, наконец-то приобщая к настоящему Большому Делу, к мировой славе, в которой не нашлось места для горького вздоха ни о судьбе крохотного человечка, возомнившего себя носителем справедливости, ни слезинки по тому, из-за чьего дурного нрава началась экспансия арестов и судилищ, воцарилась эпоха Большого Террора, а где Большой Террор – там и Большая Ложь. Совокупление полуправды с полуложью рождает миф, их массовые соития плодят вымыслы.
В смерти Кирова, то есть в убийстве его, заподозрили проникших из-за кордона террористов, и 103 белогвардейца были немедленно расстреляны, без суда и следствия. Потом обвинили тех четырнадцать, включая Николаева, человек, которых вписали в историю как “Ленинградский центр”. Потом в еще больших грехах повинились зиновьевцы вместе с каменевцами, и пошло-поехало. Большевистская власть, следуя российским традиции, никогда не уважала права граждан на жизнь, после же 1 декабря – словно с цепи сорвалась, в лагеря и на расстрелы пошли миллионы людей. Трески выстрелов слились в дробный непрекращающийся звук, которым вторили колеса поездов, отправлявших на Колыму подлых убийц Сергея Мироновича. Медведя и Запорожца приговорили к смехотворным по тем временам срокам, почему так – верхушка НКВД знала, разрешила с почетом, чуть ли не с музыкой проводить покидавших Ленинград в отдельных купе проштрафившихся коллег. Они отбыли – чтобы немного погодя занять руководящие посты в Дальстрое, Медведь возглавил Колымский НКВД, Запорожец отличился, возглавляя Управление дорожного строительства, за что оба получили еще и благодарственные послания от Сталина .
Большой Террор сопровождался изменением общественной атмосферы: роза ветров стала иной, вихри повеяли с непривычных направлений, осадки выпали не те, что раньше, год назад и в этот же месяц. Климат вскоре изменился. И убийцей Кирова решили считать Сталина, у него якобы были с Кировым какие-то разногласия.
А их не было и не могло быть, разве что по мелочам. И правда, ни в одной партии не бранились так громко и часто, как в большевистской. Одинаково карались и малейшее забегание и малюсенькое отставание, с религиозным рвением исповедовали, предавали анафеме, лишали сана, и визгливое крохоборство – это не война принципов. Сталин, Киров, Ленин, Зиновьев, Троцкий, Бухарин, Рютин и прочие – все были большевиками, насилие они считали единственным способом разрешения конфликтов, и пожелай партия сделать сельское хозяйство России кулацко-фермерским – горожан под конвоем погнали бы в деревни батрачить на богатеев.
Но если какие-либо трения между ними, Сталиным и Кировым, все-таки существовали, причем настолько серьезные, что только уничтожение Кирова эти трения устранило бы, Сталин не мог организовать убийство его по той простой причине, что не было у него людей, способных на такую акцию. Да, ему подчинялся весь аппарат ОГПУ—НКВД, но довериться там было некому. Не государственные мужи составляли руководящее ядро самого ответственного управления и наркомата, не лично преданные Сталину соратники, умеющие хранить тайну, а – талантливые авантюристы, снисходительно взиравшие на шалости подчиненных. А забавы тех дошли до того, что как-то незаметно в недрах военной разведки создалась группа особо доверенных агентов, способных буквально “на все”. Людей для такой изысканной работы, как мгновенно-бесшумное вскрытие сейфа или умыкание сверхохраняемой персоны, было предостаточно; люди эти, отравленные трупным ядом двух войн, питали ядоносную любовь к России, к темным аллеям вокруг полусожженной усадьбы, на которую глянуть бы, упасть лицом в траву, всплакнуть, подняться, получить валюту и – вновь на Запад, ближе к краю могилы. Боевые ребята, чего не отнять; железную когорту из них не сформируешь, но и сбродом не назовешь. Поручать им что-либо серьезное было опасно, потому что верхушка ОГПУ цементировалась личными связями, взаимными поблажками, обоюдной зависимостью. Государственность в СССР еще не устоялась, партия раздиралась склоками, фракциями; для большей части чекистов органы были прибыльной лавкой на людном месте, где они служили, делом, бизнесом, тем более успешным, чем чаще отвлекались от прилавка их нанявшие хозяева, обсчитывать и обворовывать которых сам бог велел. Ну. а если за руку схватят, то пора, если есть время, давать деру.
И, что немаловажно, каждый член Политбюро имел своего, преданного только ему человека среди начальников отделов. С середины 20-х годов Сталину верно служил некий полулегальный орган для расправ с неугодными людьми, ему приписывают уничтожение Фрунзе и Бехтерева, но после бегства за границу Бажанова, секретаря Сталина, после того, как не вернулись из командировок и остались в Европе многознающие спецы ОГПУ, сохранившие связи с московскими друзьями и коллегами, прибегать к помощи этой конторы было опасно. Киров к тому же был членом Политбюро, а с этим органом приходилось считаться, он был островком безопасности в бушующем море партийных и внепартийных расправ. Страх за себя заставлял Сталина поддерживать у членов Политбюро эту иллюзию неприкосновенности; с Вождем еще можно было спорить, нередко бывало, что Сталин оставался в меньшинстве. Инспирированное им убийство Кирова объединило бы противников Генсека, обнаружить им причастность Сталина к выстрелу было бы нетрудно.
1 декабря в Москве судорожно решали, что делать, в Ленинграде же и в тот день, и в последующие дни (и годы) творилось нечто противоестественное, ни в одну из логик не вмещающееся. Люди, и следователи тоже, будто в тумане брели или во тьме, на ощупь узнавая, что за предмет перед ними, и понимая, что делают что-то не то, делают не так, как надо. Произошло какое-то массовое рассогласование действий, все будто спятили. Ни с того ни с сего то ли погибает, то ли умирает не по своей воле оперкомиссар Борисов, обязанный в целости и сохранности довести Кирова от главного подъезда до кабинета. Свидетель смерти или убийства Борисова, шофер грузовика, на котором везли охранника к Сталину на допрос, столько раз за тридцать с лишним лет менял показания, что к концу жизни не знал, что же произошло в грузовике и сам ли он сидел за рулем. Газеты назвали имя убийцы, но продолжались партийные судилища над теми, кто, будучи свидетелем убийства, рассказывал о том, что Киров убит Николаевым. С того рокового выстрела убийство Кирова стало задергиваться пеленой таинственности, загадочности, и хотя простейшее объяснение тому напрашивается само собой (разновеликость фигур убийцы и жертвы), выстрел произвел ошеломляющее впечатление на Ленинград, СССР и весь мир. (Некоторые газеты на Западе вышли с аршинными заголовками: “Начало террористической борьбы с большевиками!”) Во всем винили арестованных зиновьевцев, хотя по донесениям агентуры народ почему-то (в те времена еще ляпали по пьянке всякую несусветицу) придерживался типично обывательского мнения: во всем “виновата баба”. Академик Павлов, больше общавшийся с собаками, чем с людьми, и под русского дурачка работавший, чутко вслушивался в разговоры своих ассистентов, в ругань домработницы и прокомментировал убийство тоже по-обывательски: “Ревность!”
Мир не безмолвствовал, потрясенный очередным убийством, которому сразу придали статус политического, которое долгие годы приписывалось, конечно, Сталину. Троцкий, ненавидевший его, разразился серией статей. (Кирова будущий вождь Интернационала не жаловал, называл его “серым болваном”). Сбежавший в Америку Орлов тоже метал громы и молнии, рисуя фантастические картины сталинских зверств, что, однако, легко объяснимо: Орлов играл сложную партию с ФБР, ему выгодно было списать Кирова на Сталина, он готов был на него возложить и вину за гибель “Титаника”. В следствии по “Ленинградскому центру” Орлов участия не принимал, вообще находился вне СССР, вообще все писал с чужих слов, искажал намеренно, чтобы прослыть неосведомленным. Но вот Люшков, один из следователей по делу Кирова, человек более осведомленный, к японцам перебежавший, – этот Люшков отводил Сталину роль наблюдателя, никакого заговора, твердил перебежчик, не было, Сталин не виноват.
Но тогда, в декабре 1934 года оторопевшая страна клеймила позором убийц оппозиционеров и, озираясь днем в испуге, понимала неотвратимость приближающейся беды, по ночам вздрагивая. Все догадывались, что никакого заговора не было, а следователи точно знали, потому и не удосужились даже грамотно писать все относящиеся к убийству бумаги.
29 декабря завершился процесс над “Ленинградским центром”, любой суд как бы ставит точку в затянувшемся следствии, определяя меру наказания каждому. Приговор вынесен, следователям можно с некоторым облегчением вздохнуть, но происходит эпизод, который умолчанию не подлежит.
В 6 часов 40 минут утра 29 декабря суд оглашает приговор, к расстрелам приступили через час. Первым получил свою пулю Николаев, затем Румянцев, последним шел Ванюша Котолынов. Так решили Агранов и Вышинский, привезший из Москвы вердикт Сталина: всех – расстрелять! Всех – в нарушение общемировой практики, заставляющей судей дифференцировать наказания для вящей беспристрастности Фемиды. Всех – отрезал Сталин по телефону и Ульриху, председателю Военной коллегии Верховного суда СССР, когда тот попросил оказать милость Фемиде. (Полтора года назад, когда судили вредителей на электростанциях, приговаривали осужденных – не без подсказки Сталина – к разным срокам, а одного даже освободили от наказания. Вышинский, тогда прокурор РСФСР, поддерживал на суде государственное обвинение.)
Итак, последним шел Котолынов. И два верных пса большевизма, равно умеющие и клепать липовые дела и разматывать настоящие запутаннейшие преступления (иначе их к этим постам не допустили бы!), – итак, следователь по особо важным делам Агранов (он временно исполнял обязанности Медведя) и заместитель генерального прокурора СССР Вышинский, превосходно знающие, что все признания осужденных словно щипцами выдраны и оба они сотворили еще одну липу, но грандиозную, – они, Агранов и Вышинский, приостанавливают, в некотором смятении, равномерный ход расстрелов и пытливо, сочувственно спрашивают Котолынова: “Вас сейчас расстреляют. Скажите все-таки правду: кто и как организовал убийство Кирова?” На что Ванюша ответил: “Весь этот процесс – чепуха… все мы, за исключением Николаева, ни в чем не повинны”.
“Чепуха” – то есть мелочь, ерунда, нечто несущественное. Иными словами, некие преступники остались вне процесса, имена их не произнесены.
Так можно было понять. Так и поняли псы, не доложившие Хозяину о “чепухе”. А Вышинский по неумолимой жестокости Сталина еще и понял: вместе с Кировым ушли в небытие игры в классическую юриспруденцию, объективных доказательств вины находить отныне бессмысленно, единственная подпорка под приговор – признание самих обвиняемых и безотносительно к истинным обстоятельствам уголовного дела. Признания тем более необходимы, что Вышинскому уже было известно из донесений агентурной разведки: Запад, и белогвардейская эмиграция тоже, к вредительству на производствах не причастны, как и к убийству Кирова.
Как ни многочисленна была прибывшая из Москвы орава следователей, но обойтись без местных и особо проверенных кадров она не могла, и среди допущенных к следствию чекистов оказался Леонид Райхман, в будущем – генерал МГБ, хорошо посидевший в застенках Лубянки, человек, которого отучили болтать и вообще давать показания. Уже в абсолютной безопасности послесталинских и послехрущевских времен он тем не менее под своим именем в печати выступать не решался, измышляя себе псевдонимы. Этот молоденький еще Леня Райхман допрашивал – среди прочих – друга своей комсомольской юности, старого приятеля, от которого у него не было секретов, как, впрочем, и у друга юности от него. А другом комсомольской юности был Ванюша Котолынов. Он-то в прощальном дружеском разговоре и произнес нечто, что никогда не выкладывал репортерам Леонид Райхман. Но сказанное Котолыновым засело в мозгу занозою, которую надо выдернуть, надо! Кому-то все-таки сказать, но кому? Леонид Райхман, женатый на очень известной балерине Большого театра, не мог не обзавестись друзьями из мира искусств, общался и с литераторами. И кое-кому из них рассказал о потрясении, испытанном им в декабре 1934 года.
Так вот: последний допрос друга комсомольской юности, не допрос, скорее, а разговорчики о том о сем, протокол между тем понемногу заполняется трафаретными вопросами и ответами, в последних, разумеется, полное отрицание соучастия Котолынова в убийстве Кирова, затем подписи следователя и обвиняемого, рукопожатие, конвой не вызван, друг провожает друга до двери и задумчиво произносит: “Значит, ни в каком заговоре не участвовал…”
И вдруг Котолынов глянул в глаза его – прямо, честно и насмешливо. “А вот это – не так!..”
Рассказывая некоторым литераторам этот эпизод, Леонид Райхман сокрушенно разводил руками и слезящимися глазами всматривался в собеседника: “Ну, никак до сих пор не пойму, зачем он это сказал!..”
(Тот же Райхман поведал и о разрезе в портфеле Николаева… О нем, разрезе, рассказывал друзьям и А.Н.Гарри, соперник Кольцова по популярности, собкор “Известий”, один из двух журналистов, прибывших в Ленинград на том же поезде, что и Сталин.)
И еще одна странность злосчастного дня этого: пляска часов. Понятно, что некоторые моменты жизни и быта не фиксируются, однако ж гибель главы всего Северо-Запада СССР и события вслед за выстрелом должны отмечаться – с наибольшей точностью, не столько ради истории и потомства, сколько для неминуемого следствия. 16.30 – такое время выстрела указало правительственное сообщение, но здесь-то точность как раз не нужна, минута больше или минута меньше означали бы хронометраж со стороны, – такими округлениями признается невозможность мгновенной фиксации смерти. В медицинском заключении о ней приводится такое время: 16.37. Хотя смерть наступила мгновенно, от страха и отчаяния врачи делали искусственное дыхание до прихода лучшего хирурга страны Джанелидзе. По бытовому и официальному регламенту замещающий Кирова человек обязан был немедленно доложить Сталину о происшедшем. И Чудов доложил, где-то около 17.00. Однако в другом документе звонок его в Москву последовал почти одновременно с появлением в кабинете Кирова хирурга Джанелидзе, который приказал составить акт о смерти, то есть после 17.40 (журнал посещений кабинета Кирова засвидетельствовал это). А к этому времени Медведь уже обязан был доложить Москве о гибели члена Политбюро… И вновь пляшут часы, уже в Москве. Точного времени доклада не знает никто. И того, кто доложил первым (Чудов или Медведь), уверенно не указывают. Зато допрос Мильды Драуле фиксируется с поражающей точностью: 16.45. Поскольку Николаев уверяет следователей, что после часовой отлучки он в Смольный вернулся в 16.30, то убийство произошло действительно в указанное врачами время. но тогда каким образом Мильда оказалась на Литейном через 8 минут после выстрела? Ведь опознали в убийце Николаева почти сразу, то есть чуть позже 16.40. Мильда могла быть в это время в Смольном, сомнений нет. Но как она перенеслась на Литейный – бойкостью пера НКВД, старавшегося продемонстрировать оперативность, порчеными часами в кабинете следователя, полетом фантазии или чудовищным изломом времени? Руки следователя Когана – не дрожали? Почему в протоколе допроса Мильды не отмечено, где она задержана, на основании чего?
И внутренние, биологические часы людей .из окружения Кирова начали отбивать чечетку с подскоками. Медведь уверяет, что Киров назначил ему встречу в Смольном! Причем время встречи – 16.30. О месте встречи можно и не упоминать, кабинет Кирова, разумеется. Но по таинственной причине исполнительный начальник НКВД в Смольный собрался ехать много позже, звонок оттуда (о гибели Кирова) застал его на Литейном, машину для поездки он уже заказал, правда. После такого признания Медведя не кажется вздором показания человека, первым подбежавшего к убитому Кирову, а был им Росляков, работник обкома, в момент выстрела сидевший в кабинете Чудова, человек пунктуальный, от слов своих не отказавшийся ни на следствии, ни в тюрьмах.
17.00 – такое время выстрела указывает он!
Эти прыжки минутных и секундных стрелок можно объяснить тем, что, конечно, никакого хронометража времени не производилось и не могло производиться, ошибки тут обязательны. Но могут быть и другие объяснения. Именно – абсолютной невероятностью событий в Смольном!
Никакие смелые до оголтелого фантазерства прогнозы не могли предвидеть убийства Кирова. Есть явления настолько невероятные и невоспроизводимые. что мыслятся они только по разряду сновидений, и как невозможно представить себе сейчас смерч на Красной площади, унесший Мавзолей Ленина и мягко опустивший его на Бородинском поле, так и выстрел 1 декабря прозвучал с абсолютной неожиданностью. Но именно такие внезапности на грани яви и ночного кошмара настолько коверкают психику, что ответом на раздражители могут быть только рефлекторные реакции, человек ведь не раздумывает, что делать ему, если огонь коснулся руки его. И они, эти рефлекторные акты, последовали. Сталин и Ягода выболтали в горячке 1 декабря тайну убийства Кирова.
О чем потом горько сожалели. Но – выболтали.
Как?
Ранен ли Киров (так поначалу думали врачи), убит ли, но в любом случае 2-й секретарь обкома обязан был доложить Сталину о выстреле, о покушении. И он несомненно сделал это. И не мог не доложить и сказать, опережая обязательный в таких случаях вопрос: кто убийца? То есть Сталин знал: стрелял коммунист Николаев, личность, знакомая многим, опознанная многими, безошибочно установленная. Знал! Не мог не знать и Ягода, прибывший к Сталину в 17.50. Примерно в это время Сталин звонит в кабинет Кирова, узнает, кто из врачей там, и просит к телефону земляка, хирурга Джанелидзе. Разговор начался по-русски, затем, по настоятельному требованию Сталина, продолжился по-грузински, и Сталин спрашивает, какая одежда на Николаеве – иностранного ли производства? Кепка – ленинградская или зарубежная? Вопросы из тех, которые ставят в тупик хирурга, к опознанию убийцы никакого отношения не имевшего. Но те же вопросы (по телефону) задает Ягода Фомину, заместителю Медведя, и вновь вопросы повторяются Сталиным, уже самому Медведю. Ответы одни и те же: вся одежда на Николаеве советского производства.