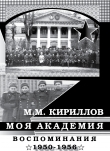Текст книги "Смерть Кирова"
Автор книги: Анатолий Азольский
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
В такой вот новой стране, в такую вот новую жизнь вступал Леонид Николаев, как все убогие тянувшийся к тем, кто посильнее и поздоровее, кто близок к власти, – к большевикам влекло его, к партийному билету, который давал Николаеву право считать себя сильным, правым. И стал членом партии, вступил в нее по льготному пункту ленинского призыва, и уже поэтому полагал, что кое-какие, беспартийным не доступные, блага жизни должны принадлежать ему, коммунисту. То есть руководящая должность с хорошей зарплатой – и ходил по партийным ленинградским присутствиям, канючил, клянчил, выпрашивал, требовал, угрожал. (Две рекомендации давал ему комсомол, чтобы вступить в партию, но пренебрег ими Леня Николаев, остался беспартийным, а вот дала партия поблажку, разрешив после смерти Ленина некоторым пополнить свои ряды – и в число этих избранных захотел включиться Николаев.) “Истеричен”, – среди иных недостатков отметила конфликтная комиссия райкома партии; в частных разговорах члены комиссии, надо полагать, отзывались о безработном коммунисте Николаеве словами попроще и погрубее. А уж после смерти Кирова его топчут и топчут, все воротят от него нос, как от кучи экскрементов. Страх, отвращение и брезгливость сквозят в каждой о нем написанной строчке. Последствия выстрела (а это он, Леня Николаев, убил Кирова) – грандиозны, но демонизация личности преступника не произошла. Николаева так и не укрупнили до фигуры исторического масштаба: ничтожный, жалкий червяк, карлик, замахнувшийся на гиганта, человечишка, страдающий манией величия, демагог и кляузник, хам, грубиян, бездельник, склочник, трус, мерзавец, послушный другим мерзавцам…
Но если на человека ленинградской толпы глянуть, изменив угол зрения, то видится задавленный невзгодами семьянин с обостренным желанием гражданина новой России пользоваться всеми теми правами, что обещаны властью. За правами он и гонялся, этот кривоногий и узкоплечий парень. Хотел стать кадровым командиром РККА – не получилось, воспротивился райком комсомола, партийные органы испытывали к Николаеву недоверие, они чуяли в нем чужака, и тот пребывал с ними в постоянном конфликте. Не лишен публицистического дарования, грамотно писать руководящие статьи не смог бы, но при некоторой практике и натаске не хуже Кирова звал бы с трибун к светлому будущему. Образование – почти среднее, мало кто в ЦК мог похвалиться и таким. (Много чего начитался Леонид Николаев, но грамотность его была напускной, языку он учился будто по магазинным вывескам, блоки слов употреблял всуе, сами слова – невпопад.) Голова большая и круглая, надменный и крикливый. Дерзил по любому поводу. Выгнали из партии, а потом восстановили, после чего он любил садиться на собраниях поближе к президиуму и задавать “каверзные” вопросы. Правда, в ту (и позднюю) пору от идиотизма партийной жизни и партийных судилищ в тихое или громкое озлобление, а то и остервенение впадали многие люди, отнюдь не дегенераты, и так получилось, что приноровиться к революционным порядкам в самом революционном городе Николаев не мог, неизвестно кем и чем отчужденный от них. Любая предлагаемая работа уже отвращала, навязчивой стала мысль о восстановлении на прежней. Размахивал руками, стучал кулаком по столу, визгливо обвинял, хлопал дверью, покидая очередное негостеприимное присутствие.
Лишь один человек в Ленинграде понимал и жалел Леню Николаева – жена, мать его детей, Мильда Петровна Драуле, с которой познакомился в Лужском райкоме, которая тоже рвалась к светлому будущему, а было это будущее – так ей в Луге казалось, – в Ленинграде, где крепкие позиции занимали прибалты, а уж ветвь латышских стрелков не могла не помнить Мильду, едва не расстрелянную беляками. И подалась семья в город Революции, там родился сын Маркс, так названный, конечно, отцом, души не чаявшим в великом учении. Через четыре года и второй сын появился, Леонид. Странный ребенок этот, второй сын, летучий, блуждающий, то появится в анкете, то исчезнет, будто его и не было…
К началу 1933 года Леонид Васильевич Николаев – инспектор в инспекции цен. Должность не руководящая, но жаждущий почета и уважения человек достиг все же некоторой высоты. Не вскарабкался на нее, а очутился там по чьей-то прихоти; его вознесли, что, возможно, им и не замечалось, поскольку себя он считал достойным занимать еще более высокие посты. 250 рублей оклад, чуть больше у Мильды, велосипед имеется (по нынешним временам – чуть ли не “Запорожец”), квартира новая получена, и не две комнаты в коммуналке, а то и одна, положенная семье из пяти человек в городе с хроническим дефицитом жилплощади, – нет, отдельная трехкомнатная (так и хочется поставить восклицательный знак) квартира, вполне благоустроенная и неподалеку от комнаты матери, к которой всегда можно отвести детей, – и все опять же по милости судьбы. (Позднее следствие уперлось в подсказанную Сталиным версию и никак не желало местом жительства семьи считать эту отдельную квартиру, везде писался старый, до вселения на улицу Батенина, адрес дома, где Николаев соседей презирал, а достойным собеседником признавал только проживавшего там немца.)
Все, короче, хорошо. Кроме одного – людского неблагополучия окрест. В дневнике Леонид отводил душу, взывая к справедливости и к милости падшим, в число которых включал и себя. Так оскорбленный взрослыми ребенок прерывает плач, чтобы крохотным мстительным кулачком погрозить обидчикам…
В начале 1933 года в Германию зачастил гражданин Голландии Маринус ван дер Люббе, человек того же склада и покроя, что и Леонид Николаев. Был он на пять лет моложе его, перебегал с работы на работу, образование получил почти богословское да дома наслушался проповедей. Не единственный ребенок в семье, мать, пока жива была, молитвами и наставлениями выколачивала из него дурь, а юнца звало вперед и ввысь какое-то вымышленное им Большое Дело. Уродом его, пожалуй, не назовешь, хотя получал по инвалидности пенсию, подпортив зрение, когда работал каменщиком. Семь гульденов в неделю – возможно, и маловато, но путешествовать по Европе он мог в поисках неведомого пока Большого Дела. Оповестил однажды всех знакомых и незнакомых (отпечатав на свои деньги открытку), что переплыл Ла-Манш. Новость интереса к нему не возбудила. Тогда поскандалил на родине из-за недоплаченной пенсии, разбив стекла и громогласно обозвав кое-кого “эксплуататором”. Его, похоже, не так уж влекло Большое Дело, как огласка происшествий, с ним самим, Маринусом ван дер Люббе, связанных. (Николаев родился и жил в стране, где языки развязывались только при вселенских пожарах. Он поэтому огласку самому себе делал в случайных разговорах или в дневнике, расписывая будущие подвиги: вот он подбегает к машине Кирова, вот он…) Таких фантазеров, к чему-то еще и рвущихся, как Маринус ван дер Люббе, таких полубезумных молодых людей в Европе конца 20-х годов – навалом. Мировой кризис доказал всем, что “так жить нельзя”; уже не свистели пули и не грохотали орудийные залпы, эшелоны с ранеными не мчались с фронта в тыл, но Европа испытывала фантомные боли: от недавней бойни кровью пованивало. И русская революция, блистательно одолевшая буржуазию, подзуживала недовольных. В деньгах Маринус ван дер Люббе не купался, его, мелкого торговца при случае, крупный капитал раздражал, и сама судьба проложила ему дорогу к коммунистам, как, впрочем, и многим людям Европы. По молодости лет его приняли в комсомол, где вовсю развернулся его, скажем так, леонид-николаевский характер. Всем недовольным был Маринус, с единомышленниками не считался. Да и они его не жаловали. Он им ставил ультиматумы – а они его выгоняли. Четырежды выгоняли из комсомола – и трижды он вступал вновь, надеясь на то, что ему поручат какое-то Большое Дело. Так и не поручили, и в четвертый раз вступать в ряды не ленинского, но однако же комсомола все-таки – Маринус не пожелал. Охота к перемене мест гнала его, и как некогда Николаев вдруг оказался в Самаре, так и Маринус попытался обосноваться в одном южнонемецком городишке. Имел знакомства с некоторыми нацистами, его заприметившими. С женщинами не сходился, связи с ними – какие-то обрывистые, скудные, странные. Но в бумагах самого влиятельного гомосексуалиста Германии капитана Рема нашлась его фамилия, неизвестно, правда, к какому Делу склонял его глава штурмовых отрядов – Большому или Малому. В феврале 1933 года полиция зафиксировала его угрозы поджечь рейхстаг, выкрикивал он их в пивной, где и не такие злодейские речи услышишь. Ну, а в общем, все то же, что и в дневнике Николаева. Но если тому попасть в Смольный, где он убил Кирова, никакого труда не представляло, то как Маринус проникал, и не раз, в рейхстаг – загадка. Там – строжайшие прусские порядки, главный вход открыт только в исключительных (праздничных) случаях, и если депутаты с показом своей личины проходят через оба боковых подъезда (2-й и 5-й), то посетителю устраивают допрос: кто, зачем, к кому? После чего его сажали чуть ли не в кутузку, с листком запроса на посещение курьер отправлялся в зал заседаний, депутат подтверждал или не подтверждал необходимость или срочность визита, но и при положительном ответе курьер не убавлял бдительности, доводил посетителя до депутата, вплотную к нему, нос к носу.
Драконовские порядки! Тем более странно, что Маринусу удалось не раз побывать в стенах рейхстага. Следственный эксперимент установил, что он единолично сумел бы поджечь зал заседаний, но ведь осмотреться заранее надо, примериться, определить горючесть штор, ковров, гардин! Однако, каким-то путем проникал, сбивчивые показания на суде ясности не вносят, полицейские же протоколы рисуют картину весьма впечатляющую: Люббе застали почему-то без штанов, в руке – факелом горящая рубашка. Это большевику Николаеву пофартило с самого начала: в Смольный – вход свободный, лишь на этаже, где высокое начальство, изволь предъявлять партийный билет. Попробуй Люббе сунуть охране рейхстага какую-нибудь партийную ксиву, голландцу намяли бы бока. В Таврический дворец, куда рвался Николаев, тоже требовался пропуск, пригласительный билет, и он его получил бы, не прикати в Смольный Киров.
А Германия в феврале 1933 года ой как нуждалась в Маринусе ван дер Люббе! НСДАП чинно-благородно, в полном соответствии с выборными процедурами заняла свои места в рейхстаге и, как все зкстремистские партии, законным путем пришедшие к власти, начала немедленно звереть. Лозунгам национал-социалистов не дано было претвориться в жизнь. В правительстве – всего три их министра, рейхсканцлер Гитлер с дрожью в коленках прибывает на встречи с Гинденбургом, причем последний, верный служака бывшей Империи, желает видеть ефрейтора обязательно с таким же верным, как и он сам, президент, служакой – с вице-канцлером фон Папеном, тот вроде контролера, фельдфебель при ефрейторе. Невыносимое положение! Отчаянное! Что делать?
Вот над чем бились идеологи НСДАП, и в мозгах их засела возможность или необходимость благоприятного для них эпизода, который, случись он, позволил бы партии “овладеть ситуацией”. Какой именно эпизод, какое благоприятное происшествие – не знал никто. Взрыв, пожар, убийство, стихийное бедствие – все бы сгодилось, Германия вышла бы из шаткого состояния неполновластия, – рейхсканцлеру Гитлеру, короче, мешала конституция. И пожар осветил Гитлеру дорогу, факел зажег Маринус ван дер Люббе. А уж все внутригерманские события после пожара, включая “ночь длинных ножей”, индуцировали схожие эксцессы в СССР, причем Сталин вовсе не подражал Гитлеру, обе страны жили обособленно, каждая подчеркивала свою самобытность, необыкновенность, отличие от всех других государств. И тем не менее – двойники, близнецы, поразительные совпадения некоторых сторон политико-бытового устройства. Феномены подобного рода известны химикам, биологам, физикам, суть их сводится к неконтактной передаче информации от одного объекта к другому, и феномен этот объяснению поддается; важно отметить, что взаимосвязь наций и стран всегда была и будет. Но когда два государства имеют некий общий интерес, становящийся стержнем, основою их внешней и внутренней политики, то они волей-неволей начинают подражать друг другу во многом, а взаимное подражание нередко уступает место отрицанию, тоже взаимному, причем огульное отрицание и есть крайняя форма прямого заимствования, копирования. К середине 30-х годов СССР и Германия стали подобием друг друга. Там и там молодежь и старики маршировали под одни и те же мелодии, длилось взаимообогащение, шел активный обмен символами и атрибутами, проведи парад физкультурников на Красной площади вечером, дай каждому спортсмену по зажженному факелу – вот вам и повтор послесъездовского шествия в Нюрнберге, триумф воли, воли советского народа.
(15 марта 1940 года Геббельс пишет в дневнике: “…Сталина фюрер увидел в каком-то кинофильме и сразу проникся к нему симпатией”.) Много лет спустя СССР и США ввязались, при обоюдной ненависти, в одинаково позорящие их авантюры (Вьетнам и Афганистан), оружие клепали по одним и тем же образцам или аналогам. Дело доходило до курьезов: офицеры-подводники ВМФ СССР свои лодки называли – неофициально, конечно, – именами американских головных кораблей такого же точно проекта (“Вашингтон”, “Алабама”). Американские адмиралы с пиететом описывали кабинет Главнокомандующего ВМФ СССР Горшкова, на стене которого висел лозунг-призыв “Лучшее – враг хорошего”. Более того, ПВО обеих стран умудрились сбить по одному пассажирскому лайнеру, – для стратегического равновесия, что ли?
По сравнению с Гитлером февраля 1933 года Сталин находился в более выигрышном положении, конституционные запреты его мало смущали, аналогии все же весьма любопытны. В законопослушной Германии для отмены некоторых статей Веймар-ской конституции требовался вполне конституционный правовой акт, и уже
28 февраля, на следующие сутки после поджога, президент Гинденбург подписывает декрет “Об охране народа и государства”. Формализм немцев показателен, нарушение принципа “закон обратной силы не имеет” было осуществлено тоже законом – от 29 марта 1933 года, в нем предусматривалась смертная казнь за государственную измену и совершение поджогов с подстрекательской целью, имелся в виду как раз пожар в рейхстаге, потому что закон распространялся на действия в период между 31 января и 28 февраля того же 1933 года (Люббе приговорили к смерти 29 декабря и обезглавили 10 января следующего, 1934 года).
У Сталина же к концу 1934 года, к моменту выстрела в Смольном, – вся полнота власти. Оппозиция разгромлена, раздроблена, зализывает раны и, покаявшись, с поджатым хвостом возвращается к прежним местам работы, где припадает к ногам Вождя. В стране установилось шаткое перемирие, но оно могло нарушиться каким-либо внутренним опрокидывающим процессом, происшествием на пленуме или партконференции, либо внешней причиной, толчком. И его надобно было предупредить, смягчить. Тем более что значение происшедшего в Германии пожара осмыслено было немедленно, из-за разницы во времени “Правда” откликнулась 1 марта, и вещи были названы своими именами. И выводы сделаны – не только в Кремле. Сама история рассудила.
Захват Гитлером власти не мог не вызвать диктатуры Сталина, на что, впрочем, страна была обречена и без событий в Германии, естественной поступью развития; поджог рейхстага ускорил шаги до бега, индуцировал нечто такое, что по последствиям своим было адекватно пожару. Если бы в СССР нашлись (что сомнительно) экстремисты с берлинским замахом, то от идеи поджога они решительно отказались бы. Лейпцигский процесс завершился в конце декабря 1933 года оправданием “поджигателей”, то есть бесславно для Гитлера, и поджог Кремля исключался, да это было и технически сложно. Тогда – убийство. (Тем более в 1934 году, поскольку по всей Европе прокатилась волна политических убийств.) Не Сталина, конечно. Кого-нибудь из его ближайшего окружения: Молотова, Кагановича, Ворошилова. Не на улице, естественно. Привязать место убийства к какому-нибудь учреждению, такому, которое наиболее часто мелькает в печати или на слуху людей: Кремль опять же, Колонный зал Дома союзов, Большой театр. И не только в Москве. Ленинград, пожалуй, предпочтительнее. Одно название города вызывает ассоциации с Ильичем и революцией, и место есть подходящее (Смольный, легендарный штаб Октября), и человек подходящий (Киров), и обилие вариантов (близость границы).
На эту тему могли фантазировать в охраняемых кабинетах и камерах, сам Кремль спровоцировал эти спекуляции, навязав Лубянке судебные процессы 1928—1932 гг. Но черновые наброски так и остались росчерками блудливого пера, рабочие гипотезы не слетели ни с чьих уст, а уж коридор 3 этажа Смольного так никому и не пригрезился.
Так уж получалось, что Кремлю не хотелось ни взрывов у его стен, ни поджогов, ни выстрела в кого-либо. Ибо во внешней политике намечались кое-какие перемены. Раз уж решили строить социализм в одной стране, окруженной капитализмом, то о мировой революции надо забыть на неопределенное время и начать потихоньку вписываться в жизнь Европы и мира, потому что сроков мировой революции не знал даже теоретик ее Троцкий. Судом над Промпартией и Шахтинским делом попугали своих интеллигентов, зарубежных всего лишь потревожили. Предполагали активно использовать западные кредиты, намечалось вхождение в Лигу Наций и вообще причисление СССР к лику цивилизованных государств. Помешать этим процессам оппозиция уже не могла, в активность ее Сталин не верил, в заговоры против себя тем более, и создавать эти заговоры было Сталину нежелательно. Враги, конечно, есть, но на них напялен намордник потеснее железной маски, Группа Рюмина осуждена, о голоде, спутнике коллективизации, подзабыто, лишь немногие знают, что цифры пятилетки – сплошное вранье. Не так давно взрывался овациями “съезд победителей” (один из съездов в Нюрнберге тоже так назывался), морально-политическое единство достигнуто, трубить после него о какой-то еще оппозиции, руками которой убит кто-то из соратников (что вообще казалось немыслимым), было бы опасно и вредно, наличие любого сопротивления Сталину – это же прямое или косвенное признание ущербности его курса, умалением роли Вождя. Наступил период некоторой стабилизации, так нужной и стране, и Сталину. Еще одна свистопляска с процессом казалась ненужной, выяснилось к тому же, что арсенал обвинений, бросаемых в адрес врагов (внешних и внутренних), почти исчерпался. Любой политический эксцесс нависал угрозою над самим Сталиным, неизвестно ведь, в какую сторону качнется маятник от возможного взрыва страстей в ЦК ВКП(б).
Опасность исходить могла извне – к такому выводу пришел Сталин, не мог не прийти. Зарубежные антисоветские центры как раз противились очередному очеловечиванию России, и нацеленная на них внешняя разведка успешно, кажется, отражала наскоки белогвардейцев. ОГПУ докладывало Сталину: через финскую границу просачиваются диверсанты, готовится серия терактов, один из них, сомнений нет, будет направлен на Кирова, что чревато крайне неприятными последствиями, и допустить убийство Кирова Сталин никак не мог. Потому хотя бы, что крепкая, настоящая мужская дружба связывала их, Киров – единственный человек, с которым он общался честно и тепло, не выставляя колючек своего скверного характера. Погибает Аллилуева – Сталин просит Кирова быть рядом с ним, его же в дарственной надписи именует “братом”. Конечно, никаких моральных запретов для настоящего большевика не существует, можно и “брата” убить ради счастья других “братьев”, но убийство Кирова было Сталину еще и невыгодно. Оно никак не устраивало Сталина-политика.
К началу 30-х годов зарубежные антисоветские центры впали в подавленное состояние, истощаясь внутренними склоками и обессиливаясь провалами. Был похищен глава Русского общевоинского союза (РОВС) генерал Кутепов. Агенты ОГПУ, внедренные в РОВС, то призывали к “накоплению сил” и свертыванию терактов, то пачками отправляли бывших офицеров на верную гибель, в СССР. Часть белогвардейских формирований парижскому центру не подчинялась, офицеры хотели заявить о себе чем-нибудь громким, да и в самом РОВСе витийствовали горячие головы. Что-либо взорвать или кого-либо убить – на такие дела всегда находились охотники, возможность убийства Кирова белогвардейскими пулями была более чем вероятна, потому что РОВС изменил тактику, отказался от терактов в самой Европе, отменил намечавшиеся убийства Троцкого и Литвинова, решив бомбы и выстрелы использовать только на территории СССР. Созданная в 1927 году организация “Белая идея” (а там подобрались опытные убийцы и бомбометатели) сворачивала – после серии провалов – работу на польском и румынском направлениях, все силы перебросив в Финляндию и нацеливаясь на Кирова.
О грозящей Кирову опасности был предупрежден Медведь, начальник управления НКВД Ленинграда и области, но должных мер от него не дождались. Между тем угроза теракта, направленного против Кирова, становилась все более очевидной.
К тому же Сталин Ленинграду никогда не доверял, а парторганизацию его – за преданность Зиновьеву – ненавидел. Попытка сместить Медведя натолкнулась на упрямство Кирова, тогда пошли на компромисс: заместителем Медведя послали Запорожца.
Участь Кирова. судьба его и жизнь были предопределены в тот день и час, когда Сталин отдал Запорожцу жесткий приказ: на Кирова готовится покушение врагами рабочего класса, ваша задача – покушение сорвать, сохранить жизнь Кирова и пресечь все попытки повторения!
Иного (или прямо противоположного) задания получить Запорожец от Сталина не мог.
Приказ обоснованный – и еще обоснованнее назначение в Ленинград человека, которого обязали отводить от Кирова все угрозы.
Ибо Иван Васильевич Запорожец отвечал всем требованиям бурного времени и тем задачам, которые возложил на него Сталин. В прошлом он представлял в Вене интересы Четвертого управления СССР (военной разведки) и считался хорошим ловцом душ; по примеру всех начальников он пригляделся к своей секретарше Лизе Розенцвейг и открыл в ней кучу редких достоинств, которым дал применение: канцелярская служащая Розенцвейг стала лучшей агентесой страны, известна она как Лиза Горская, а затем стала Елизаветой Зарубиной. В суматошной и живописной столице Австрии Запорожец, выискивая полезные для СССР души, подбирался к белогвардейцам, благо они были рядом, многим он давал работу в посольстве, чтоб хотя бы с их помощью сортировать фальшивки, которыми кишела Вена. И оппозиционеров, бывших и действующих, тоже привечал, да большевики в те времена, как и в будущем, ссылали в малозначащие загранучреждения штрафников разного пошиба; многих неосторожных леваков Иван Запорожец, человек широкой натуры, предупреждал о возможных арестах. Либеральный добряк этот любовью к семье и детям либо демонстрировал безвредность свою, либо там, в Вене, прикрывал светлыми домашними заботами тайную работу; люди этой профессии до конца жизни не могут уразуметь, где они: на сцене, в партере, за кулисами или обживают суфлерскую будку. В городе на Неве он стал режиссером проваленного спектакля, поскольку на сцену спрыгнул с галерки человек, оттолкнувший исполнителя главной роли и понесший отсебятину.
К октябрю 1934 года безработный коммунист Николаев, выгнанный из партии, но чудом в ней восстановленный (с выговором), дозрел до некогда рвавшегося к Большому Делу Маринуса ван дер Люббе. В этой, социалистической жизни его ничто уже не устраивает. Он взвинчивает себя перечислением в дневнике бед, на него свалившихся. И денег, оказывается, у него нет, и обед его состоит из стакана простокваши, и все попытки его вновь занять руководящую должность не приносят желанных плодов, и партийный выговор с него не сняли, и всюду несправедливость, черствость, равнодушие начальников к судьбе простого человека, он, короче, нищ, наг и сир, – так нагнетает он в себе решимость сразу, одним махом покончить со злом, которое – повсюду. Большое Дело зовет его на подвиг, он уже видит свое имя напечатанным в газете – и поэтому автобиографию пишет крупными печатными буквами, любуясь ими, а на недоуменный вопрос Мильды, читавшей все написанное им, отвечает примерно так: чтоб сын Маркс, когда повзрослеет, знал, кто его отец.
(А о втором сыне, Леониде, почему-то – ни слова!) Себя он уже ставит рядом с Желябовым и Радищевым, хотя тот терактами, кажется. не увлекался. Приходит к выводу, что “коммунизм и за 1000 лет не построить”. Однако отвергаемый им общественный строй уважает все-таки, к образу его взывает, пишет письма Сталину, Кирову, челяди того. Выплескивает на бумагу все обиды.
И – угрожает! Всем! Неминуемой расправой! Оружие у него есть, наган носит при себе на законных правах, это, пожалуй, одна из немногих оставшихся у него привилегий: всем коммунистам разрешалось иметь зарегистрированное оружие и беспрепятственно входить в Главный штаб ленинградских большевиков, в Смольный. План мщения созрел – убить Кирова! Мысль скачет, мысль фонтанирует каскадами блестящих идей. Радостно потирая руки, он хватается за перо и составляет детализированный план убийства, прилагает к нему схему передвижений Кирова по городу. Когда-то он, болезнью обезноженный, с захватывающим интересом читал книги о разбойниках, а позднее – о борцах за правое дело; в этой невообразимой смеси историко-революционных брошюрок, газетной шелухи, названий улиц и площадей бывшего Санкт-Петербурга, где убивали царских приспешников, – в такой мешанине нестыкующихся деталей только голова отчаявшегося и малограмотного человека, ни разу никого не убивавшего, могла родить нелепые планы умерщвления Кирова. Намечались места, наиболее удобные для выстрела, и прежде всего – дом на улице Красных Зорь, где проживал Киров. Выбрать момент и, пробежав 200 шагов, оказаться в подъезде до того, как там окажется “объект”, и стрелять, стрелять, стрелять… Или по пути следования того надлежало сделать первый выстрел и “совершить набег на машину”, разбить стекло и “палить, палить, палить…”. Существовали и другие варианты. Но – что надо особо отметить – нигде в планах убийства нет 3 этажа Смольного! Да, Смольный отмечен, но не конкретизирован, ни сколько шагов пробежать, ни как стрелять.
Нет третьего этажа! И тем более того ответвления от коридора, полного всегда людей, в кабинет 1-го секретаря обкома, к Кирову. Третий этаж начисто исключался из планов – из-за обилия людей, да и там, легко догадаться и заприметить, постоянно два или три сотрудника НКВД. Николаев, готовый к Большому Делу, жаждущий славы, вовсе не хотел этой славы при жизни. только после, люди вообще внушали ему страх, они 14 ноября, на перроне московского вокзала окружившие сошедшего с поезда Кирова, испугали Николаев, который потом оправдывался в дневнике: много народу было, Кирова заслоняли!..
Итак, план выработан, наган отстрелян, патроны запасливо куплены давно, оружие можно беспрепятственно пронести с собой куда угодно, поскольку был случай, Николаева при попытке передать письмо Кирову задержали, обыскали, наган либо не нашли, либо не обратили на него внимания и потому задержанного отпустили с миром: много людей хотели припасть к стопам властителя Ленинграда, а что человек с наганом – так коммунистам можно, это же проверенные партией люди. (3 или 4 декабря на стенах и фонарных столбах расклеили объявления: всем сдать оружие!)
И в обрывочных дневниковых записях мольбы к себе: да соберись с духом, сделай это, соверши! Опасался: пробежать 200 метров не дадут, “палить” не позволят, подстрелят на ходу, на лету, – потому в портфеле сделан разрез, для удобства, чтоб не мешкать, открывая его, а просунуть туда руку и… (Ну чем не бомбист из брошюрки о народовольцах?)
Все готово для теракта, написано даже прощальное письмо с изобличением бездушных партбюрократов. Письмо, разумеется, предсмертное, но – обращенное, скорее, к самому себе, ибо убивать кого-либо, а тем более Кирова, Николаев не собирался! Только себя! Но обязательно на виду людей, при стечении народных масс! Чтоб они разнесли по всему миру весть о героическом поступке Леонида Николаева, для чего и прощальное письмо, и дневник, и подобранные – листочек к листочку, бумажка за бумажкой – все его заявления, прошения, просьбы помочь, взывания к совести. Ни один убийца не оставил столько следов и примет готовящегося преступления, как это сделал Леонид Николаев. И весь план предполагаемого убийства, все сокрушающие партию фразы – игры махонького человечечка в героя, в выразителя чаяний масс, и покажи эти планы воскресшему Савинкову – тот сплюнул бы, пожалуй, и преподал уцелевшим фанатикам своим жесткий совет: держитесь-ка вы подальше от этого психа, вредящего святому революционному делу…
Но даже просто подбежать к Кирову и застрелиться на его глазах – нет, не находил Николаев в себе решимости. И хотел, чтобы его загодя арестовали, забрали, учинили бы допрос, – для чего он и таскался в немецкое консульство, нес там ахинею в надежде, что бдительные чекисты загребут его.
Едкая догадка распирает его воспаленный мозг, когда вспоминается причина, по которой его изгнали из партии. Штат сократили, а ему, инспектору по ценам, предложили работать на транспорте, то есть командировки, частые отлучки из Ленинграда, где останется Мильда, – уж не ради ли того, чтоб отделить его от жены, задумано сокращение штатов?
И вот наступает этот день, день Первого Декабря 1934 года.
Политические и бытовые убийства, наиболее громкие и значительные, поражают тем, что “трагическое стечение обстоятельств” – их обязательное условие. Уж очень своевременно стекаются обстоятельства, уж слишком хватко разные житейские мелочи сплетаются в сеть, из которой не выпутаться обреченному, но где нередко застревают сами покушающиеся на убийство. Злой рок и улыбка фортуны – непременные спутники всех заговоров, сюжеты финальных сцен так порою замысловаты, что подрывается вера в подлинность их. На Генриха IV было совершено восемь покушений, он предпринял чрезвычайные меры безопасности, никто не знал, в какой карете поедет он и куда, и тем не менее смерть настигла его, королевский кортеж влетел на узкую улочку, конная стража, не вместившись в габариты ее, отделилась – и на подножку кареты вскочил убийца, дважды пронзивший стилетом давно намеченную жертву. Кучер Наполеона, консула, поднажрался в таверне и так спьяну погнал лошадей, что карета будущего императора миновала подложенную бомбу. Шесть или восемь раз Гитлер был на волоске от смерти, всякий раз уклоняясь от нее импульсивными решениями, подменяя себя кем-нибудь или раньше протокольного времени сходя с трибуны. Вся история изобилует счастливыми или несчастливыми (смотря для кого) совпадениями, которые ускоряют события, приближая их к неотвратимому финалу, или, наоборот, финал отдаляют. Так называемые исторические события происходят на фоне обычнейшей жизни – семейных дрязг и похоти, пивных и конюшен, трамваев и уборщиц, то есть всего того, что существует всегда и вообще; все случайности – выпяченные детали неразличимого скопища предметов и явлений, они, эти внезапно появившиеся детали, не поддаются, сваленные в кучу, разбору и опознанию, они – до поры до времени – пребывают как бы в несуществующем мире, превращаясь во второстепенные или третьестепенные для человека факторы, глазу человека не видимые. К этой куче и тянутся загребущие руки историков, мешками уносят добычу, подлежащую сортировке.