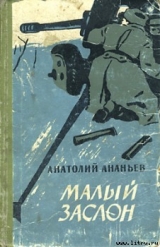
Текст книги "Малый заслон"
Автор книги: Анатолий Ананьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
7
Едва Майя успела уложить и снова перебинтовать сержанта Борисова, как в блиндаж внесли ещё одного раненого. Это был совсем молодой боец, невысокий, сухощавый, с рыжей кудрявой головой и вздёрнутым, как большой палец, носом. Ему осколком перебило ноги, он потерял много крови и теперь был без сознания. Его положили возле печки. В топке ещё тлели угли и красным светом заливали неподвижное и бледное безусое лицо бойца. Майя накладывала ему на ногу жгут. Она была в шинели, застёгнутой наглухо, на все крючки; капли пота покрыли её лоб, щеки; жгут выскальзывал из влажных рук, она наклонялась и помогала затягивать его зубами. Боец лежал спокойно, запрокинув голову, и молчал, словно это не у него были перебиты ноги и не ему причиняла санитарка боль. А в блиндаж в это время вошли новые раненые: высокий пехотинец с перевязанной головой привёл своего товарища, которому осколком ранило бедро. Прижимаясь плечом к стенке, вполз раненный в ступню связист и тут же, у порога, опустился на пол. Потом на шинели принесли наводчика первого орудия, а через минуту вошёл разведчик Карпухин. Ему пулей перебило руку ниже локтя. Кто-то прямо поверх шинели наложил жгут и плотно перетянул руку бинтами. Карпухин остановился посреди блиндажа, осматриваясь.
– Сюда садись, – предложил высокий пехотинец с перевязанной головой. – С левого?
– С левого, – морщась, ответил Карпухин и присел рядом. По распоряжению капитана он вместе с другими разведчиками ходил на левый фланг отражать атаку немцев.
– Отбили?
– Отбили.
– Навалились, сволочи!
– Власовцы…
– Ну?!
– Сам слышал мат.
– Гады!
– Под самые окопы подошли. Ладно, автоматчики наши подоспели, иначе бы не отбили атаку. А этот власовец остановился – и ну матом, матом на своих же, дескать, куда драпаете? Парабеллумом машет. Гляжу: такая у него рязанская морда, дай тебе боже.
– Неужто наш, русский?
– А то кто же? Власовец. Предатель, гад! Да он там, видать, не один.
– То-то такая смелость, злее немцев воюют.
– А куда им деваться! Что там, что тут – один конец – могила!
Смолкли, ожидая, когда подойдёт к ним санитарка. Но Майя прошла к лежавшему у порога связисту, который настойчиво звал к себе, и принялась осторожно снимать с него сапог.
– Ножом по голенищу, – решительно предложил связист, вдруг перестав стонать. – Ножом! Вот здесь перочинный, в кармане, достань!
Высокий пехотинец закурил самокрутку. Карпухин попросил свернуть и для него, и две струйки сизого махорочного дыма потянулись к дверному просвету.
– Пить, сестра, пить, ради бога, – умоляюще просил из угла наводчик.
Сержант Борисов ворочался и бредил. Набухшая повязка сползла с плеча. Он то и дело порывался встать, упираясь здоровой рукой о пол, и выкрикивал:
– Орудие на запасную! Орудие на запасную!
Раненный в бедро солдат полушёпотом повторял:
– Как же мы отсюда, а? Куда нас теперь?
Высокий пехотинец только угрюмо молчал и трогал рукой перебинтованную голову. Карпухин наблюдал за Майей. В локте у него так сильно стучала боль, что казалось, кто-то методически бьёт по руке маленьким молоточком. Он до хруста стиснул зубы, так что на щеках вздулись желваки, и чтобы унять боль, снова заговорил с пехотинцем.
– Чем тебя?
– Осколком.
– Осколочная трудней заживает.
– Один черт.
– Нет. Весной царапнуло меня осколком по бедру – три месяца провалялся, а с пулевым и недели бы хватило, – возразил Карпухин. – Пулевое, да навылет – ерунда. А вот когда кости побьёт – считай, списали.
– Срастутся и кости.
– Слесарь я, мне без руки нельзя.
Наконец Майя догадалась и сняла шинель; в гимнастёрке работать свободнее и легче, и к тому же в блиндаже, как ей казалось, было тепло. Но хотя она торопилась и перевязывала проворно, все же видела, что не успевает, и это огорчало и волновало её. А бинт, как нарочно, дрожал в пальцах, путался и то и дело падал на пол. Она вспомнила, что в госпитале все было иначе – чисто, бело, спокойно. Подашь воды, лекарства, измеришь температуру… А здесь – грязно, серо и сыро. Руки слипаются от крови и некогда их помыть, да и негде. И ещё заметила она теперь, что от двери по низу сквозит холод, но завесить её нельзя, будет темно. И печка остывает, и некому подложить дров.
– Ты потуже, сестра, потуже затяни, – просит связист. – Не бойся…
Ошеломлённая в первые минуты – столько раненых сразу! – Майя мало-помалу начала успокаиваться. Да не так уж и много было раненых, и все они терпеливо ждали своей очереди. Она стала прислушиваться к разговору; высокий пехотинец ругал Ануприенко.
– Что ваш капитан? – недовольно говорил он.
– А что? – возражал Карпухин.
– Размазня, вот что. Разве так воюют? Фрицы прут, а ваша пушка молчит. Э-э, да что там говорить, подвёл ваш капитан, подвёл.
– Не пушка, а арудия. У нас арудия.
– Ну. арудия. Где оно? Почему не стреляло?
– С закрытой било. Это третье наше. А первое и второе – на прямой наводке у дороги. Разве они на левый достанут?
– Ну, пускай так, но только куда оно било, ваше, третье, вот ты что мне скажи. Огонь так огонь, нечего киселём кормить. Знали б, не надеялись.
– А может, ранило кого или сломалось что?
– Где это записано, скажи мне, чтобы на войне пушка ломалась?
– Не пушка, а арудия.
– Ну, арудия.
– Могло и снарядом разбить, а могло и просто затвор заклинить.
– Разбило, заклинило… это не оправдание!
– А потом-то прибавили огня. Так ведь?
– Потом не знаю, не видел.
– Но капитан тут ни при чем.
– Ладно, хватит про капитана, вон санитарка к нам идёт, дождались наконец.
К ним торопливо подошла Майя.
– Его сначала, – сказал Карпухин, кивнув на пехотинца.
– Чего там, все равно, – отозвался пехотинец. И тут же: – Ну, да ладно, давай…
Майя сняла с его головы повязку: под слипшимися седыми волосами кровоточила рваная рана. Разворачивая пакет, Майя приложила стерильные подушечки к ране и начала бинтовать. Пехотинец смотрел на неё удивлённо и недоумевающе, словно встретил знакомую, но заговорить не решился; санитарка была похожа на ту самую, которая служила у них в роте и потом куда-то ушла, дезертировала, как сказал старшина; но это случилось несколько дней назад и не здесь, так что пехотинец подумал, что ошибся, потому что мало ли бывает похожих друг на друга людей, да к тому же он плохо знал в лицо свою ротную санитарку. Майя же, перевязывая и торопясь, совсем не замечала этого взгляда пехотинца. Она была настолько поглощена работой, что если бы даже и посмотрела пристально на солдата, все равно не узнала бы его; её больше волновало другое – жив ли Ануприенко. Только что о капитане разговаривали Карпухин и пехотинец, и Майя, теперь подойдя к ним, намеревалась спросить, что они знают об Ануприенко и были ли на наблюдательном пункте? У пехотинца она не стала расспрашивать, решив, что Карпухин должен знать лучше; но когда она сняла с разведчика бинт и увидела, как искалечена его рука, сразу же забыла о капитане. «Карпухину ампутируют руку!» – ужаснулась она.
Она волновалась больше, чем сам Карпухин, и полушёпотом проговорила, успокаивая скорее себя, чем разведчика.
– Заживёт, ничего, заживёт…
И оттого, что санитарка так бережно перебинтовывала его руку, Карпухину стало легче; на какую-то долю минуты в локте прекратилась боль – во всяком случае, так показалось разведчику, – и он улыбнулся, но совсем не той весёлой, беззаботной улыбкой, какая всегда была у него на лице, а сдержанной, болезненно-печальной; когда Майя закончила перевязывать, он ласково поблагодарил её:
– Спасибо, сестрица.
Лежавший в углу раненый наводчик настойчиво просил пить, и Майя ушла к нему. Как только она отошла, высокий пехотинец вполголоса спросил Карпухина:
– Ваша?
– Кто?
– Санитарка.
– Наша, – медленно проговорил Карпухин с нескрываемой гордостью.
Но пехотинец опять подозрительно покосился на санитарку, потому что она была уж очень похожа на ту, которая неожиданно убежала из их роты.
В это время двое разведчиков принесли с наблюдательного пункта ещё одного раненого связиста:
– Сестра, принимай!
– Напирают немцы? – спросил у них Карпухин.
– Сейчас притихли, готовятся к новой атаке. Горлова убило.
– Горлова?!
– Осколком в голову.
– Вот и повидался с женой перед смертью…
Разведчики ушли. Карпухин теперь думал о Горлове.
Тесный блиндаж почти весь был заполнен ранеными. Если принесут ещё хотя бы двоих, разместить некуда. Майя видела и понимала это. Перевязывая связиста, она мысленно решила: тех, кто может двигаться самостоятельно, она пошлёт сейчас к машинам, а тяжелораненых потом перенесёт на носилках – не вечно же будет длиться бой! Потом на машинах их увезут в санитарную роту полка.
8
– Вот тебе и тишина, – задумчиво проговорил повар Глотов и, полуобернувшись, посмотрел в небо.
Звуки выстрелов раскатывались по лесу и, казалось, смыкались здесь, у красной стенки обрыва. Комки глины и чёрной земли срывались вниз, оголяя корни нависшей над оврагом дремучей ели.
– А утром было тихо, – как бы сам себе ответил Силок. – Так тихо – расскажи кому-нибудь, что на войне такое бывает, не поверят.
Под обрывом, прижавшись к самой стене, стояли машины. Водители прогревали моторы, и снег таял у выхлопных труб. Походная кухня дымила, бросая искры на ветви дремучих елей.
– Знаешь, о чем я думаю сейчас? – снова заговорил Глотов, обращаясь к бывшему санитару. – Кончится война – и столько работы будет, что в десять лет не провернёшь, потому что все разбито, разрушено.
– Рано загадывать, до конца войны ещё – ой-ей-ей!
– Закончим. Теперь-то наверняка закончим. В сорок первом ещё подумалось бы, а теперь что – наступаем, наша берет.
– В сорок первом не верил, что ли? – удивлённо спросил Силок.
– Всяко бывало.
– А я верил.
– Так чего же теперь?
– И теперь верю, но загадывать наперёд не хочу.
– Загадывай не загадывай, а чему быть – тому не миновать. Три года воюем. И под Москвой немцы были, и на Волге, и под Курском, и сколько, скажу тебе, поразрушили, сколько поразбили добра, не счесть. Как подумаю, как вспомню все, что видел, жутко становится. Так что я, Иван Иваныч, не загадываю, я, брат, говорю то, что есть на самом деле: кончится война, придёшь домой и засучишь рукава выше локтей. Понимаешь, что обиднее всего: работал человек, общество работало, копило, строилось, обживалось, и вдруг пришли откуда-то люди, не люди, а звери, фашисты, пришли, растоптали, и ты должен начинать все сначала, заново. А за что, про что? Нет ни с кого спросу?
– Есть спрос, – возразил Силок, встрепенувшись.
– С кого?
– С Гитлера!
– Хе, ты его хоть подвесь – сдохнет, на том и вся. Я тебе другое скажу: вот придём мы в Германию, разве удержишься? Обида, она, брат, гложет. А если по-человечески – так ли надо?.. Жить бы да жить, детишек растить да радоваться. Вот моя пишет, а что она пишет? Вроде, будто и хорошо все, работаем, а между строк почитай – эва! Трое малых, да хозяйство, да ещё ж и колхоз. Хлебушко-то с ветки не сорвёшь, ан в землю кланяйся до седьмого поту. А до войны, скажем, чем не житьё было? Все чин по чину. Самая что ни есть жизнь началась. И вот – на тебе!..
– За жизнь и бьёмся.
– И я о том. Пишет, значит, моя, а что пишет? Так, для успокоения. Не думал чтобы, не расстраивался. Бабы, они на это умный народ. Умеют. Молчат да делают, а горе в сердце носят. Смотри-ка, смотри: Опенька к нам!..
По склону оврага быстро спускался Опенька. Он почти бежал, прижимая к груди автомат. Полы шинели раздувались, вспорашивая снежок. Глотов и Силок удивлённо переглянулись и стали молча ожидать, когда подойдёт разведчик.
Ещё издали Опенька закричал:
– Подъем поварам!
Разгорячённое лицо его дышало паром, а синий шрам на щеке был особенно заметён.
– За поварами дело не станет, готовь котелок, – вставая, шутливо ответил Глотов. – Да торопись, а то, вижу, брюхо к спине присохнет.
– Не до шуток, – сказал Опенька, остановившись перед поваром и все ещё тяжело дыша от бега. – Капитан приказал вам немедленно идти к орудиям.
Но Глотов, все ещё считавший, что Опенька шутит, с весёлой улыбкой ответил ему:
– А кто же кашу доварит?
– Шофёра. А вообще не до каши сейчас, шут с ней. – Опенька махнул рукой. – Ручные гранаты возьмём, по ящику.
– Неужели в расчётах не хватает людей?
– Чего рассуждать: хватает – не хватает… Капитан приказал – и все. Где ящики с гранатами? Бери по одному и пошли. Ну?
Не ожидая ответа, Опенька направился к машинам.. Опережая его, выбежал на тропинку Силок. Нехотя побрёл за ними и Глотов, ворча и ругаясь.
С машины сняли три ящика. К одному из них Опенька тут же приделал полозья из досточек. Снял с себя поясной ремень и, захватив им за ящик, собрался уходить:
– Надо успеть, пока передышка, пока немцы снова не пошли в атаку. И вы не мешкайте, прямо на наблюдательный пункт, к капитану.
Но повару Глотову не очень-то хотелось идти на передовую и потому он не торопился. Позвал двух шофёров, увёл их к дымившейся кухне и долго что-то рассказывал им, размахивая руками; несколько раз открывал крышку котла, пробовал кашу на вкус, подсаливал и опять пробовал. Силок, подражая Опеньке, приладил и к своему, и к ящику повара полозья и стал терпеливо ждать, когда придёт Глотов. Наконец не выдержал и окликнул его:
– Скоро ты там? У меня все готово!
– Иду, иду!
По проторённой разведчиком дорожке они потянули ящики с гранатами к лесу. Глотов шёл впереди, то и дело останавливаясь и поправляя ремень. Чем ближе они подходили к переднему краю, гул выстрелов слышался сильнее. Над макушками елей взвихривалась сизая, как дымка, пороша. Это взрывной волной сбрасывало с веток снег. Пока Силок и Глотов ещё не попали в полосу обстрела, шли свободно, не горбясь. Глотов прислушивался к стрельбе, и каждый резкий звук ознобом отдавался у него в коленках, а Силок весело посматривал по сторонам, как охотник, впервые вышедший в этом сезоне на зимнего зайца. Он улыбался своим мыслям, потому что опять вспомнил Алтай, тайгу, а воспоминания эти всегда были приятны ему.
– Передохнем, – предложил Глотов.
Силок подтянул свой ящик и остановился рядом с поваром.
– Тяжело тащить, – согласился он.
– Ещё бы! Сколь здесь пудов?
Новая волна залпов прокатилась по лесу. Неподалёку, впереди, загрохотали разрывы мин. С ветки слетел ком снега и обсыпал Глотова. Повар присел от неожиданности, но тут же поднялся и, отряхиваясь, проворчал:
– И надо же…
– Пошли, – заторопил его Силок, теперь тоже с беспокойством прислушиваясь к разрывам и стрельбе. – Ждут нас, пошли!
– Погоди, дай отдышаться.
– Ждут нас, пошли!
– Сердце у меня что-то болит. Ноет, понимаешь, с самого утра. Не к добру это.
– Наплюй ты на своё сердце!
– Так ноет, словно бы перед могилой, – не унимался повар, трогая руками левую сторону груди, словно сквозь шинель мог услышать, как бьётся сердце.
– Брось к шутам, идём!
Теперь впереди пошёл Силок. Ремень оттягивал руку, сапоги скользили, и ящик поминутно цеплялся за кочки. Силок рывком выдёргивал его на ровное место и шёл дальше. Утром и у него было плохое настроение. Он тоже мог сказать – болело сердце, а отчего – он и сам не знал. Хотел забыться в работе, но какие дела на батарейной кухне: натаскал дров, выкопал окоп для себя, для Глотова. Разулся, перебинтовал мозоль. Что ещё? Смотрит вокруг: ели в снегу точно такие же, как на Алтае, также искрится под солнцем снег, такая же таёжная тишина… Вспомнил о Фене, как она провожала его на фронт: запорошённый снегом дощатый перрон, и она в синем шевиотовом пальто и серой пуховой шали. Машет варежкой, а красный состав набирает скорость, все сильнее и чаще стучат колёса; поворот, последняя будка стрелочника, и уже поле, снежное, до тёмной чёрточки леса. Воспоминания о доме навеяли грусть. Ещё он думал о тетрадках, оставленных в санитарной сумке. Сумка у Майи. Хотел сходить, но надо было отпрашиваться у Глотова, а Силок не хотел рассказывать повару о тетрадях со стихами. Достал из кармана письмо-треугольник, написанное ещё перед прорывом, но так и неотправленное, перечитал его и снова спрятал в карман. Тайком от Глотова на клочке бумаги написал стихотворение. Не понравилось, потому что было грустное. Тщательно зачернил строчки и оставил только одно четверостишие:
Взбегают маки на пригорки,
И ты в косынке – маков цвет.
Мне день тот памятен и дорог,
Тогда мне было двадцать лет…
Когда пришёл Опенька и передал приказание командира батареи, Силок обрадовался и с готовностью собрался идти на передовую – казалось, именно этого и не хватало ему все утро. Он словно ожил, даже захотелось петь. Орудийный гул нисколько не пугал его, а напротив, вселял бодрость, и он шёл теперь навстречу этому гулу, слегка наклонившись вперёд, как навстречу пурге. За спиной слышался скрип полозьев и грузные шаги Глотова.
– Тише ты, – попросил повар. – Успеем ещё под пули.
– Нажимай! – не оборачиваясь, ответил Силок и ускорил шаг. – На батарее нас давно ждут.
– Знаешь, Иван Иваныч, кого я вспомнил? – начал Глотов, намереваясь вовлечь Силка в разговор и хоть этим заставить его идти медленнее.
– Кого?
– Начпрода полка.
– Ну и что?
– Потешный человек… Да ты иди потише, ошалел, что ли? Слышишь?
– Слышу.
– Потешный. В газетку сморкался…
– Кто?
– Да начпрод. Из носу каплет, так он газетку только: ш-мыр-р!.. «Туго, – говорит, – нынче с носовыми платками». Куда несёшься, черт, как на погибель? Заморил, окончательно заморил.
Силок неожиданно остановился и подал знак рукой молчать. То ли показалось, ему, то ли вправду – между деревьями промелькнула сизая фигура немецкого солдата. Посмотрел пристальнее – никого, будто сомкнулись угрюмые ели и застыли под тяжестью голубоватого снега. Осторожно ступая, подошёл Глотов. Он скинул с плеча карабин и держал его наготове.
– Что случилось? – тихо спросил он.
– Кто-то, по-моему, пробежал под елями и спрятался вон за тем стволом.
– Немец?
– Кто его знает… Но, по-моему, похож на немца.
– Ну? Может тебе померещилось?
– Я и сам не пойму – померещилось или действительно кто-то пробежал. Неужели померещилось?
– Может, немец? – снова робко спросил Глотов.
– Может быть и немец, но откуда ему здесь быть, и чего бы он один сюда забрался? Это, видно, показалось мне.
– За которым, говоришь, стволом?
– Вон за той однобокой елью, вон ветка нахилилась к сугробу.
Они ещё с минуту стояли молча и смотрели на изогнутый и наклонившийся к снегу ствол, готовые каждую секунду принять бой, но за стволом никого не было видно, и тогда, решив, что Силку все это показалось, взялись за ремни и двинулись было снова вперёд. Но как раз в это время из-за ели выбежал немецкий солдат в сизой шинели и каске; обойдя сугроб, он спрятался за другую ель.
Глотов и Силок, как по команде, легли в снег. Немец снова показался в просвете между деревьями. Он двигался прямо к тропинке, словно намеревался перерезать дорогу бойцам. Силок вскинул карабин и, когда немецкий солдат подошёл совсем близко, выстрелил. Немец изогнулся коромыслом и, сделав несколько шагов вперёд, упал.
Силок перезарядил карабин.
– Может, он не один? – прошептал Глотов.
– Посмотрим.
Несколько минут бойцы лежали неподвижно, наблюдая за лесом. Но между деревьев больше никто не показывался.
– Чуяло моё сердце, – снова зашептал Глотов.
– Замолчи ты со своим сердцем! Как думаешь, убит немец? Надо посмотреть.
Разгребая локтями снег, Силок пополз вперёд. Затем, осмелев, начал перебежками приближаться к неподвижно лежавшему под елью немцу, а когда увидел, что тот мёртв, смело пошёл в полный рост. Силок был уже возле немца и рассматривал поднятую с земли снайперскую винтовку, когда подошёл Глотов.
– Снайпер, сволочь, видишь!
– Может, он не один? – опять прошептал Глотов, настороженнно оглядываясь.
– Чего трусишь? Снайперы десятками не ходят, – резко ответил Силок, но все же и он для осторожности оглянулся.
Глотов, осмелев, сапогом повернул убитого немца на спину и, нагнувшись, хотел достать у него документы, но в это мгновение грянул короткий выстрел. Силок как-то странно икнул и заморгал глазами. Изо рта хлынула кровь, он качнулся и повалился боком на убитого немца. Глотов отпрыгнул в сторону и, выронив карабин, кинулся бежать. Второго выстрела он уже не слышал – сильный удар в спину сбил его с ног. Он инстинктивно прополз ещё несколько метров, последний раз вздрогнул всем телом и затих.
Это стрелял второй немецкий снайпер. Выждав время, он вышел из укрытия и, крадучись, добрался до тропинки. Пройдя немного, остановился у высокой ели, вскарабкался на неё и спрятался в гуще темно-зеленой хвои.
По тропинке цепочкой двигались раненые. Их было пятеро. Впереди шёл Карпухин, придерживая ладонью перебинтованную руку. За ним шагал высокий пехотинец. Он почти нёс своего товарища на спине, пошатываясь, напрягая силы. Двое солдат из орудийного расчёта замыкали цепочку. Оба они были ранены тяжело – один в плечо, другой – в бедро, и помогали друг другу идти.
Раненые только что вышли из зоны обстрела и теперь чувствовали себя в безопасности. Даже мрачный высокий пехотинец повеселел.
– Крепись, Петруха, крепись, – сказал он своему товарищу, которого почти нёс на спине, – продержись ещё часок, и будем в санроте. Ушли от смерти, теперь наверняка ушли.
Шагавший впереди Карпухин приостановился, доставая здоровой рукой кисет из кармана шинели.
– Помоги-ка, братец, свернуть цигарку, а то одной рукой ещё не наловчился, – попросил он высокого пехотинца.
– Давай.
Оба закурили и, прежде чем идти дальше, прислушались к вновь усилившейся стрельбе.
– Лютует, гад.
– В новую атаку пошёл.
– Отобьют.
– Отобьют, – уверенно подтвердил Карпухин.
– Далеко ли ещё идти до ваших машин?
– Нет. Пройдём полянку, а там вниз, к овражку, и – на месте.
Раненые вскоре действительно вышли на небольшую полянку. Солнце уже клонилось к закату, по снегу тянулись длинные тени от высоких елей.
– Вон за тем ельником и овражек, – оживился Карпухин. Он опять приостановился и, обернувшись к пехотинцу, спросил: – Устал, поди? Может, помочь?
– Ничего, сам как-нибудь дотащу, ты же говоришь, близко.
– Рядом, – Карпухин поднял руку, чтобы ещё раз указать на ельник, за которым сразу начинался овраг, но откуда-то сверху, как щелчок, глухо прогремел выстрел, и разведчик, схватившись здоровой рукой за живот, медленно повалился в снег. Хотя ещё совсем не ясно было, кто и откуда стрелял, пехотинец сразу понял, что это где-то засел немецкий снайпер.
– Ложись! – крикнул пехотинец.
Но сам уже не лёг, а рухнул в снег, подминая под себя товарища. Снайперская пуля прошла навылет через голову. Пехотинец потянулся на снегу, как спросонья, затем поджал ноги и глубоко вздохнул в последний раз. Третьей пулей убило его товарища. Замыкавшие цепочку артиллеристы поползли было к ели, надеясь укрыться за её густыми ветками, но им не удалось спастись от меткой пули снайпера.
Карпухин медленно перевернулся на спину, в тёплой ещё ладони таял снег и каплями, как слезы, затекал в рукава.







