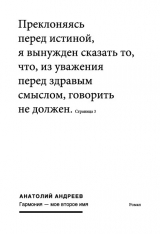
Текст книги "Гармония – моё второе имя (СИ)"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Время, само собой, выбрало этих ковбоев своими героями.
Они затеяли хитроумный (то есть весьма простой: шмотки, сигареты – купи-продай) бизнес и задумали преуспеть, ибо кому, как не им, было процветать в этом муравейнике, населенном жалкими тварями. Раз кругом одни дураки – грех не нажиться на их слабоумии. Не превращаться же в одного из них. Логично?
О то ж… Простая арифметика.
Берии, который сначала работал инженером в КБ и подрабатывал таксистом, а потом работал таксистом и подрабатывал инженером, повезло: старший брат его, Одиссей (имя, ставшее кличкой; кличка от клички – Одя), отсидел за убийство изверга-отца, и теперь вышел на свободу, имея в активе двенадцать лет срока, изъеденное временем честолюбие, подточенное здоровье и виды на нефтяной бизнес.
Разумеется, набиравший силу Одя не забыл о родном братце. Время позволяло брать кредиты, и Берии организовали сумасшедший кредит с таким количеством нулей и под такие смешные проценты, что герои наши вознеслись, словно влюбленные на полотнах Шагала, распираемые адреналином и разучившиеся ходить, – воспарили и над куполами церквей, и над крестами могил, и над городом, и над миром. Надо всем, что шевелится.
В одночасье жизнь Лаврентия (Палыча) и Юрия Борисыча круто поменялась. Кому война, а кому мать родна; кому катастройка, а кому рай, второй этаж ада (скоростной лифт, снующий туда-сюда, вечно перегруженный, к вашим услугам; впрочем, стали появляться и VIP-лифты: мгновенно, бесшумно, всюду благоухание и демоны, в обличье ангелов, под ваши белы ручки с нашим почтением; прогресс не остановить и не ограничить никаким пространством и временем).
Они сняли квартиру (убогую хрущобу для начала – для пробы), зарегистрировали фирму, назвали ее почему-то «Дом Достоевского» (сокращенно «ДД», – «ди-ди», если ласково, или «дабл ди», если необходима солидность) и развернули бурную деятельность. В секретаршах у них стараниями Юрия Борисыча тут же прописалась уже знакомая нам Вика из совкового прошлого, из 11 «Б», у которой была тьма подруг, желающих немало – и немедленно! – зарабатывать, но не желавших много работать. Сама Вика по квалификации и роду одаренности проявила себя как гений по оказанию массы мелких, но удивительно приятных услуг. Такие услуги оказывала!
Юрий Борисыч, наконец-то, понял, для чего он был рожден на свет божий: чтобы жадно наслаждаться чувством презрения ко всей этой копошащейся вокруг мелюзге с рабской психологией, вкалывающей со страху за жалкие пять-десять долларов в месяц. Он где-то в глубине души даже трогательно любил весь этот снующий, находящийся в броуновском движении животный мир (флору и фауну, если по-научному), ибо благодаря ему упивался оборотной стороной чувства презрения – чувством превосходства, процентов на 90 состоящим из чувства свободы.
Комплекс императора: теперь он не понаслышке знал, что это такое. Хочу казню, хочу милую. Впрочем, милую Вику он хотел всегда.
А бизнес творился до смешного легко (отсюда и презрение ко всем, кто не сумел «просечь» этот механизм): купил – привез – продал – купил – привез – продал – купил – привез – продал. До скучного легко. Однообразно. При малейшем сбое в отлаженной цепи компаньоны, Палыч и Борисыч, набирали мобильный (мобильное время породило мобильные телефоны) Одика. А тот с несговорчивыми оппонентами умел считать только до трех. Был нервным. Проблемы решались как по волшебству. Думать об укреплении и разрастании бизнеса, то есть о презренной работе, которую наемные холуи знакомых братков называли креативом, не хотелось: душа стремилась к полету.
Вещества, которым питалась свобода, а именно: денежных знаков, на которых были изображены важные пацаны, тоже президенты, – было в избытке. Стали строить загородные дома, каждому по коттеджу. Недалеко от Минска. В роще. Возле воды. Рай. Престижнее не бывает.
Мало.
Съездили за границу, побывали в Париже, заглянули на праздник пива в Германию. Эйфелева башня показалась прикольной (хотя могла бы быть и повыше), в Германии без языка – не фонтан, даже на фэсте.
Скучно.
Однажды утром им позвонили с незнакомого мобильника: сообщили, что могучего Одиссея убили злые люди. Вот взяли просто так – и убили. На ровном месте. Ни за что ни про что. Суки, а не люди. Берия обезумел. Следующая партия товара им уже не пришла, кредит вернуть они были не в состоянии, Вика стала посматривать в сторону конкурентов (к сожалению, еще одна грань ее разносторонней гениальности: умение держать нос по ветру; талантливый человек талантлив во всем).
Вчера еще незыблемая почва под ногами заходила ходуном. Вероломный Берия почему-то во всем обвинил Юрия Борисыча. Завязалась вендетта: бесконечные разборки, дележ имущества, взаимные претензии; дело дошло до прямых угроз.
Победителем, к несчастью, оказался Юрий Борисыч. По странному стечению обстоятельств, труп Берии отыскал пенсионер по фамилии Кох, выгуливавший собаку по кличке Баски. Подозрение, разумеется, пало на Юрия Борисыча. Все шло по классическому варианту: мотивчик, как говорится, налицо, перепуганный подозреваемый на месте; значит, вскоре объявится и обвиняемый.
Но гримасы иронически оскалившейся судьбы на этом не прекратились. Следователем по делу фирмы «ДД» был назначен добрый знакомый Учителя, его ученик и, не исключено, тайный поклонник Пенициллин. Пеня, он же Вениамин Петрович, встретил Учителя радушно, дал ему закурить (у Юрия Борисовича расшалились нервишки, и малодушные руки сами потянулись к отвратительным сигаретам, которые он импортировал под элитными марками), поднес зажигалочку и сочувственно произнес:
– Ну-с, говорить будем? Как известно, за преступлением неотвратимо следует наказание. Так, кажется, вы нас учили вслед за Достоевским?
– Пеня…
– Вениамин Петрович, гражданин Щеглов.
– Вениамин Петрович… Я думаю, мы договоримся.
– Возможно, Юрий Борисыч. Мы детально обсудим эту тему. Интересно, удалось ли вам сохранить тот изумительный кед, точнее, расплющенную резиновую дубинку, которой врачевали наши заблудшие души?
Изумлению Юрия Борисыча не было границ. Преступление, наказание, любит, не любит, поцелует, плюнет, добро, там, зло – это понятно. В жизни всякое бывает. Но не до такой же степени!
Тут мы и оставим наших героев (ненадолго), сверлящих друг друга по всем правилам буравчика взглядами, почти не скрывавшими яд немых укоров, а то и угроз.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
3
Итак, Раскольников и не подозревал, что весь его тернисто-тёмный путь ведёт в мир светлый. Но повествователь знал это с самого начала, и ни на градус не уклонялся от избранного выверенного маршрута. «Как бы» импровизационность и непредсказуемость поведения постоянно находившегося на грани душевного срыва Раскольникова (в романе более пятисот раз употреблено роковое «вдруг», что отражает «странную» спонтанную логику действия героев) на самом деле жестко предопределена мировоззренческими императивами повествователя. Роман, состоящий из шести частей с эпилогом (что в сумме составляет неслучайное число семь), начинается весьма и весьма многозначительно: «В начале июля (седьмого месяца года – Г.Р.), в чрезвычайно жаркое время, под вечер (где-то в районе семи, в тот час, когда, спустя сутки-другие, будет совершено преступление – Г.Р.), один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».
С самого начала читателя окунают в раскалённое пекло, своеобразную модель ада, причудливо сдабривая действо мистикой библейских чисел, не вполне ясной, но зато вполне «реально» влияющей на происходящее. Двойное отражение реальности, отражение отражения, о котором мы говорили в связи с достоевщиной, с самого начала пронизывает образную ткань произведения, сообщая нервную напряжённость всему стилю, в том числе ритму и синтаксису повествования. « Как бы в нерешимости», впавший «как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы какое-то забытьё», « чувствуя какое-то болезненное и трусливое ощущение , которого стыдился и от которого морщился», молодой человек, ещё не определивший для себя, решился он на «это» или нет, ступил из своей каморки, похожей на гроб, в адскую жизнь.
Если добавить к сказанному, что молодой человек «и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти совсем ничего не ел» и что в таком состоянии он, обуреваемый «безобразною» мечтой, которую « как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил», шёл «делать пробу » «этому» (идти было «ровно семьсот тридцать» шагов), «и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее» – если попытаться все упомянутые обстоятельства принять во внимание, то можно составить себе представление о типе художественности произведения.
«Мечта» неотличима от «предприятия», всё зыбко, неопределённо, неоднозначно, и когда оно как бы есть, то неясно, есть ли оно или, напротив, ничего такого и в помине не было. То ли мерещится, то ли пророчески бредится, будто бы явь, а может быть, как бы сон – вот лучшая почва и питательная среда для перетекания бессознательного в полусознательное и, далее, в как бы осознанное, от которого всего-то один маленький шажок до исходного великого «немого» – океана бессознательного. Балансировка на грани ирреального, впечатление полуяви, дьявольски скользкой амбивалентности – вот чего добивается и достигает повествователь для того, чтобы его «рассказ» отразил больше, чем реальность, а именно: реальность ирреальной природы человека. Писатель вуалирует контртезис подтекста: грубо отразить реальность такой, какова она есть, это и значит исказить её. А вот размывая её полутонами – получаешь некоторое представление о реальности…
О реальности чего, спросим мы, вспомнив о стоящей перед нами задаче научного познания романа?
О реальности фокусов психики, о реальных законах моделирующего сознания, стремящегося всегда раскрасить реальность в близкой ему гамме ощущений.
Итак, экзальтация мгновенно достигает точки кипения, и накал страстей не спадает уже вплоть до последнего абзаца. Добро пожаловать в преисподнюю человеческой души, читатель.
Роман «Преступление и наказание», если угодно, очень и очень художественное произведение. Мы в данном случае имеем в виду не степень художественности, а качество, противоположное научной рефлексии. В романе всегда говорится одно, подразумевается другое, а на самом деле речь идёт о третьем. Подлинный роман как бы утоплен в подтекст, и его смысловой корпус действительно надо извлечь, проделав с этой целью определённую работу. Таким «романом в романе» является скрытое противостояние психики – сознанию. Сдержанное остервенение переживающей свою априорную правоту «души», бессильной при этом против убогой арифметики разума, нет-нет да и прорывается святым гневом наружу, создавая как бы немотивированные конфликты. Будем бдительны.
Раскольников «с замиранием сердца и нервною дрожью» подошёл к дому, где он собирался «делать пробу ». Разговор с малосимпатичной, похожей на бабу Ягу, однако живой старушонкой, которой отводилась роль невинной, но закономерной жертвы в его «предприятии», вверг взявшего было себя в руки студента в пучину такой психологической мерзости, что шокировал переживающего всё наперёд «предпринимателя» и довёл его до состояния психо-физической прострации. «Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице ( вниз! – Г.Р.), он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно поражённый. И, наконец, уже на улице, он воскликнул:
"О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я… нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц… "
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице».
Весь отрывок посвящён описанию «невыразимых» чувств: смущению, отвращению, волнению… Если отвлечься от описания ощущений, роман съёжится до размеров бессмертной «Пиковой дамы». Следовательно, чувства и ощущения «сердца», в гибельном экстазе реагирующего на «ужас», пришедший «в голову», и составляют суть романа .
Причём – и это самое главное – не просто описанием чувств озабочен повествователь, а их логикой и динамикой: в результате создаётся впечатление концептуальной глубины. Вот как развиваются чувства далее.
Не надо быть большим психологом, чтобы предположить, что душевный маятник, дойдя до крайней точки, неизбежно качнётся в противоположную сторону. Так и произошло. Раскольников спустился, опять же, «вниз», «в распивочную» – и «тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. "Всё это вздор, сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!.." Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих» (отметим мотив «Раскольников и другие», другие как индикатор «ужаса»: чем «ужаснее» мысли, тем менее дружелюбности и более одиночества).
Однако надо быть уже незаурядным психологом, чтобы так прокомментировать улучшение состояния: «Но даже и в эту минуту он отдалённо предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная». Ведь это значит, что Раскольников предчувствовал (точнее, предчувствовал, что его предчувствия окажутся верны), что глубоко поражён метастазами… чего?
Какое «ужасное бремя» давило на него?
Бремя разума, как мы вскоре многократно убедимся. «Раздавите гадину!» – могло бы стать эпиграфом и девизом романа, ибо сражение с разумом – вот что происходит в каждом фрагменте текста даже тогда, когда происходит всего лишь смена состояний героя.
Мы воспроизвели образец типичного для Достоевского психологизма, направленного на то, чтобы вскрыть последний, окончательно последний пласт в душе, после которого не было бы уже ничего, что могло бы прощупываться «отдалёнными предчувствиями». Многослойно «устроенная» живая душа как-то ненасильственно и вместе с тем с принципиальностью святых старцев сражается с разрушительным вмешательством в её чуткую и благостную ткань инородного тела «грязного» разума. Раскольников, по Достоевскому, был действительно болен, но не в том обычно-естественном смысле, о котором говорим мы, нехудожественные человеки, а в смысле «высокой болезни», которая не поддаётся ни медикаментозному, ни психотерапевтическому лечению: он был инфицирован «преступным» по составу вирусом, который разъедал душу, толкая её к несвойственным ей извращениям. В моменты прояснения душа его «плевалась»: «грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
Но болезнь не отпускала. Почему?
Вот ради выяснения этого жизненно важного обстоятельства и стоило писать роман.
4. История вторая. Ах, Вика, Вика, или Красная Шапочка для Синей Бороды
Забеременев от Юрия Борисыча (или от Берии: тут возможны были варианты: иногда за вечер она позволяла себе переспать сразу с тремя разными, но весьма состоятельными, мужчинами; рекорд был – четыре (пятый просто отрубился); прикольно), Вика поняла, что жизнь преподнесла и ей не самый желанный сюрприз.
Зачем дети молодой амбициозной женщине, привыкшей уже складывать мужчин штабелями у своих стройных ног и ощутившей пьянящий вкус свободы, которую дают деньги (несметные количества которых водятся только у богатеньких мужчин, тех, что в штабелях)? Дети – досадная помеха на празднике жизни. Дети – источник соплей, для начала. Источник трагедии. Комедии. Фу. В общем, эта радость не для приличных людей.
Или дети – или деньги.
То есть – аборт. На абордаж!
Казалось бы, здесь и обсуждать нечего, однако в этой проклятой жизни не все так просто. Было дело, отец Вики требовал от ее мамы сделать аборт (квартиры не было, зарплата – кот наплакал), но мама настояла на своем и родила Вику (за что отец, в конце концов, и полюбил маму насмерть). Если бы мама дрогнула и согласилась на аборт, Вики бы не было. Получается, что у Вики перед жизнью и мамой образовался своего рода должок. Это во-первых.
А во-вторых, у нее был еще один должок перед мамой, которой уже, к несчастью, нет на этом свете. Это давняя история, но почему-то она не забывается. Ее мама во время войны, когда она была еще совсем маленькой девочкой Клавой, попала в концлагерь. Всех детей увозили в Германию, где делали из них подопытных кроликов. Но Клаве повезло: ее спас немецкий офицер – за то, что она напоминала ему его собственную дочь: была такой же белокурой и голубоглазой. У Клавы несколько раз брали кровь, а потом неожиданно выпустили из концлагеря. Если бы Вика родила дочь, девочку с голубыми глазами, она назвала бы ее Клавой. И уже была бы не так одинока на этом свете. А так у нее из близких людей – один замороченный сын покойного отчима, того самого «папы», который когда-то и изнасиловал Вику. Об этом знал только Юрий Борисыч, который вскоре и заменил «папика».
Так что же – рожать?
Нет. С ребенком ты никому не интересна, а без ребенка интересна всем – всем тем, кто интересен тебе, то есть тем, у кого водится бабло. И молодым, и пожилым.
Кстати, о пожилых. Крутится тут один, увивается. Кажется, неравнодушен к бесспорным прелестям. Кличут Синяя Борода или просто Синенький, хотя он похож, скорее, на безбородого Дуремара. Может, родить ему наследничка?
Как говорится, мне ничего не стоит, а ему, лоху, будет приятно.
Вечером того же дня, когда ей вместе с утренней прохладой пришла мысль о наследничке или маленькой принцессе для Синенького, Вика организовала свидание, которое должно было закончиться не банальной постелью, как обычно, а предложением руки и сердца возбужденного кавалера. Все должно было выглядеть как порыв со стороны Синей Бороды. А вот потом постель и – случайная беременность. Все по-честному.
Синенький сдался подозрительно быстро и легко. Это не понравилось Вике. Более того: насторожило ее. Серьезные люди никогда не расстаются так легко с деньгами, гарантирующими свободу.
– Ты согласен стать моим мужем?
– Конечно. Сколько?
– Что значит – сколько?
– Сколько ты хочешь за то, чтобы я стал твоим мужем?
Тут надо было или держаться версии «перед вами оскорбленная невинность, ах, за кого вы меня принимаете», или торговаться до упора.
Вика сделала ставку на оскорбленную невинность. Решила сыграть по крупному: а вдруг удастся и ребенка сохранить, и стать обеспеченной. Как говорится, и рыбку съесть, и…
Где наша не пропадала!
Синенький пожал плечами: невинность так невинность.
Вечером они оказались в его замке. Вика сразу узнала этот незабываемый многобашенный особняк, чем-то напоминающий кремль в миниатюре: еще недавно это было родовое шале бездетного Лаврентия. Она свободно ориентировалась в лабиринтах, неизменно упирающихся в укромные комфортабельные отсеки. В принципе, знала там едва ли не каждый диван.
В большом холле, в центре которого сдержанно пылал камин, сидела мужская компания. Кое-кто из присутствующих кивнул Вике как старой знакомой, остальные просто пялились на нее, как на товар в какой-нибудь занюханной лавке.
Синенький поднял левую руку, указательным пальцем подозвал к себе плотно сбитого охранника, потом вобрал указательный палец в кулак и торчащим большим указал на Вику. Он явно экономил на жестах.
Охранник подошел к Вике и тихим равнодушным голосом, почти не раскрывая рта, предложил:
– Раздевайся.
Вика, зная нравы публики, сказала, обращаясь к Синенькому, ее хозяину, изо всех сил стараясь не разрыдаться:
– Я беременна. У меня будет девочка с голубыми глазами.
– Цена повышается, – сказал после короткой паузы скромно, неброско одетый во все дорогое джентльмен, зябко протягивавший руку к камину. – Я даю десять кусков, Борода.
– Тринадцать, – произнес некто выбритый так гладко, что, казалось, лысину его, начинавшуюся от бровей и заканчивающуюся крепкой шеей, покрыли паркетным лаком в три слоя. Голова его при этом не двигалась, бегали одни большие, как у хамелеона, глаза. Можно сказать, он общался движением глаз.
Синяя Борода ничего не ответил лакированной рептилии, только слегка поджал нижнюю губу.
– Пятнадцать, – сказал джентльмен.
– Пятнадцать и один доллар, – у рептилии глаза сдвинулись до упора влево, в ту сторону, где сидел джентльмен.
– Пятнадцать и два доллара. Думаю, на этом торги мы прекратим.
Синий вернул губу на прежнее место.
После короткой паузы, джентльмен произнес:
– Я вам дарю ее. На этот вечер и эту ночь она ваша. Бесплатно. До семи утра. Только не надо портить товар. Завтра в семь вечера эта куколка будет принимать моих дорогих гостей у Танюшечки. И стоить она будет очень недешево. К утру окупится. Как тебя зовут, лялька?
Вика очень хорошо знала, что бывает, если не отвечаешь серьезным людям. Они сделают с тобой именно то, чего ты больше всего боишься – сделают не моргнув глазом и повторят сделанное ровно столько раз подряд, чтобы тебе и в голову не пришло следующий раз оказывать сопротивление. Не хочешь в анал – будет только в анал. Не хочешь минет – захлебнешься мужской спермой по самое некуда. Это называлось «сделать хороший товар» (ломать волю на корню). А если ты все же не сломалась, тебя прибьют в особо изощренной форме и выбросят на городскую свалку. Бомжи, обитающие там, даже не удивятся.
– Меня зовут Маша, – сказала Вика, улыбаясь своей самой обворожительной улыбкой. – У меня будет девочка…
– Будешь Викой, – ответил джентльмен, зябко, как истинный аристократ, протягивая пальцы к огню.
– Она похожа на Красную Шапочку: сама полезла в пасть к волку, – заметил некто с трубкой в зубах (вылитый Крокодил Гена, только не добрый). – Это уже двадцатая жена Синей Бороды.
– Значит, будет Красной Шапочкой, – решил джентльмен по кличке Серый. – Выпить хочешь? – обратился он к Вике.
– Она же беременна, – округлил глаза лысый. Оказывается, он умел общаться и бровями.
Мужчины смеялись долго и от души.
5. История третья. Мне отмщение, и аз воздам
– Хорошо, – сказал Вениамин Петрович, – я готов рассмотреть ваше коммерческое и, чего греха таить, несколько незаконное предложение. Мне оно кажется интересным. Ради таких предложений честные следователи работают годами. У каждого свой бизнес. Возможно, с вас снимут все подозрения, если вы сдержите свои обещания. Но…
Юрий Борисыч ловил каждое движение худощавого, но физически отменно развитого Пенициллина, от которого – кто бы мог подумать! – зависела судьба Учителя. Воистину неисповедимы пути Твоя… Твои…
А проще сказать – не плюй в колодец, Идиот.
– Но это все возможно только при одном условии.
– При каком условии, Вениамин Петрович?
– Продайте мне тот кед, Учитель. За тысячу долларов. А лучше подарите. С автографом.
– Зачем он вам?
– А вы не догадываетесь?
– Нет.
– Я думал, вы противник поинтереснее. Подумайте, зачем мне тот кед, которым вы меня пороли в юности, который стал для нас символом школы. Можно сказать, знаменем юности. Не ручка, не пенал, не галстук пионерский – именно кед. «Пеня, готовь жопу»: помнишь, Учитель?
– Разве не благодаря мне ты стал человеком?
Юрий Борисыч инстинктом опытного наставника почувствовал, что настала именно та минута, когда следует расшевелить что-нибудь душевное в этом окаменевшем представителе органов правосудия, так сказать, сыграть на струнах души.
– Благодаря тебе я стал тем, кем стал: тем, кого сам почти презираю.
– Как дела у Гудини?
– Лучше всех. Он уже давно на кладбище. Был жалким наркотом и педофилом. Твой кед ему не помог.
– А Вику помнишь? Ты ведь был влюблен в нее. Я мог бы организовать вам встречу… Она выглядит потрясающе.
– Вика рассказала мне о том, как ты ее изнасиловал.
– Это неправда. Ее хотел изнасиловать отчим. Он с восьмого класса предлагал ей стать его любовницей.
– Вика доверилась тебе, а ты как благородный человек воспользовался ситуацией.
– Если говорить начистоту, то она меня любила.
– Ей было просто плохо в то время, она запуталась и ничего не понимала. А ты трахал ее и заставлял делать аборты.
– Это она тебе рассказала?
– Ты трахал ее, а я стоял под стенами школы и плакал. Я все знал.
– У нас был роман. Я не виноват в том, что она любила меня, а не тебя.
– Она тебя боялась. А ты пользовался этим.
– Хочешь сказать, что ты бы на моем месте поступил иначе? Почему же ты на ней не женился, мистер честь и достоинство?
– После общения с тобой она боялась верить даже себе. Ты просто сломал ее. Она не могла даже мечтать… Ты хоть представляешь себе, что ты с ней сделал?
– Получается, во всем виноват я. Я – монстр, палач, убийца. А вы все – просто ангелы.
– Ты не монстр; ты ублюдок.
– Ладно. Пусть будет ублюдок. Хоть горшком назови – только в печь не ставь. Какой смысл ругаться? Это не я такой; это жизнь такая. Давай вернемся к моему предложению. У тебя же все хорошо в жизни. Скоро ты станешь состоятельным человеком, мы откроем новое дело. У меня сохранились связи… У тебя дети есть?
– Дела здесь начинаю или закрываю я, и только я. И вопросы задаю тоже я. Теперь мы заключим пари на моих условиях. Я тебе пропишу десять «горячих», и если ты выдержишь их, я дам тебе шанс скрыться, умотать из страны. Как в детской игре, помнишь? Кто не спрятался – я не виноват.
– А если я не соглашусь?
– Я посажу тебя в камеру, где тебя «опустят» за десять секунд по полной программе.
– Я согласен. Конечно, я уеду.
– Но сначала я получу свои деньги. Завтра. Много. Много – это что-нибудь с пятью нулями.
Пеня выбросил перед собой руку с растопыренными пальцами.
– Торговаться нет смысла, Учитель.
– Как же я организую вам деньги и кед, если я сижу в кутузке, Вениамин Петрович?
– Это твои трудности. Сила воли плюс характер, старина. Выше знамя советского спорта.
– Но как, Вениамин Петрович, как?!
– Я позволю тебе сделать пару деловых звонков. А там – пеняй на себя, – сказал тот, кто некогда был просто Пеня. – Свободен.
– Кстати, – вонзил он бумеранг в спину Учителю, – у меня есть дети. Двое пацанов. И я луплю их от бессилия так, как порол нас ты. Чему их учить, а? Может, ты знаешь? Они вырастут, и им, по крайней мере, будет кого ненавидеть: меня. Вот за это ты получишь своих десять «горячих». Желаю тебе выжить.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
4
Раскольников, как мы уже говорили и ещё не единожды будем говорить, по своей душевной отзывчивости, «христианскости» был человеком уникально одарённым, что в романе признавали самые чуткие или прозорливые люди. Вспомним реакцию Сонечки, этого ни разу не сфальшивившего христианского камертона: «Вдруг, точно пронзённая, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.
– Что вы, что вы это над собой сделали! – отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на неё:
– Странная какая ты, Соня, – обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это . Себя ты не помнишь.
– Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! – воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике».
Смысл её бессознательных истерических причитаний прост, как вера с точки зрения психоаналитика: он совершил преступление именно потому, что по натуре своей исключительно чист и непорочен. (Вспомним: Наташа Ростова поступила «дурно» в истории с Анатолем Курагиным именно потому, что она была очень хорошим человеком.) Это всё шпильки в сторону заносчивого разума: умом, дескать, не понять, а на колени встать хочется. И то, что «непонятно», но «хочется» – становится составом «наказания».
Может быть, ещё более впечатляет характеристика праведника с червоточинкой, с душевными окаменелостями (Петр – «камень» (греч.)), умного следователя Порфирия Петровича: « Изверились , да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы ещё и жили-то? Много ль понимаете-то ? Теорию выдумал , да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то всё-таки не безнадёжный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошёл. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. (…) Знаю, что не веруется, – а вы лукаво не мудрствуйте: отдайтесь жизни прямо, не рассуждая ; не беспокойтесь, – прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почём знаю? Я только верую, что вам ещё много жить. (…) Ещё бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то струсили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!»
Между прочим, Порфирий Петрович в одном, далеко не самом продолжительном своём монологе, выболтал всю концепцию романа. Больше-то и добавить нечего. Но – обратим внимание – концепция выболтана тогда, когда художественно она уже воплощена. Откристаллизованные Порфирием смыслы растворены в ткани романа, придавая ей некий интеллектуальный отлив. Достоевский, конечно, прав; не будем и мы путать концепцию как таковую с романной концептуализацией, философию с литературой, психику с сознанием, разум с душой; не будем выяснять, что лучше : именно такая постановка вопроса и оглупляет роман, а вовсе не отсутствие подлинной философии. Требовать от романа ума – это в свою очередь глупость. Но это так, к слову.
Итак, именно то, что Раскольников по своим задаткам и был рыцарем милосердия, подвигнуло его на идейную «подлость». Холостые диалектические обороты мыслей, знакомые уже нам по роману «Война и мир», очертили тот порочный круг, который Раскольников собирался разорвать при помощи всё той же мысли. И если исходить из того, что мир устраивается волею и возможностями людей, то Родион Романович был прав. Он был прав до тех пор, пока не выздоровел, не прозрел и не принял как должное, что мир устроен иначе, не людским хотением и произволом, а тем, что Сонечка называла «что ж бы я без бога-то была». Вот эта надуманная правота и была преступлением Родиона Романовича. Преступление его состояло в том, что он безотчётную веру решил заменить на регуляцию от ума , и тем самым разорвать порочный круг (глупым умом же и заданный). Иначе говоря, само вмешательство в фундаментальные принципы мироздания и есть преступление, неверие же в Бога – преступление преступлений.





