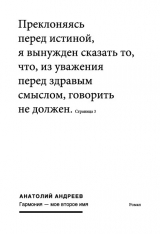
Текст книги "Гармония – моё второе имя (СИ)"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Прежде всего: они не переносят света разума. Они создают не просто «альтернативную культуру», где господствует свое, альтернативное понимание «свободы» и «достоинства»; они, рабы натуры, отстаивают свое право опарыша вырваться из-под «гнета и террора» репрессивной культуры. Они бессознательно обслуживают самые темные и сомнительные уголки коллективного бессознательного, выполняя сегодня роль наркотика, усыпительного порошка, галлюциногенного грибка, этой сладкой плесени, что волшебно искажает реальность. Мыслящий грибок Вальзер.
Свобода, как и производное от него понятие достоинство, как и связанное с ним счастье, – безальтернативны, ибо являются производными от разума, ориентированного на универсальную систему ценностей.
Вальзер с его блошиным смирением в этом контексте превращается если не в инструмент борьбы с разумом, то в мелкое, мелкопакостное существо – разносчика духовного СПИДа. Именно такие, как Вальзер, ни на что не претендующие тихони, безнадежно закомплексованные и живущие в ненормальном, с ног на голову перевернутом мире, и оказываются в авангарде самоуничтожения.
Вопрос: почему же ничтожный Вальзер стал сегодня популярен среди художественно чутких интеллектуалов?
Ответ: единственный «культурный» резерв цивилизации, изо всех сил блокирующей выходы к культуре, заключается сегодня в потенциале художественного (не научно-аналитического) сознания. Делайте что угодно, но явите мощь и элегантность креативного бессознательного. Пусть Вальзер прочирикает гимны глупости в темпе вальса.
Иными словами, такие, как Вальзер, мелкий Вельзевул, способствуют тому, что литература окончательно превращается в инструмент бессознательного. Говорим литература – подразумеваем бессознательное, и тем самым отлучаем литературу от культуры, от сознания.
Тут уже не в литературе и не в бессознательном дело; тут дело в том, что вальзеровский человек никогда не сможет стать субъектом культуры. Если Вальзер гений – то человек ничтожество. Знакомый мотив, не правда ли?
А с ничтожества какой спрос?
Вальзер от литературы позволяет развязать руки вальзерам от экономики, политики, науки; вальзеровщина позволяет «маленькому человеку» стать величиной, с которой приходится считаться всем, кто еще способен мыслить. Поскольку «маленький» (не способный отделить причину от следствия) человек стал субъектом демократии, сервильный от природы Вальзерабль пришелся весьма кстати. Вот уж услужил так услужил! Нуль превратил в точку отсчета.
(Хе-хе-с, милостивый государь Достоевский! Сей сюжетец вполне в вашем духе, не так ли? Кто был ничем, тот станет всем, то есть абсолютным ничем. Вскормили монстров-ничтожеств, и теперь залепетали о милосердии. А ведь так божественно начинали – со слезинки ребенка… Кончили культом опарыша.
И не надо лохматить бабушку. Кому козни дьявола – а по мне так суровая диалектика.
А не блуди!)
Виват мегачисло – нуль!
Обнулим историю, стократ распнем сократов!
Да здравствует бесполый микроб Вальзер!
Тьфу!
8. История шестая. Нарисованный очаг
Я вернулся домой.
Моя квартира, которую принято называть крепостью (на войне как на войне, согласен; но неужели жизнь – это война?), располагалась в большом длинном доме современной планировки, украшенным нелепыми башнями. Ничего лучше башен с карминной черепицей, над которыми развевались железные флаги (выше знамя?), современная архитектура не выдумала. Красный кирпич придавал дому колорит то ли Кремля, то ли Великой Китайской Стены.
Там было мое убежище, в котором я по всем правилам цивилизации прятался от мира.
Только вот с кем я воевал? Где враги, черт бы их побрал? С друзьями я, кажется, благополучно покончил. Оставалось уповать на врагов.
Когда я передал моей верной жене Вере смысл моей беседы с Сеней, она нахмурилась, то есть приняла не мою сторону.
– Что не так, Вера Павловна?
– Все так. Просто у меня плохое настроение.
– Просто плохое настроение – это несформировавшаяся или, того хуже, затаенная обида.
Молчание.
Разгоряченный битвой с Горбом и Вальзером, я был настроен довольно решительно.
– В чем дело, Вера? Я нахожусь дома, у своего очага. Что не так? Чем ты опять недовольна?
В последнее время Вера считала своим супружеским долгом выказывать мне недовольство по любому конкретному поводу, что наводило меня на мысль о том, что недовольна она чем-то общим. Например, нашим образом или укладом жизни.
– Да, я недовольна, – сказала Вера, и я понял, что мне следует приготовиться к еще одной стычке. От мира, находящегося в состоянии войны, невозможно было укрыться даже в собственной крепости.
Наши проблемы начались с того, что брат Веры, Данила, за какой-нибудь год с небольшим стал состоятельным человеком. На него буквально пролился золотой дождь, как на Данаю (только в другом, хорошем смысле этого слова). Не прилагая никаких особенных усилий и не отличаясь никакими особо выдающимися, не говоря уже зверскими, деловыми замашками, он, бывший физик, организовал с приятелем-однокурсником строительную фирму, и попал в такую струю, что их выперло в большой бизнес как на дрожжах. Он просто перестал считать деньги, искренне не знал, куда их девать. Он, по словам Веры, стал другим человеком – хорошим человеком, потому что купил сестре квартиру в шикарном доме. Надо отдать ему должное: он не собирался утирать мне нос, он просто купил сестре квартиру. Нормальный братский жест. Вера засияла от счастья – и это было началом наших проблем.
– Чего ты хочешь добиться в жизни, Герман Романов?
– Я хочу быть счастливым и не делаю из этого секрета.
– Замечательно! Я тоже хочу быть счастливой! Для этого нужны деньги, много денег! И тебе их предлагают! Почему ты не хочешь идти работать к Даниле? К тебе само плывет в руки то, о чем все только мечтают.
– Я сказал, что хочу быть счастлив; я не сказал, что собираюсь угробить жизнь на эти башенки.
Про башни я сказал зря. Мое отношение к подаренной квартире всегда расстраивало жену.
– Мне наплевать на твоего Сеню, на твоего Достоевского, на твою диссертацию, на твоих демократов или антидемократов. Я хочу жить нормальной жизнью: сыто, спокойно и благополучно. Как все. Всё! Больше ничего не хочу.
– Послушай, я расскажу тебе историю. Жил-был Юрий Борисыч, которого все звали Учитель…
Чтобы в чем-нибудь убедить мою жену, ей надо было рассказать историю. Конечно, я кое-что приукрасил, кое-где сгустил краски, но в целом смысл истории, ее «мораль» сохранил: счастье не в деньгах и не в башнях, а в человеческих отношениях. А профилактика человеческих отношений – вечное познание.
– Ты говорил очень долго. Когито, когито… А мне надо коротко и понятно. Ты пойдешь или не пойдешь работать к Даниле? Ты собираешься или не собираешься прозябать в нищете?
– Я собираюсь работать, я ненавижу нищету, в том числе нищету духа; но я не могу пойти работать к Даниле. Как ты не понимаешь: это разрушит меня, а значит – и нашу семью. Ты требуешь от меня невозможного: отказаться от себя. Во имя чего? Во имя декоративных башен? Зачем тебе нарисованный очаг? Зачем тебе эти декорации? Ты же не Мальвина.
– Я тебе скажу зачем: затем, чтобы твоя жена и твой сын были счастливы.
– Вы хотите построить свое счастье на моем несчастье, на лжи и глупости? Ты же своими руками рушишь наш дом!
– Выбирай: или ты начинаешь зарабатывать деньги – или остаешься один.
– Для меня это звучит так: или деньги – или жизнь. Деньги – или любовь. Деньги – или счастье. Деньги – или…
– Ты врешь самому себе, ты боишься быть мужчиной, вот и играешь в игры со своим Достоевским. Хватит играть. Весь мир живет очень просто.
– А мир не живет, мир просто погибает. Чтобы выжить, надо думать головой, а не желудком.
– Выбирай: или – или.
– Ты меня любишь, Вера?
– На вопрос, который задан не вовремя, можно получить неправильный ответ.
– Да или нет?
– Нет!
Разумеется, последнее слово осталось за женой, что для нее означало следующее: правота, которая не приносит денег, не может считаться правотой. Это не правота, а пустота. А вот пустота, приносящая деньги, самым волшебным образом перестает быть пустотой, становясь веской правотой… Уже само виртуальное шуршание виртуальных денежных знаков кажется чем-то полновесным.
Значит, права была она. Ее правота измерялась в денежных знаках, а моя в каких-то странных информационных комбинациях: тело – душа – дух.
В тот момент я «вдруг» окончательно понял, что является моим главным врагом. Не злые люди, не добрые люди, не богатые и не бедные, не верующие и не атеисты, не мужчины и не женщины, не Сеня и не Вальзер; нет, не они; моим главным врагом отныне – ты слышишь, Вера? – является глупость человеческая, враг вездесущий и зело коварный. Ибо взглянем правде в глаза: кто возьмется отличить мудрость от глупости?
Вот я взялся: мудро это или глупо?
В принципе, моя жена была соавтором моего открытия (я о глупости); но от этого комплимента в ее адрес я решил воздержаться.
Чтобы досадить ей, я заперся у себя в кабинете и в сотый раз перечитал недавно написанное.
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
5
В принципе нет ничего скучнее, чем разбирать невразумительную систему «идей», обслуживающую пунктик, спорить с логикой сумасшедших или, как осторожно выражается повествователь, «мономанов, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся» (характеристика Раскольникова). Главное – механизм, запустивший его систему идей; сами же идеи – не более чем интеллектуальный ребус, за которым стоит мнимая мировоззренческая глубина.
Однако художественная цельность романа вновь и вновь, с прямо-таки назойливым постоянством и энергичной настырностью, возвращает нас к заветному пунктику. Послушно внемлем очередной раз.
Раскольников (вновь раскроем карты повествователя) безбожными средствами пытается решить проблемы божественно устроенного мира. При этом мотивы его поведения изначально очень даже и согласуются с законами мира, однако парадоксы ума, смущающие душу «мономана», запутывают всё дело. Сквозь «умственную» призму Раскольников, даже не подозревающий, как глубоко, хотя и искренно, он заблуждается (об этом ведает контролирующий ложные и истинные параметры картины мира автор), и смотрит на все события, попадающие в поле его зрения (а о том, чтобы попало нужное, – опять забота автора). Вот Родион получает письмо от матери, Пульхерии Александровны, в котором речь идёт, в основном, о Дуне, сестре «Роди», и о предстоящем её браке с Петром Петровичем Лужиным. В самом конце письма простая и сердобольная (на сонечкин манер) мамаша напутственно и пророчески замечает: «Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце твоём, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие ? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!»
(Между прочим, семантика имени, отчества и фамилии героя, к которому обращён трогательный призыв матери, многократно расширяет и углубляет контекст конфликта. Раскольников несёт в себе ту новомодную убийственную заразу, которая реально угрожает родине Романовых, России, православной державе. Вновь – вспомним в этой связи «Войну и мир» – Запад сошёлся с Востоком в схватке за умы и сердца людей. Вовсе не личный конфликт «раскалывает» душу героя, а конфликт вечный, универсальный, всемирный, вселенский. Но русский начинает думать только тогда, когда слишком уж верит, поэтому он достаточно быстро и, разумеется, через кровь возвращается к истокам, к лепетанию молитв. А вот Западу есть над чем задуматься…
Он и думает, внимая Достоевскому, как Родя – Пульхерии Александровне.)
Конечно же, «с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, злая улыбка змеилась по его губам ». Отчего? Не оттого ли, что он не верил «в благость творца и искупителя», но не был и до конца уверен в своём неверии?
Не будем лишать читателя удовольствия подумать.
Кстати, Раскольников после чтения письма тоже «думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли». И было отчего: Дуня, благодаря его, Родиной, неустроенности, собиралась выходить замуж по расчёту, то есть жертвуя собой по образцу Сонечки, «продавая» себя ради брата и матери. Список жертв, немо вопиющих об отмщении, продолжал расти. Слёзы невинных парадоксально отливались в приговор Алёне Ивановне. «Сонечкин жребий» («Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит!») вновь актуализировал дилемму: или «вечная Сонечка» – или вечный бунт против мира, в котором уготовано амплуа вечной Сонечки. И то, и другое предполагало соучастие самого Родиона в преступлении.
С точки зрения разума из двух зол выбирают не иллюзорное добро, а наименьшее зло. Раскольников был по-своему прав. А как ещё прикажете решить «дикий и фантастический вопрос», вопрос неразрешимый, как бы теоретический, отвлечённый, но вместе с тем подбросивший его родной сестре (не абстрактной категории «униженных и оскорблённых») Сонечкин жребий?
Определённый «процент» оскорблённых, к сожалению, был гнусной реальностью, что тут же подтвердила уличная (обычная) история с растленной девочкой (повествователь не скупится на аргументы «в пользу» теории Раскольникова; список жертв растёт). «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в этот, так в другой?..»
Прав ли был повествователь, из двух зол выбравший иллюзорное добро, ценой отвлечения от реальности?
В это можно только верить. Однако вопросы – вопросами, а жизнь – жизнью. И вопросы как-то решаются, и жизнь продолжается, и без преступлений можно обойтись. Но такая логика, похоже, вовсе не знакома мономански устроенному сознанию автора. Трагедия нравственного максимализма (средневековый или подростковый тип трагедии, в сущности, мнимая трагедия) обретает художественную плоть.
Достоевский, словно специально противореча аксиоме Л. Толстого, усердно «решает» вопросы, отвлекаясь от призвания искусства: быть нерассуждающей службой жизни. Но если столь откровенно пренебрегать природой искусства и взашеи гнать её в двери, то она, природа, будет лезть в окно. Решение вопросов средствами, для этой цели совершенно не приспособленными, приводит к тому, что решение вопросов будет всегда не в пользу способов, которыми вопросы действительно решаются. Проще говоря, решение вопросов «от психики» будет всегда направлено против ума. Вопрос об истинности подменяется способами решения: каковы способы – такова и истина.
Всё это объективно на руку аксиоме: искусство должно позаботиться о том, чтобы заставить «полюблять жизнь».
Достоевский «не заставляет» любить жизнь непосредственно, всем строем образного ряда; но он культивирует то, что безусловно стоит на страже жизни: психические интенции, доразумное начало. Таким образом, Достоевский опосредованно любит жизнь, оберегая тот потайной механизм, который и обеспечивает жизнелюбие.
Однако не всё так просто. В аксиому Толстого по умолчанию заложена сама собой разумеющаяся посылка: здоровая нормальная психика естественным образом озабочена ценностями жизни. Но то, что является естественным для нормы, не может считаться само собой разумеющимся для находящегося за границей нормы. Психика болезненно раздражительная может предложить идеологию амбивалентную, как бы совместимую с идеологией жизнелюбия, но вместе с тем непосредственно о этом ничего не говорящую. Идеология поиска смысла жизни (решения вопросов) оказалась вовсе не безобидна для жизни как таковой. Логикой идеологии, представленной моделирующим сознанием, Достоевский задвинул жизнь на периферию собственно человеческих интересов.
Странно получилось: он и вопросов не решил, и о жизни позабыл, увлёкшись решением вопросов. Природа искусства, как вещь объективная, мстит за себя, с ней невозможно не считаться, даже если этого очень хочется, даже если ты – Достоевский. Любителей искать истину средствами, которыми она не может быть найдена, всегда оказывается настолько много, что они (от чистого сердца, как водится, но не от большого ума) провозгласили Достоевского мыслителем, философом, вменяя ему в заслугу именно решение вопросов. Более издевательского комплимента талантливому художнику придумать трудно. Достоевский гениально искажал реальность в угоду собственной психической потребности, армия же толмачей объявляет роман способом постижения реальности, искажая значение творчества писателя.
Апологеты достоевщины, воспитанные на способе мышления великого мечтателя, никогда не поймут писателя; в лучшем случае они смогут разделить его иллюзии и утопии. Никто не вредит изучению Достоевского более тех, кто его любит. Отношение, предполагающее уважение, должно ориентироваться на установки непсихологического свойства, на способ умозрительного постижения, то есть на тот способ, который так горячо, до истерики, не жаловал писатель.
Итак, аксиома Толстого лишь отчасти применима к творчеству (и разбираемому роману в частности) Достоевского. В том, что роман обрушивается на главного врага жизни, разум, – сомнений нет, и в этом смысле роман стоит на страже жизни; но ненавидеть разум ещё не значит любить жизнь. Толстой-художник сам сполна реализовал им же сформулированную аксиому. Что же «заставляет полюблять» Достоевский? Что он противопоставляет разуму? Или: что он имеет в виду под «жизнью»?
Чудо, тайну, мистику души – но не жизнь в толстовском, да и в общепринятом смысле. Жизни как таковой нет в романе, а есть провозглашение любви к жизни – умствующее чувство, столь же далёкое от проблем жизнелюбивой Наташи Ростовой, как и масонские изыскания Пьера. «Чувство жизни» Достоевского парадоксальным образом находится по ту сторону жизни.
9. История седьмая. Весна. Запели птицы
Пестренький, коричневой масти голубь важно расселся в луже бледно-горчичного цвета.
Это и был единственный признак весны. Было холодновато, грязновато, серо. Гулко и пусто, словно бродил я не по улицам, а по нежилым коридорам, где хозяйничал наглый сквозняк.
Начало весны совпало с осенью, поселившейся в моей душе еще зимой. Бывает же такое: зеленое размазано по желтому и присыпано белым. Не разбери поймешь. Не картина, а кричащий набор красок. Надо изрядно потрудиться, чтобы сотворить лепоту, создать гармонию… Надо разобраться в себе. Подумать. Поработать богом в две смены. Без выходных. В разных концах вселенной – в аду и в раю. В этом ключ к гармонии.
– Давай разбежимся до лета, – сказала мне жена. – Я видеть тебя не могу. Ты меня раздражаешь.
И сказала это, по странному стечению обстоятельств, в лютые морозы, когда наша семейная карьера была на взлете. Мы шли в гору, стабильно вверх. Особенно обидно почему-то было это слышать в жуткие крещенские морозы. Как-то добавляло пошлости.
И до меня вдруг дошло: я, оказывается, совсем не знал своей жены. Что я о ней знал? Что я знал о ее первой любви? (Этой темы я великодушно не касался; великодушно или все же малодушно? Я засомневался.)
А что я знаю о Сене? О ком, бишь, еще? Об… Учителе? (Никто из близких или интересных мне людей не приходил на ум. Может, у меня просто не было друзей?) О себе, в конце концов?
Почему я так спокойно прореагировал на известие о семейной катастрофе? Это спокойствие делало мне честь или не делало?
Что-то здесь было не чисто. Возможно, даже грязно.
Мир качнулся и зашатался. Мотивы моего поведения были ясны и понятны. Ясны? Да, ясны. А завтра? Где гарантия, что и завтра я буду думать точно так же? В зыбком мире не бывает незыблемых гарантий.
Кажется, я начинал понимать, что по-настоящему зацепило меня. Я был убежден, что жена любит меня больше, чем я ее. Оказалось… наоборот?
Любил ли я свою жену? Если не любил, то почему меня это не особенно волновало?
Жизнь дала крен, обнаруживая свой нестабильный характер во всем.
Завтра стало казаться зыбким и не очень-то нужным.
* * *
Мы с женой, в конце концов, собрались разводиться (летом), однако, к несчастью, в чем-то прав оказался я.
Данила вскоре прогорел из-за нелепости, о которой наслышан всякий начинающий бизнесмен (но которая по-настоящему угрожает всякому матерому человеку): он, до тошноты убаюканный равнодушием, царившим в его благополучном доме, пылко влюбился в свою мятежную секретаршу и доверился ей, движимый чистыми чувствами. Она же (ядовитый бутон!), как только почуяла запах добычи, мгновенно сконцентрировалась, оскалилась, ощетинилась – нащупала слабое место, выпустила жало – и пустила своего жалкого благодетеля по миру, напевая про себя (но никак не адресуя себе) частушку Веселого Роджера: «От тюрьмы и от сумы…»
Это еще больше настроило жену против меня. Получалось, что я словно бы накаркал бедному Даниле его судьбу. Данила, кстати, был на меня не в претензии. Он решительно разобрался со своими хладнокровными женщинами, изображавшими вулканических мегер, женился, опять же, словно назло кому-то, по любви (на женщине, которая сурово представляла его интересы в суде: она восхищенно наблюдала за тем, как Данила небрежно распотрошил свое состояние, побеждая великодушием – подлость) – это почему-то еще больше настроило жену против меня. Уже не только вместо «спокойной ночи», но и вместо «доброго утра» я, словно солдат кремлевской роты, слышал сакраментальное: «Развод!», «Развод!»
Бессмысленно жалеть о том, что когда-то женился – совершил бессмысленный поступок, наполнивший твою жизнь каким-никаким смыслом.
Но не жалеть об этом как-то глупо.
* * *
Самое сложное в жизни, в подлунном мире, я хочу сказать, где регулярно восходит и заходит Солнце, – проще говоря, на этом свете, – испытывать счастье от того, что счастье может приносить, а не от пестования-лелеянья несбыточной мечты о счастье. Ахи, охи, аиньки, баиньки…
Если твоя мечта не хочет воплощаться в жизнь – это подозрительная мечта. Самое сложное для мужчины – выстраивать отношения с женщинами. Женщины, призвание, деньги, алкоголь (порядок очередности меняется в каждом конкретном случае) – вот искушения мужчины. Четыре его демона, составляющие одного упитанного дьявола (а ведь есть еще иные бесы, которые приставлены мутить нашу воду, раздувать наш огонь, до посинения дуть в медные трубы – как бы в нашу честь).
Женщины, повторю, – самое сложное. Контролировать отношения с ними – просто высший пилотаж. Покажите мне асов, туго знающих свое дело. Ась? Нетути. А почему? А потому, что вы имеете дело с живой диалектикой: где кончаются женщины и начинается призвание, которому деньги с алкоголем то мешают, то помогают, – никому неизвестно. Строго говоря, противоположный пол, ужасно прекрасный, есть главный тест на то, как ты выстроил отношения с самим собой. Можно наизусть знать всего Гегеля, можно любить родину, обожать природу, ненавидеть тоталитаризм, почти постичь истину, и даже преуспеть в творчестве, но вот чтобы завоевать и удержать достойную женщину, чтобы сделать ее единственной и не покривить душой, не унизить себя при этом – для этого мужчина должен практически совершить невозможное. Что-то вроде самоубийства, после которого, однако же, открывается второе дыхание – и жизнь клокочет с двойной силой. Вот так вот.
Тут я забежал далеко вперед, конечно. Сознательно не отменил бессознательный порыв – и забежал. Это я сейчас думаю так, как написал; тогда же, в тот момент, когда жизнь моя, к счастью, пошла глубокими трещинами, я мыслил несколько иначе. Путь к гармонии сложен и тернист. И понимание приходит по мере того, как ты проходишь путь. (Дао? Гм, гм. Да нет. Просто путь. Куда-нибудь.) Ум необходимое, но недостаточное условие достижения гармонии; путь сам по себе – тоже; вовремя случившиеся везение и невезение (вехи пути, отмечающие этапы судьбы) – тоже. По отдельности каждый из живущих имеет кое-что из того, что может принести гармонию; но гармонии достигают единицы. И находится моя гармония вовсе не в тех краях, где обитает всемогущий Бог; ее следует искать в противоположной стороне.
Чтобы найти Бога, надо отказаться от себя; чтобы обрести гармонию, надо найти себя.
Вот моя молитва сегодня.
* * *
Итак, на улице была весна, ударяющая в голову и задевающая сердце, я был свободен, однако же дезориентирован, чтобы не сказать деморализован. Мне казалось, что я честно откатал полный цикл отношений с женщиной. Я пережил влюбленность, после этого нас связывали годы ровных, теплых отношений. Потом самым естественным и подлым образом любовь сошла на нет, и я вновь почти обрел постылую свободу.
Кажется, это была унылая классика. Вот тебе весна и пестрый голубь. Гуляй, душа. Кто виноват в том, что гулять не хочется?
Это глупый вопрос, адресованный Деду Морозу с ватной бородой. Он, как известно, исполняет копеечные желания; в его заплечном латанном-латанном-перелатаном мешке (заплатанной! заплатанной!) нет шкатулки с рецептом счастья. Возможно, такой шкатулки вообще нет в природе.
Как жить дальше?
Тут все зависело от того, кто виноват в том, что виноватых не найти.
Хорошо. Пытаемся разорвать порочный круг. Ставим вопрос иначе. Наши действия на ближайшие несколько часов?
Такая постановка вопроса меня вполне устраивала. Оказалось, что перспектива приятного вечера вполне могла заменить счастье. По крайней мере, на один вечер. А дальше? «Будет вечер – будет перспектива», – решил я и, довольный тем, что не чувствую себя несчастным оттого, что лишен счастья, направился куда глаза глядят. Первые же сто метров почти примирили меня с реальностью. Живешь – живи, умей в мелочах видеть главное и наслаждайся относительными здоровьем, бодростью, вменяемостью.
Странно. Ведь точно так же считала и моя жена. И, отчасти, Сеня.
Что же тогда нас развело?
Я решил вернуться к луже, чтобы посмотреть на одинокого голубя. Но мое место уже было занято. Возле лужи стояла молодая привлекательная женщина в осеннем пальто заметного черного цвета (сразу ощущалось, что она получает удовольствие от теплой одежды в эту неустойчивую погоду) и кормила голубя кусочками кекса.
Серенькое небо изнывало мелким, нудным дождичком. Вдруг тучи раздвинулись, словно оттесненные чьей-то сильной любопытной рукой, сверху полыхнуло голубым простором – и радостно сыпанул редкий веселый снег, холодный прах, изумительно нелепый в свете солнца.
– Это зима возвращается или весна так не уверена в себе? – спросил я то ли у лужи, то ли у голубя, то ли у женщины. А возможно, и у самого себя.
Она подняла на меня глаза пронзительно голубого цвета (кусочки далекого неба, словно звезды молодых васильков, сорвались вниз и мило разместились на светлом овале ее лица).
– Весна – трудное время, – почему-то сказала она.
– Пожалуй, – легко согласился я. И неизвестно зачем добавил со вздохом: «Пожалуй».
Возле наших ног уже по-хозяйски копошились и деловито гулили два голубка, нагло уверенные в том, что доставляют женщине исключительное удовольствие, жадно заглатывая желтоватый кекс – ее подношение. У меня нога не поднялась отогнать хамоватых пернатых на приличное расстояние. Но я отомстил им способом еще более изощренным. Человеческим.
– Не кажется ли вам, что голуби сильно мутировали? – начал я издалека, пытаясь уловить пока что неясную для самого себя мысль. – Природа не терпит пустоты, но она не терпит и постоянства, этой формы фарисейства и пустоты. Природа, даже когда отдыхает, она все рано движется. Голуби, вроде бы, не делая ничего особенного, как бы резвяся и играя, превратились в некое подобие летающих крыс, пардон. Клювы у них стали хищными, глаза вороватыми, повадки – несносными, в оперении стали преобладать серые тона. Кстати, они все еще улюлюкают или уже пищат? Столетия жизни вблизи тучных помоек развратили некогда, возможно, приличных, то бишь трудолюбивых, птах. Белых, черных и сизых. Я к тому, что образ жизни накладывает на нас, детей, увы, природы, отпечаток. Боюсь, что и я сейчас сильно смахиваю на серого голубя. Мне не хватает любви.
Она смерила меня глазами – и я, внезапно потеряв точку опоры, провалился в голубой океан, цепляясь за отвесные стены айсбергов. Чертов Архимед и предположить не мог, что иногда точка опоры, меняющая местами лужу и облака, – где-то в глазах женщины. Прочитай он то, что здесь написано, и, боюсь, его бы хватил удар, и великий первооткрыватель утопил бы свою метафизику в своей же ванне. Где плавало упавшее ему на голову яблоко сорта «эврика». Судя по всему, вовсе не из эдемских садов: «эврика» была плодом незрелым и оттого чувствительно тяжеловатым.
Вечером мы гуляли по городу. Полная луна напоминала светящийся неоновый шар, который покинул кривой фонарный столб, украшение грязной улицы, тяжело отлетел ввысь и теперь играл в прятки с легкими, но неуклюжими облаками.
Звали ее Марина. Я удивился. Оказывается, я был почти уверен, что ее зовут Оксана. Сана: мне хотелось солнца?
– Марина… – говорил я, пробуя ее имя на вкус, цвет и запах. – Марина. Марина?
Кажется, мне нравилось. Морские дали, тайны и глубины. Свежесть, опять же. Почему нет? Что предвещало мне это имя? Тут я терялся в догадках.
Ей, кажется, нравилось мое нескрываемое любопытство. А также то, что потом будет определено ею как поэтическая наглость.
– Вот мы и пришли, – сказала она. – Муж, наверное, уже волнуется.
– Вы любите кекс? – спросил я, не реагируя на известие о внезапно объявившемся невесть откуда муже. Муж. Объелся груш. Фу. В такой вечер это звучало пошло.
– Люблю.
Улыбкой она дала понять, что оценила мое отношение к ее мужу, туманному персонажу, незримо вставшему между нами. Тоже мне, облако в штанах. В косую клеточку дождя. Муж как явление природы.
– Тогда я приглашаю вас на чай с кексом.
Я не сбавлял оборотов. Подумаешь – муж. Уж!
– С удовольствием. Когда?
– Всегда.
– Всегда – это вечность. А если поконкретнее? Женщины обожают конкретные предложения. (Знал бы я тогда, какую ключевую и роковую фразу обронила в ту секунду женщина с голубыми глазами в черном пальто! Просто прелесть. Обронила во тьму. Женщины заслуживают памятников за то, что они не понимают, какие глубокие и умные вещи произносят их голоса и губы.)
– Зачем же откладывать освоение вечности? Завтра же и начнем.
Ее улыбку можно было истолковать по-разному, например, так: не знаю, что вы демонстрируете, уверенность или неуверенность, однако я, почему-то, склонна поддержать вас в этом сумасшедшем проекте – чай с кексом.
Ну и чудно. Для нечаянного знакомства весьма неплохой результат. Где-то даже выдающийся.
– Любите ли вы Достоевского? – бросил я удаляющейся спине в пальто теплого черного цвета.





