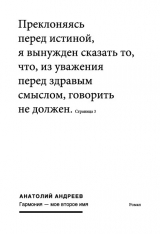
Текст книги "Гармония – моё второе имя (СИ)"
Автор книги: Анатолий Андреев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму).
Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться?
Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это оборотная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности.
Заслуга Достоевского в том, что он подчеркнул психичность человека, его бессознательную душевность, а в этой душевности – непредсказуемость. Но он же и противопоставил эту истерическую душевность – нормальности, абсолютизировав первую и поставив под сомнение вторую. Герои Достоевского, если уж быть точным, по складу личности, по типу отношений к действительности – фанатики и психопаты. В таком случае совершенно естественно, что отношение к разуму, к сознанию рефлектирующему предопределено было самой однобокой природой персонажей, их отчуждённостью от мира, их вырванностью из контекста социального и природного.
Однако отдадим должное писателю: его герои не просто избегали разума или настороженно относились к нему; Достоевский отчётливо осознавал, что такого рода персонажи в сознании должны видеть своего смертельного врага. А такое противопоставление – уже неплохая сцепка с реальностью. Не было бы сосредоточенности на магистральном для культуры, особенно новейшей, конфликте между психикой и сознанием (отражением запутанных отношений приспособления и познания) – не явилось бы и великого пятикнижия Достоевского (имеются в виду романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»), представляющего собой вариации на центральную и главную тему культуры: единства и борьбы психики и сознания.
Психика чувствует, чего ей не хватает, она тянется к сознанию, ощущая при этом свою ущербность и неполноценность и не переставая тянуться к началу противоположному, так как это единственный, что ни говори, способ самопознания (пусть и ограниченный рамками живительного процесса психо– и логотерапии). Иначе зачем же писать столько «идеологических» романов во славу «бессознательного» и во посрамление разума, бесконечно воспроизводя одни и те же типажи святых-«идиотов» и преступных умствующих еретиков-раскольников?
В свете сознания персонажи Достоевского начинают смотреться худосочными марионетками, прилежно иллюстрирующими беспомощность мысли и всесилие капризных вулканов бессознательного. Поразительная бедность мысли автора идеологических романов впечатляет даже не столько сама по себе, сколько вследствие того, что это скудомыслие было воспринято мировой интеллектуальной общественностью как философское откровение. Что тут скажешь?
Общественность читает роман, роман высвечивает гуманитарную невежественность общественности.
Крикливая иррациональность панически открещивается от цепких щупалец разума – вот всё «содержание» романов психически ангажированного гения. Весомостью аргументов служит не контрпродукция ума (не забудем: коварные концепции и смыслы – это мишень), а интенсивность, противоречивость и полная неподконтрольность интеллекту переживаний и, шире, психических комплексов. Фактура переживаний – это и есть главный иррациональный аргумент. Вот почему не следует усматривать в данной работе намёков на личное нездоровье творца как на главную причину странного его мировидения.
Однако не будем впадать в противоположную крайность: так ведь можно «отмахнуться» от доброй половины мировой литературной классики, поставив под сомнение её содержательность. Не будем требовать от литературы более того, что она может дать; с другой стороны, литература, претендующая на статус сверхлитературы (иначе сказать, умной, мудрой литературы), должна быть подвергнута анализу критическому. И главное, что выявляет такой анализ, заключается в следующем: вновь злейшим врагом психически-моделирующего восприятия было объявлено ориентированное на объективность сознание.
Подчеркнём, что пока мы ограничились принципиальной оценкой «достоевщины», не распространяя её вместе с тем как окончательный и исчерпывающий философско-эстетический вердикт на творчество писателя в целом и тем более на какое-либо конкретное художественное произведение, которое всегда в чём-то преодолевает бессознательные установки самого автора.
Какой из романов избрать для анализа?
Мы выберем не тот, который максимально полно репрезентирует интересующую нас проблематику (это было бы подгонкой под концепцию, то есть тем самым насилием над реальностью, что так характерно для Достоевского, представляющего мышление моделирующее, художественно– и религиозно-идеологическое, и что совершенно неприемлемо для сознания научного, ибо насилие над реальностью несовместимо с деятельностью «чистого сознания», есть приговор ему, другими словами – превращение его в свой антипод, вариант сознания идеологического), а наиболее совершенный в художественном отношении, по нашему мнению. Иное дело, что этот роман как никакой другой оказывается соответствующим нашей концепции, великолепно «подтверждает» её и одновременно даёт ей содержание. Но это, повторим, уже другое дело.
Мы имеем в виду «Преступление и наказание», конечно, первый из романов, открывающий пятикнижие.
Как же долго, неприлично долго не замечалась главная тема и проблема, которой подчинено в романе (и в творчестве Достоевского в целом) буквально всё. И пресловутая острая социальность романа, и его прямо-таки иезуитская идеологичность, и неслыханный психологизм, и сама хвалёная религиозная философия Достоевского, и оригинальная поэтика – всё, всё это следствия из пункта, скрестившего причины причин: борьба с разумом не на жизнь, а на смерть. Без компромиссов. Или – или. Академическая тема «психика и сознание», поставленная ребром, неизбежно тянет за собой кровь и смерть.
Так было в «Евгении Онегине».
Так было в «Войне и мире», в «Пиковой даме».
Так будет и в «Преступлении и наказании».
* * *
На следующий день, думая о Вере вперемешку с Достоевским, я отправился за результатами анализа.
Относился я к этой судьбоносной процедуре как к пустой формальности, не секунды не сомневаясь в положительном (то есть крайне отрицательном для себя) результате. Я-то знал, что мы вытворяли с Майкой; после этого надеяться на милость судьбы было наивно. Но и жалеть о времени, с таким толком проведенном с Майкой, было глупо. Преступление без наказания теряет смысл; если уж наказания все равно не избежать, то хотелось бы сначала пережить все удовольствия преступления.
Упитанная медсестра встретила меня показательно недружелюбно, не подпустив ближе, чем на три метра.
– Сдадите повторный анализ крови, – брезгливо приказала она.
– Когда?
– Сейчас.
– А первый анализ вас чем-то не устраивает?
– Первый анализ ошибочен: у вас ничего не обнаружили.
– Быть того не может, – пробормотал я, покрываясь алым цветом и не в силах унять дрожь ликования, потрясшую меня до мозга костей.
– Вот-вот, – сказала медсестра. – И я о том же. Закатывайте рукав.
Нацедив полпробирки темно-вишневой крови, она молча отправилась куда-то вглубь лаборатории.
– Когда же я буду знать результаты?
Ответом мне было слабое издевательское звяканье каких-то пинцетиков о какие-то колбочки. Мне давали понять, что пора привыкать к тому, что становишься человеком второго сорта.
– Когда я буду знать эти чертовы результаты! – взревел я.
Из-за ширмы вышел мужчина в белом халате, но в брюках и начищенной обуви, которые выдавали в нем человека, далекого от профессиональной медицины. Вот почему медсестра вела себя так вызывающе: у нее было прикрытие.
– Через неделю, – тихо сказал он.
– Почему так долго?
– Через неделю, – повторил мужчина тоном «баюшки-баю».
Я позволил себе нагло смерить его взглядом.
Через два дня, когда я сидел у себя в квартире и с раздражением вчитывался в «Преступление и наказание», мне позвонил, судя по всему, тот самый мужчина в начищенной обуви и сообщил:
– Вы не являетесь ВИЧ-инфицированным. Мы снимаем вас с учета.
Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Хам. В обществе либералов, ориентированных на запад, я привык к другому обращению.
Но теперь короткие гудки показались мне пунктирной связующей нитью, едва ли не музыкой жизни. Неизвестно почему, мне представилась походка Веры, и я снисходительно потрепал томик Достоевского, украшенный его брадатым анфасом, словно мохнатого барбосика, жарко дышащего тебе в ладонь.
* * *
Не хочу для других делать интриги из того, что перестало составлять интригу для меня. События, произошедшие в течение года, сами по себе не заслуживают того, чтобы их описывать: я ведь пишу не роман событий. Но их, эти самые события, необходимо хотя бы бегло перечислить – для того, чтобы понять, что неожиданно для меня самого стало главной интригой моей жизни.
Прошел какой-нибудь год, и я понял, что заражен гораздо более опасным вирусом, нежели СПИД.
Каким?
Видите ли, у него пока нет названия, и с этой болезнью пока не ставят на учет. А зря.
Но обо всем по порядку.
К кому я пошел с вестью о том, что я полностью здоров? К Вите?
Я пошел не к Вите, и правильно сделал. Дело в том, что, как выяснилось несколько позже, в телефонном разговоре, она уже знала, что ее счастливо миновала чаша сия, но даже не соизволила позвонить мне и дать возможность больному человеку порадоваться хотя бы за другого.
К Майке?
Я запланировал звонок ей, чтобы снять груз с ее души. Следующим должен был быть звонок Вите.
Но пошел я к Вере.
– Вера, – сказал я, – представляете, я привык жить без будущего. Вот всего час назад у меня вновь появилось будущее, но не знаю, надо ли мне оно. Каким вы видите свое будущее?
– Не знаю. У меня каждый день расписан по минутам, поэтому мне просто некогда думать о таких пустяках. Если я стану думать о будущем, у меня его не будет. А ваше будущее… Вас что, высылают из страны, и вы, наконец, воссоединитесь со своим поляком? Счастье – в дом?
– Вера, не обижайте меня.
– Извините. В этой странной компании никогда не знаешь, что у нас сегодня является достоинством, а что – пороком. Слишком часто все меняется местами. Значит, вы отправляетесь к своей француженке. Я правильно вас поняла?
– Нет, неправильно. Я совершенно здоров, у меня нет ВИЧ-инфекции, я не голубой, и я, честно говоря, не представляю своего будущего без вас.
Она впервые посмотрела на меня не как на пустое место.
– Как вас зовут, извините?
– Ах, да, я ведь толком даже не представился. Меня зовут Герман, Герман Львович Романов. Филолог. Не диссидент, не привлекался, не хожу в храмы, терпеть не могу темносплетений Бахтина и не обожаю Достоевского. Ни разу в жизни не любил по-настоящему. До недавнего времени… Гм-гм. Все не как у людей.
– Вы революционер наоборот?
– Да нет же! Я человек, который куда-то спешил, потому что у него не было будущего. А теперь… Теперь я даже не знаю, кто я.
– Очень приятно, Герман. Меня зовут Вера. Я обожглась на любви, и теперь не слишком верю словам. Вы уж, пожалуйста, с ними поосторожнее.
– Конечно, Вера. Я очень ответственно отношусь к словам. Но я сказал правду. Ни убавить, ни прибавить.
– Кофе хотите?
– Дайте подумать… Хочу. Можно, я позвоню от вас Майке и Вите?
– Кто такой Витя?
* * *
На следующий день Сеня сказал мне:
– Очень легко жить, если ты заражен СПИДом: жизнь превращается в героическое умирание. К твоим услугам сочувствие и внимание окружающих, к твоим услугам проверенные варианты «защиты от жизни», как ты сам изволил выразиться. А вот как быть здоровому и нормальному «аспиду»? Думаю, вскоре тебе опять захочется подцепить какую-нибудь смертельно опасную заразу. Ты развращен привычкой жить без будущего. А для будущего необходимо мужество: либо ты познаешь себя – либо тебя колбасит. Твоя яркая жизнь – пустота. Дело не в СПИДе; дело в том, что ты живешь пустую жизнь. Тебе хоть три жизни дай – что ты с ними будешь делать?
Вот тут я физически почувствовал, как заражаюсь иным, более опасным вирусом, известным легкомысленному человечеству под названием «горе от ума», – вирусом прозрения, передающимся от персоны к персоне. Аномальный Синдром Прозрения Истинно Духовного.
Вскоре я понял, что болезнь эта в редких случаях заразна и неизлечима.
Второй круг мой жизни был до обидного кратким. Вита со второй попытки поступила на филфак (любовь ко мне прошла, но любовь к литературе осталась – в полном соответствии с заморочками древних: vita brevis est, ars longa) и благополучно вышла замуж. Я был случайным свидетелем свадебной церемонии. Букет ее руках – пышные хризантемы – напоминал перевернутое платье невесты, поблескивающий снежным напылением колокол. А под платьем – ее ноги, которые я раздвинул первым.
Во рту у меня пересохло, сердце отчего-то сжалось.
Через девять месяцев она, словно назло мне, родила здоровую девочку.
Майка тоже родила. Мальчика. Здорового. От Артема. Возможно, тоже назло мне.
Что я находил во всех этих людях раньше? Мое прозрение все более и более мешало мне жить. Бессознательное копошение народа, страны и человечества я воспринимал как угрозу лично себе. Народ, человечество и Достоевский двигались в одном направлении, а я – в другом. Страна рушилась, но направление моих мыслей при этом менялось независимо от распада империи. Узнал бы Лев Толстой – вот бы удивился.
Я ощущал свое выздоровление как начало неизлечимой болезни.
Цивилизация в своем объективном движении от социоцентризма к персоноцентризму (от психики к сознанию) остановилась на том, что свобода индивидуума (не путать с личностью!) ограничивается верой. Миром правит бессознательная регуляция. Все. Точка. Это не обсуждается.
Дальше цивилизация идти не готова – по объективным причинам. Бесконечно воспроизводится один и тот же тип «гуманных» отношений (классика – Достоевский и Толстой, Лев Николаевич): вера в добро, милосердие и душу человека – с одной стороны; с другой – ненависть к разуму и диалектике – сиречь, ко злу. Козлу.
Вот и от меня все ждут того же: верь, надейся, люби – ибо это лучший (проверено бессчетное количество раз!) способ не думать. Вариант «не верь, не бойся, не проси» – всего лишь оборотная сторона первого.
А я хочу мыслить, чтобы верить, надеяться и любить; плакать, смеяться и ненавидеть – чтобы понимать. Поэтому не люблю Достоевского, великого путаника библейского масштаба.
Одно дело – надежда на то, что ты сможешь укротить имеющий отношение к человеку закон, и совсем другое – надежда на то, что тебе повезет в мире, где нет никакого закона, кроме закона джунглей: кто сильнее – тот и прав. Одно дело вера в свои силы, в свой разум (в себя), и совсем иное – вера в то, что тебе помогут «высшие силы» (во всемогущего и, главное, милосердного Б., чтоб не упоминать его имени всуе). Одно дело любовь как способ проявления своих возможностей – и совсем-совсем другое любовь как способ показать пану Б., что ты хороший, – любовь как способ проявления своей покорности. Как-то ловко сотворили всемирный проект под названием «пусечка, ширмочка Б.»: он и грозно всевидящ – и в то же время счастливо близорук; когда тебе или ему, когда – ну, все равно кому – очень хочется, то его можно держать за придурка, то есть за пана, который, по своей исключительной доброте (нам – пример и наука, однако) любую твою блажь должен принимать на веру, за чистую монету. Я бы на месте Б. был раздосадован, а возможно и – взбешен.
Не надо говорить мне про «веру, надежду любовь» – надо говорить о личности; не надо говорить мне о стране и народе, о социализме и капитализме – надо говорить о личности.
Вот теперь я по-настоящему был отвержен. Я обнаружил: глупые люди все повально заражены вирусом умодефицита.
Мне удалось найти вакцину от глупости – но взамен я приобрел жизнефобию. Ум и жизнелюбие пока не сочетались.
Но у меня уже была Вера.
Это случилось в самом начале всемирного катаклизма, которому дали невыразительное, какое-то исключительно мирное (и потому издевательское) название – Перестройка…
Все равно, что о всемирном потопе выразиться в том духе, то ваша речка, дескать, немного вышла из берегов.
Книга вторая. Зимний круг или Пучок историй
1. Карканье белой вороны
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ
(роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)
2
Начнём с последнего абзаца одного из самых «странных» романов в мировой литературе (трудно удержаться от замечания, что все великие произведения – странны, ибо вызывающе не соответствуют аршину общепринятой логики и общих представлений; а ещё потому странны, что внутренне противоречивы). Под подушкой, под головой исстрадавшегося Родиона Романовича Раскольникова уже лежало Евангелие. «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ наш окончен». (Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – Г.Р.)
Обратим внимание прежде всего на то, что «рассказ», представленный нам, вовсе не безличен, у него, как и у всех «рассказов» в мировой литературе, есть свой творец, в данном случае делегировавший свои полномочия повествователю («наш» рассказ). Ни о какой нейтральности, ни о какой беспристрастности и неангажированности повествователя, ни о какой равноправной «диалогичности» не может идти и речи, так как повествователь и не скрывает, что его временно «невменяемый» герой находился в «одном мире», закрытый пока что для диалога с миром иным. Если под диалогом понимать самоценность вступивших в контакт суверенных миров, не сводимых один к другому, то такого диалога в романе нет. Мир Раскольникова явно и естественно соотносится с миром того же повествователя, причём первый выступает как «низшее» измерение по отношению ко второму, «высшему». Если и говорить о диалогичности иерархически (так или иначе – моноцентрически) устроенного романа, то правильнее было бы говорить о диалоге как моменте монологической, концептуально определённой структуры.
Многоуровневый, многоклеточный мир Л. Толстого своим единством не отменяет автономности микромиров, диалектически взаимосвязанных и производящих впечатление космической упорядоченности.
Мир Достоевского устроен принципиально иначе. Его мир ограничен душой человека, взятой в определённом, «тёмном» или «светлом», качестве. Полярно разбросанные мировоззренческие полюса присутствуют в романе, иначе и не возникло бы энергии конфликта. Однако «светлая», святая душа, «другой» мир обозначены, по большому счёту, как наличие противоположности, как возможность, перспектива или идеал (главным героем такая душа стала в романе «Идиот», персонифицируясь в образе князя Мышкина). Центром мироздания становится душа, догадывающаяся о существовании иного мира, но обитающая в своём, противоположном идеальному, мире. Что это за мир, чем он так притягателен для писателя, и почему так долог или невозможен путь в мир иной?
Мир, непропорционально сведённый к душе человека, позволил многократно увеличить её «тёмные» и «светлые» стороны. При таком подходе к делу логично было бы ограничиться несколькими персонажами, два из которых обязательно должны быть полярными (и, собственно, главными), остальные призваны усиливать и детализировать линию главных. «Двойники» и «двойничество», будучи продуктом рационального дробления единого комплекса идей (так сказать, идейной достоевщины), дают вместе с тем уникальные возможности для инфернальных, запредельно-трансцендентальных наитий и «прозрений» (достоевщины психологической). Именно так с точки зрения логики персонажеобразования и соотношения характеров выстроен роман «Преступление и наказание». Родион Раскольников – это один полюс, Софья Мармеладова – другой (уже по звукам и по семантике – полюса). «Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями ? Её чувства, её стремления по крайней мере…» – читаем мы в самом конце эпилога, когда герои находились «в начале своего счастия» . Начало «счастия» – начало приобщения к сонечкиным убеждениям. До этого момента были исключительно «несчастия», заблуждения.
Таким образом, природа Раскольникова, без сомнения, главного героя романа, двойственна, что, собственно, является необходимым условием, создающим почву для пронзительных внутренних раздраев. Раскольников – это Соня Мармеладова, в которую вселился (временно, но цепко) бес рациональности и неверия. И эта бестиарность, повторим, есть обязательное условие существования романа, который, по сути, от начала и до конца являет собой картины торжества, бессилия, а затем и изгнания сего беса.
Бесом, понятно, служит всё тот же ум.
* * *
– Прочитала? – спросил я у Веры.
– Прочитала. Но ничегошеньки не поняла. Кар-кар-кар… Курлы-мурлы… Как-то громко, отчетливо, но совершенно непонятно. Хотя красиво.
– Оптимистическое чириканье или пессимистическое карканье… Не в трелях дело. Дело в том, что душа чирикает, а разум – каркает. Все просто. Я тебе сейчас объясню. К Достоевскому нельзя подойти без теории, хотя сам он их «как бы» не любил…
Я говорил долго и вдохновенно. Мне нравилось, с каким умилением она меня слушала: она ловила каждую интонацию и отзывалась на любой жест, благо я темпераментно размахивал руками.
– Понятно?
– Нет…
Я был несколько озадачен.
– Хорошо. Подойдем с другой стороны. Не знаю, в каком мире живешь ты, Вера; что касается меня, то я живу в мире, где правда, такая, как я ее понимаю, никогда не восторжествует, истина всегда будет попрана, а человек, увы, – вряд ли достигнет того, чего он заслуживает. Именно поэтому мой долг – быть счастливым, не предавая при этом истину. Только не называй это подвигом; скорее, это оптимистический жест отчаяния. У меня нет выбора, мне деваться некуда. Приходится быть счастливым.
– Я люблю тебя, – сказала Вера, целуя меня в краешек губ. – Предложи мне стать твоей женой. Я соглашусь…
– Ты мне не дала договорить. Я именно к тому и вел речь, по всем правилам риторики.
– Ты говорил очень долго. А мне надо коротко и понятно. Мы поженимся?
Дежавю. Кажется, подобное уже было в моей жизни. Нет, двойное дежавю. Нет, тройное. На все мои умные речи она реагировала одинаково: все заканчивалось поцелуями.
До меня вдруг дошло: она следит за тембром, интонациями и жестами, но не за смыслом. Как кошка. Или змея. Гм-гм. Мне почему-то тоже захотелось ее поцеловать, и слезы навернулись на глаза мои.
– Дай подумать… А кекс у нас на свадьбе будет?
– Будет, если захочешь. А свадьба у нас будет или нет?
– Будет. Если будет кекс.
– Ну-ка, рассказывай, при чем здесь кекс? У тебя ничего не бывает просто так.
– Сейчас расскажу. Только сначала поцелую…
2. Стрельба по привязанным зайцам
И у нас была свадьба. В апреле. К удивлению немногочисленных друзей, в основном, с ее стороны, я ел только специально принесенный с собой кекс и запивал его коньяком – обжигающим нектаром, отличавшимся золотистым «нарядным цветом» с крепким коричневым оттенком.
Апрель играл с зимой, будто большая, здоровая и сытая кошка с полудохлой мышкой. Позволит ей глоток ледяной свежести с утра – робко сыпанет редкий мокроватый снежок с затянутого сереньким неба – а к полудню уже балует прогретым весенним ветерком, сошедшим с ума от запахов пробудившейся природы. Солнце в обновленном огненном оперении чувствовало себя уверенно, словно нелепый вождь индейцев, и уже никуда не спешило. Такое впечатление, что оно тоже перезимовало в берложке, как пушистый зверек, и теперь карнавально радуется свободе. Ах, это сладкое слово свобода с привкусом цианистого калия…
Это было еще тощее солнце социализма. Вскоре ему, уже более лохматому и тучному, предстояло всходить и заходить в другой, раскрепощенной стране, населенной теми же самыми людьми, которым хотелось думать, что они стали другими – свободными. Солнце то же, а люди другие. Природа не поспевала за культурой. Где натуре с ее допотопными циклами! Прошла зима, настало лето: спасибо партии за это. Все под контролем. Теперь партии не стало. Спасибо гвардии новых мучеников за идею иного всеобщего эквивалента – за бабло. Потом гвардии не стало (увы, оторвались от народа – выродились в олигархов). Спасибо всем. Несвободные люди через брюхо служат идее, свободные – только брюху. Назад, в пещеру: это и есть «даешь цивилизацию». Дальше, почему-то, перспектив не видно. Темень какая-то демократическая. Как в заднице. У доброго негра.
Времена настали веселые и лихие, а семью, ячейку общества и одновременно пещеру личности, никто не отменял. Всем по-прежнему хотелось счастья. Кусочек чего-нибудь личного, независимого от свободы и общества. А ведь счастливая семейная жизнь – это жизнь без сюжета, которая по своей предсказуемости напоминает стрельбу по привязанным зайцам; сюжет появляется только тогда, когда семью начинает лихорадить и она постепенно распадается. Всякая счастливая семья проходит испытание на прочность – переживает несколько периодов распада. Период четвертьраспада, полураспада, распад, спад, ад… Да…
Семья, ячейка и пещера, превращается в ничто. В космическую пыль, скопище отдельных атомов. Может, это нормально? История семьи – история пыли?
С другой стороны, из чего-то возникали и создавались новые семьи – может, из той же пыли, из тех же атомов?
А новое, передовое, потому как капиталистическое, общество – не из той ли пыли вылепилось, в которую превратилось, старое, социалистическое (возникшее, как известно, на обломках пещерного капитализма)? Ведь другой же пыли, иных атомов, альтернативного вещества же просто нет. Из ничего и будет ничего. Ноль. Всеобщий эквивалент пустоты. Типа «ау-у-у», однако…
Перестройка, перекройка, обновление… Почему-то распад и гибель страны, Союза нерушимого, непременно облекается в звучные названия. Перестройка – это ведь гимновое нечто. Гром среди неба. Практически пертурбация. А начиналось все так мирно: пере-стройка…
Историческая задача – обновить общество, безнадежно при этом махнув рукой на дремучую, не поддающуюся обновлению природу человека, – решалась без веры в чудеса: кроваво, скоро, хищно и безжалостно.
Это было время историй, историческое время; можно сказать, сама история гуляла напропалую, направляемая тучным бессознательным маленьких людей, сгрудившихся в огромный конгломерат, под кодовым названием народ. Чего-то делили. История – это всегда дележка пирога, когда не хватает даже тем, кто делит, не говоря уже обо всех остальных, которым столько обещано. Что взять с истории, для которой, по мифу, не существует сослагательного наклонения?
По-моему, она только и живет сослагательными наклонениями. Все, что происходит или произошло, могло бы произойти как-нибудь иначе, могло бы и вовсе не происходить. Могло бы не быть. Что толку?
У ничто нет истории; история пустоты – это даже не смешно, ибо нет предмета: над чем смеяться? История о том, как пирог не поделили… Нет, история о том, как два генерала, вышедших из мужиков, пирог не поделили, а мужик при этом остался виноват де юре и в дураках де факто. Это круто.
Под эту историю создали «новую» идеологию: необходимость служить идее была с восторгом отметена «свободным» служением брюху. Старая, как мир, брюшинная идеология была объявлена новым культурным завоеванием. В новую Конституцию Продвинутого Глубоко в Демократическую Зад…, нет, Ц, в смысле Цивилизацию, Общества пунктом Первым занесли главный параграф (теперь уже славянскими иероглифами, рядом с мантрами на латинице): отныне всякий считающий себя свободным имел право – главное право человека (не путать оного с личностью и быдлом) – не думать. Не хочет, значит, не должен. Главной обязанностью свободного человека (см. пункт Второй Конституции) была объявлена повинность смотреть футбол под чипсы, пиво и прикольную рекламу. В перерывах – попсовый мультик или сериал с любимыми «звездами». Че еще? Плодитесь и размножайтесь. Нормальному человеку больше не надо.
Все. Конец истории. Всем спасибо. Все свободны.
Вот такая история.
И эта история маленьких людей, в гордыне называющих себя «простыми», придумала себе королевскую проблему: роль личности в истории. К сожалению, пока что можно говорить прямо об обратном: роль истории малюсеньких людей в деле уничтожения личности. (Вовсе не обязательно писать это последнее, ласковое слово с большой буквы – все равно до этого феномена не дотянешься: это вам не Марс какой-нибудь. Гм-гм. На всякий случай для суперновой гвардии. Марс – это планета, а не шоколадный батончик скверного качества, употребляемый иногда вместо чипсов теми, кто пьет не пиво, а пепси-колу.)
Сколько истории, сколько блошиных, пардон, брюшинных, историй, вмещавших столько всего доисторического!
Все эти истории как-то впитались в меня, обогащая и корректируя мой духовный состав. При этом я вел напряженный диалог с Достоевским, с большим чувством раскрывшим души всех этих простых или, того жальче, ма-аленьких людей. Отверженных. Униженных и оскорбленных. Обиженных и прибитых. Верящих, вопреки всему, в доброе и светлое начало.
Иначе сказать, людей, живших бессознательной жизнью.
Знал бы Федор Михайлович, кого он прижалел. Мой мир не походил на их мир – и тем хуже было для меня: это я жил в их мире, а не они в моем. Будут ли они когда-нибудь жить в моем мире и вкусят ли прелести сознательного существования – неизвестно. Впрочем, это будет уж совсем другая история.
Месиво историй, из которых и состояло вещество будней, составили третий круг моей жизни. Зимний круг. Эти истории, хляби и топи, были в буквальном смысле почвой под ногами, по которой я бродил наощупь, проваливаясь и тут же вскарабкиваясь на новую неверную кочку, чтобы в очередной раз соскользнуть с нее в холодную жижу…
При этом я писал свою историю – историю личности.
3. История первая. У народа Берия не вызывал доверия
Звали его Лаврентий (кличка, изготовленная историей, подобралась быстро: разумеется, незабвенный Берия; если уважительно – просто Палыч). Он был закадычным другом Юрия Борисыча, большим поклонником Элеоноры, а впоследствии также и Марго. Можно сказать, шел по следам Учителя. След в след.





