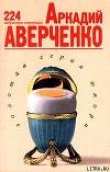Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Однажды, например, иду я по улице в некоем городе, очень далеко отсюда. Навстречу двое в форме. Один умолкает на полуслове, нацеливает мне в лицо удивленный взгляд и говорит своему спутнику: "Да ведь это, кажется, 767". Нечто знакомое и пугающее слышится мне в этих цифрах. Побуждаемый неодолимой силой, я бросаюсь в переулок, бегу, бегу и наконец падаю в изнеможении на проселочной дороге.
Никогда не забыть мне этот номер – он приходит на память, сопровождаемый бессмысленными ругательствами, раскатами невеселого смеха, лязгом железных дверей. Уверен, имя, пусть даже самозванное, все же лучше, чем номер. Скоро в убогой кладбищенской книге я обрету и то, и другое. Каково богатство!
Для тех, кто прочтет эти записки, позволю себе сделать маленькую оговорку. Не ищите здесь повести о моей жизни – ее я не знаю. Перед вами лишь разрозненные, не связанные между собою воспоминания; некоторые из них отчетливы, точно нанизанные на нитку сверкающие бусины, другие смутны и странны – пурпурные сны с пустыми черными провалами, мертвое пылание багряных огней святого Эльма среди великого безмолвия.
Стоя на берегу вечности, я оглядываюсь назад, на пройденный мною путь, запятнанный кровью моих израненных ног и растянувшийся на двадцать лет. Они влекутся сквозь нужду и страдания, эти петляющие и нетвердые следы путника, согбенного тяжким бременем.
"Вдали от всех, бредет он, согбенный, устало"(1)
О, эти вещие строки, они пророчат мою судьбу – поразительно и жутко!
Откуда начинается сия via dolorosa(2), эта поэма страданий, со вставными эпизодами греха, я не ведаю, – там все подернуто дымкой. Мой взор охватывает только двадцать лет, а ведь я старик!
Никому не дано помнить свое рождение – о нем узнают понаслышке. У меня все иначе; жизнь явилась мне вдруг, в готовом виде, и сразу наделила всем, что обычно дается людям лишь в зрелости. О прежнем существовании я знаю не более, чем другие, – ведь у каждого хранятся в памяти какие-то смутные намеки – то ли сны, то ли явь. Знаю только, что впервые себя осознал уже совсем взрослым, взрослым и душою и телом, и принял это как должное. Я брел по лесу, полуодетый, со стертыми ногами, неописуемо уставший и голодный. Увидев фермерский дом, я подошел и попросил хлеба. Меня накормили и спросили мое имя. Я его не знал, хотя понимал, что каждый должен иметь имя. Крайне смущенный, я укрылся в лесу; когда пришла ночь, я лег под дерево и уснул.
На следующий день я пришел в большой город; не стану его называть, как не стану излагать и последующие события моей жизни, которая вот-вот оборвется, жизни скитальца, преследуемого одной неотвязной мыслью: карать зло – преступление, но карать преступление – зло еще большее. Попробую пояснить эту мысль на примере.
Помнится мне, будто я жил однажды неподалеку от крупного города преуспевающий плантатор, женатый на женщине, которую любил, но подозревал в неверности. И будто бы у нас был ребенок, одаренный, многообещающий юноша. Я вижу его смутно – размытый силуэт, часто и вовсе уходящий за рамки картины.
В один злополучный вечер мне взбрело на ум испытать верность жены самым избитым способом, не раз описанным в пошлых романах. Я собрался в город, предупредив жену, что буду обратно не раньше, чем завтра пополудни. А сам вернулся на исходе ночи, обошел дом, чтобы войти через заднюю дверь: замок ее не защелкивался, о чем я позаботился заранее. Подходя к двери, я услышал, как она тихо отворилась и снова затворилась, и увидел, как мимо меня скользнул мужчина и растворился во мраке. Убью, подумал я, и бросился за ним, но он исчез. Ему повезло – я его не узнал. Теперь иногда я гадаю: человек ли то был?
–
(1) Строка из поэмы "Путник" О. Голдсмита (1764).
(2) Дорога страдании (лат.).
Обезумев от ревности и гнева, в слепой животной ярости я вбежал в дом и ринулся по лестнице к спальне жены. Дверь была закрыта, но тоже незаперта, я распахнул ее и в полной темноте бросился к кровати. Ощупал – постель была смята, но пуста.
"Она внизу, – подумал я, – Темно, и я упустил ее".
Хотел было выскочить, но впотьмах ткнулся не в ту сторону... а, нет, именно в ту! Я буквально споткнулся об нее – она сидела, забившись в угол. Еще миг, и я сдавил ей горло, не давая крикнуть, коленями уперся в нее, чтобы не вырвалась, и в кромешной тьме, молча, я все сжимал и сжимал пальцы, пока тело ее не обмякло...
На этом сон кончается. Я веду рассказ в прошедшем времени, хотя более подошло бы настоящее, ибо снова и снова в моем сознании разыгрывается страшная драма – снова и снова обдумываю план, утверждаюсь в своих подозрениях, караю зло. Потом – пустота; дожди барабанят по грязным окнам, снега падают на мою жалкую одежду, колеса громыхают по убогим улицам, где в нищете и низменных занятиях проходит моя жизнь. Солнце не светит мне больше. Птицы не поют.
Вот другое видение, еще один ночной кошмар. Я стою в тени и залитой лунным светом дороге. Чувствую рядом чье-то присутствие, но чье – не знаю. В тени большого дома мне видится мелькание белых одежд; вот прямо передо мною на дороге появляется женская фигура – моя несчастная жена! В ее лице печать смерти, на шее – страшные отметины. Она останавливает на мне бесконечно печальный взгляд, в котором нет ни упрека, ни ненависти, ни угрозы, в нем только узнавание. Я отступаю в ужасе... ужас владеет мною и сейчас, когда я пишу. Не могу больше начертать ни слова. Видите? Какие они...
Ну вот, теперь я спокоен, но, право, добавить мне нечего – случай этот, всплыв из бездны мрака и сомнений, снова канул туда.
Да, я вновь владею собой – "я – капитан моей души"(1). Но это не конец, это иная ступень на пути искупления. Мое покаяние неизбывно, оно лишь меняет форму. Иногда оно принимает вид спокойствия. В конечном счете я наказан всего лишь пожизненно. "Приговорен к мукам ада до конца жизни". Глупо: преступник сам назначает себе срок. Мой срок истекает сегодня.
Мир всем и каждому, мир, которого я был лишен.
–
(1) Строчка из стихотворения "Invictus" английского поэта У. Э. Хенли (1849-1903).
III
Свидетельство покойной Джулии Хетмен, полученное через медиума Бэнроулза
Я легла рано и почти тотчас погрузилась в спокойный сон, от которого очнулась с безотчетным чувством страха, столь нередким, помнится, в той, прежней жизни. Я не могла отделаться от этого чувства, хотя понимала всю его бессмысленность. Мой муж, Джоэл Хетмен, был в отъезде; слуги спали в другой половине дома. Впрочем, ничего необычного в том не было, и прежде я никогда не боялась. Тем не менее сейчас страх мой сделался столь невыносимым, что переборол оцепенение. Я села и засветила лампу. Против ожидания, легче мне не стало; свет только усилил тревогу. Мне пришло в голову, что полоска света под дверью укажет мое убежище тому безымянному зловещему существу, что таится снаружи. Вы, все еще облеченные в свои тела и подвластные ужасам, рожденным вашим воображением, можете представить, как должен быть велик страх, который вынуждает искать спасения от ужасов ночи – во тьме! От отчаяния бросаться в объятия невидимого врага!
Потушив лампу, я натянула на голову одеяло и притаилась, дрожа, не в силах позвать на помощь, утратив способность молиться. В таком жалком состоянии я пробыла, должно быть, не один, как вы говорите, час – для нас времени не существует.
Наконец, вот оно – тихие, ковыляющие шаги на лестнице! Медленные неуверенные шаги, точно оно не видит, куда ступает; мой смятенный разум ужасался приближению этой безмозглой, безглазой силы, к которой тщетно взывать о пощаде. Мне вдруг показалось, что я оставила на лестнице зажженную лампу, и раз оно пробирается ощупью, значит, это не ведающее света исчадье ночи. Как глупо, ведь я сама только что погасила свет в комнате. Но что поделаешь? Страх не рассуждает. Он лишен разума. Он рождает зловещие картины, он нашептывает трусливые советы, которые не вяжутся между собой. Мы это слишком хорошо знаем, мы – это те, кто ступил в царство ужаса, кто томится в вечном сумраке среди призраков прошлой жизни; одинокие и невидимые даже для самих себя и друг для друга, и тем не менее осужденные скрываться ото всех, мы жаждем говорить с любимыми существами, но мы немы и полны страха перед ними, как и они перед нами. Иногда стена рушится, неумолимый закон отступает: бессмертная любовь или ненависть снимают заклятие, и мы становимся зримы для тех, кого призваны остеречь, утешить или покарать. В каком обличье мы являемся им, нам неведомо, но мы повергаем в ужас даже тех, кому тщимся даровать покой и утешение и от кого страстно ждем сострадания.
Умоляю, простите за это неуместное отступление ту, что некогда была женщиной. Вам, которые вопрошают нас столь несовершенным способом, вам... не дано нас понять. Вы задаете пустые вопросы о том, что нам неведомо или запретно. Нам многое открыто, но мы бессильны передать вам свое знание – на вашем языке оно лишено смысла. Мы вынуждены говорить с вами на жалком языке рассудка, ведь это все, что вы способны понять. Вам кажется, что мы принадлежим иному миру. Нет, нам знаком лишь один мир – ваш, но для нас он лишен солнечного света и тепла, музыки и смеха, пения птиц и душевного общения. О Боже! Что за участь быть призраком, трепетным и пугливым, в отчаянии мечущимся в этом неузнаваемом мире!
Нет, я не умерла от страха: неведомое нечто отступило и стало удаляться прочь. Я слышала, как оно уходит, спускается по лестнице, спешит, словно само чего-то боится. Тогда я поднялась, чтобы позвать на помощь. Едва коснулась дрожащей рукой дверной ручки, как – Боже милостивый! – услышала, что оно возвращается. Поднимается по лестнице быстрыми, тяжелыми шагами, от которых содрогается весь дом. Я забиваюсь в угол, вжимаюсь в пол. Шепчу молитву. Мысленно зову моего дорогого мужа. Вот слышу, дверь отворяется. Потом – беспамятство. Очнулась и чувствую, как чьи-то руки сдавили мне горло... как я слабо отбиваюсь, а оно прижимает меня к полу... язык вываливается у меня изо рта... И вот я вступаю в иное существование.
Нет, я не знаю, кто это был. Нам не дано знать о прошлом более того, что знали мы в момент смерти. Нам открыто то, что совершается сейчас, но наши представления о прошлом не меняются – все, что нам известно о нем, начертано в нашей памяти. Мы не ведаем той истины, с высот которой можно взирать на хаотичный пейзаж страны былого. Мы все еще обретаемся в Долине Теней, таимся в пустынных местах, всматриваемся сквозь лесные чащобы в ее безумных и злобных обитателей. Что можем узнать мы нового об этом ускользающем прошлом?
То, о чем я вам расскажу, случилось ночью. Мы различаем приход ночи, ибо тогда вы удаляетесь в свои жилища, и мы покидаем свои тайные убежища, безбоязненно приближаемся к нашим прежним домам, заглядываем в окна и даже проникаем внутрь и глядим в ваши спящие лица. Я подолгу медлила у того места, где со мной произошла эта жестокая перемена – мы часто так поступаем, пока живы те, кого мы любим или ненавидим. Тщетно искала я, как дать о себе знать, как объяснить мужу и сыну, что я существую, что по-прежнему люблю их и мучительно им сострадаю. Если я склонялась над спящими, они пробуждались. Если являлась к ним, когда они бодрствуют, они обращали ко мне страшный взгляд своих живых глаз, и я немела от ужаса...
В ту ночь я тщетно их искала... и боялась найти. Их не было ни в доме, ни на залитой лунным светом лужайке. Хотя солнце для нас утеряно навсегда, луну, и полную, и ущербную, мы видим все время. Она сияет нам ночью, а порою и днем, она восходит и садится, как в той, прежней, жизни.
Я покинула лужайку и, охваченная печалью, бесцельно заскользила по дороге сквозь лунный свет и безмолвие. Вдруг послышался голос моего бедного мужа, исполненный испуга и удивления, и голос сына, успокаивающий, разубеждающий; они стояли в тени деревьев... близко, совсем рядом! Их лица были обращены ко мне, глаза мужа устремлены прямо на меня. Он видит... наконец, наконец-то он меня видит! Когда я поняла это, мой страх рассеялся, как дурной сон. Смертельное заклятие снято: любовь победила! Вне себя от восторга я вскрикнула... должно быть, вскрикнула: "Видит! Наконец-то он видит! Теперь он все поймет!" С трудом сдерживая себя, я приближалась к ним, красивая и улыбающаяся. Сейчас он заключит меня в свои объятия, я стану ласково утешать его, возьму за руку моего сына. И мы будем говорить, говорить, и рухнет преграда между живыми и мертвыми.
Увы! Увы! Его лицо побелело от ужаса, а глаза стали как у загнанного зверя. Он все пятился от меня, а потом бросился бежать и исчез в лесу... Где он?.. Мне не дано этого знать.
Мой бедный мальчик, он остался совсем один. Я бессильна внушить ему, что я здесь, рядом с ним. Скоро и он должен перейти в мир невидимого. И я потеряю его. Навсегда.
ПО ТУ СТОРОНУ
Много лет назад по пути из Гонконга в Нью-Йорк я на неделю остановился в СанФранциско. За долгие годы, проведенные вдали от родного города, я стал преуспевающим бизнесменом – мои доходы в Азии превзошли самые смелые ожидания; я был богат и мог позволить себе вновь посетить свою страну и восстановить дружбу с теми из товарищей моей юности, кто был еще жив и – как я надеялся – все еще питал ко мне теплые чувства. Прежде всего мне хотелось повидать Мона Демпьера, моего старого школьного друга, с которым мы даже когда-то переписывались, но – как это обычно и бывает у мужчин – переписка давно оборвалась. Вы, наверное, замечали, что нежелание написать неофициальное письмо тем сильнее, чем большее число миль отделяет вас от вашего корреспондента. Это закон.
Я помнил Демпьера красивым сильным юношей с явной склонностью к науке, еще более явной несклонностью к работе и прямо-таки поразительным равнодушием к разного рода мирским утехам, включая богатство, коего, впрочем, он унаследовал достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. То, что никто из его аристократических родственников никогда не занимался ни торговлей, ни политикой, равно как не страдал под тяжким бременем славы, составляло предмет его особой гордости. Мон был немного сентиментален и слегка суеверен, чем, по-видимому, и объясняется его интерес к изучению оккультизма, но здоровая психика всегда надежно предохраняла его от фантастических и опасных воззрений. Время от времени он совершал бесстрашные вылазки в область нереального, ни на миг не забывая, однако, что его подлинной родиной была и остается иная страна, пусть частично, но все же исследованная и нанесенная на карту, – та область, которую мы именуем объективной реальностью.
Вечер моего визита к нему выдался грозовым. Стояла калифорнийская зима, и дождь без передышки хлестал по опустевшим улицам, а порой, подхваченный внезапными порывами ветра, яростно кидался на дома. Я взял извозчика, и после долгих блужданий он отыскал, наконец, нужное место в малонаселенном районе на океанском побережье. Дом, признаться, довольно уродливый, стоял посередине участка, на котором – насколько мне удалось разглядеть в темноте – не росло ни травы, ни цветов. Три-четыре деревца корчились и стонали под ветром и ливнем. Казалось, они из последних сил стараются вырваться из этой жуткой обстановки, чтобы броситься в море в надежде на лучшую. Дом был двухэтажным кирпичным сооружением с угловой башней, возвышающейся еще на один этаж. В ее-то окне и горел единственный видимый свет. Что-то в облике этого дома заставило меня вздрогнуть, чему, впрочем, вполне могла способствовать и струйка воды, проникшая мне за шиворот, пока я бежал от пролетки к двери. В ответ на мою записку, извещавшую о намерении его навестить, Демпьер написал: "Не звони, дверь открыта, поднимайся наверх", что я и сделал. На лестнице было почти совсем темно – единственным источником освещения служила одинокая газовая горелка, закрепленная на самом верху. Тем не менее я, искусно избежав несчастного случая, сумел добраться до площадки третьего этажа и через распахнутую дверь вошел в квадратную комнату башни. Демпьер в халате и домашних туфлях поднялся мне навстречу, тепло меня приветствуя, и, если вначале я и подумал было, что ему все же следовало встретить меня внизу у входа, однако взгляда на него хватило, чтобы все мысли о негостеприимстве тут же развеялись.
Он страшно изменился. Ему едва перевалило за сорок, а он уже был совершенно седой, сгорбленный, высохший. На мертвенно-бледном лице, изрезанном глубокими морщинами, горели неестественно большие глаза. Их блеск был почти пугающим.
Предложив мне сесть и пододвинув ко мне коробку с сигарами, он с безусловной искренностью уверил меня в удовольствии, доставленном ему моим визитом. Какое-то время мы поболтали о том о сем, но я никак не мог отделаться от тягостного впечатления, произведенного на меня случившейся с ним переменой. Должно быть, он это почувствовал, так как вдруг произнес, усмехаясь:
– Я вижу, ты несколько разочарован во мне – non sum qualis eram(1).
Я нашелся не сразу, но потом все-таки выдавил:
– Да нет, почему? Твой латинский все тот же.
Он снова усмехнулся.
– Нет, будучи мертвым языком, он подходит мне все больше и больше. Но не спеши! Пожалуйста, немного терпения! Там, куда я отправляюсь, наверное, говорят на еще более совершенном наречии. Ты бы хотел получить весточку на том языке?
Улыбка сбежала с его лица, и, когда он договорил, его взгляд, направленный прямо на меня, выражал такую серьезность, что мне стало не по себе. Однако я не собирался поддаваться его настроению и показывать, как сильно подействовали на меня его слова о близкой смерти.
–
(1) Я не тот, что был (лат.).
– Полагаю, – сказал я, – человеческий язык не скоро еще перестанет служить нашим нуждам; ну а потом в этой службе не будет нужды.
Он ничего не ответил, и я тоже умолк, не зная, как вывести беседу из тупика, в который она зашла. Вдруг, когда буря за окном ненадолго успокоилась, в мертвой тишине, показавшейся мне зловещей после недавнего дикого воя, раздалось негромкое постукивание в стену за спинкой моего стула. В дверь обычно стучат не так. Больше всего это было похоже на условный знак, подтверждение чьего-то присутствия в комнате за стеной. Наверное, почти у каждого из нас есть опыт подобного общения, хотя мы и не слишком любим о нем распространяться. Я взглянул на Демпьера, возможно, немного озадаченно, но он этого явно не заметил. Забыв обо всем на свете, он смотрел на стену с выражением, которое я затрудняюсь определить, хотя память о нем жива во мне и поныне. Положение становилось неловким. Я поднялся, чтобы откланяться. Вдруг он как будто очнулся.
– Прошу тебя, сядь, – пробормотал он, – это просто... там никого нет.
Но постукивание повторилось с той же мягкой настойчивостью, что и прежде.
– Прости, – сказал я, – уже поздно. Я зайду завтра, договорились?
Он улыбнулся несколько машинально, как мне показалось.
– Весьма деликатно с твоей стороны, только все это ни к чему. Поверь, в башне нет других комнат. Там никого нет. По крайней мере...
Не договорив, он встал и распахнул окно, единственное окно в стене, откуда, казалось, и доносилось постукивание.
– Смотри.
Не вполне понимая, как следует поступить, я подошел к окну и выглянул. Хотя дождь опять лил, как из ведра, в свете стоящего неподалеку фонаря было довольно отчетливо видно, что там действительно "никого нет". Никого и ничего, только гладкая стена башни.
Демпьер закрыл окно и, указав мне на стул, уселся на прежнее место.
Само по себе это происшествие не отличалось, наверное, большой таинственностью. Могло быть множество правдоподобных объяснений (хотя ни одно из них до сих пор не приходит мне в голову), и все же я испытал какое-то странное чувство. Не последнюю роль тут сыграла и та горячность, с какой мой друг пытался уверить меня, что ничего не происходит. Эти попытки придавали случившемуся особую значимость. Демпьер действительно доказал, что там никого нет, но ведь в этом-то и заключалась загадка, а никакой разгадки он не предложил. Его молчание начало действовать мне на нервы.
– Друг мой, – сказал я, боюсь, не без издевки в голосе, – я не собираюсь оспаривать твое право держать в доме сколько угодно призраков и водить с ними дружбу; меня это не касается. Но лично мне как человеку сугубо практического склада, исключительно "от мира сего", покойней и уютней без привидений. Я возвращаюсь в гостиницу к тем, кто пока еще во плоти.
Что и говорить, это была не очень-то учтивая тирада, но мой приятель, похоже, нисколько не обиделся.
– Останься, – сказал он, – я ужасно благодарен тебе за твой приход. То, что ты слышал сегодня, я сам слышал до этого дважды. Теперь я знаю, что это не галлюцинация. Это очень важно для меня, ты даже представить себе не можешь, насколько. Возьми сигару и запасись терпением. Я хочу тебе все рассказать.
Дождь явно зарядил надолго; его невнятный монотонный гул лишь изредка прерывался надсадными завываниями ветра и жалобным треском сучьев. Было уже совсем поздно, но жалость и любопытство превратили меня во внимательного слушателя. Я не прервал рассказ моего друга ни единым словом.
– Десять лет назад, – начал он, – я снимал квартиру на первом этаже в одном из домов, что почти не отличаются друг от друга, на Ринкон-Хилл. Когда-то этот район был из лучших в Сан-Франциско, но к тому времени, как я туда перебрался, пришел в упадок и запустение частично из-за своей примитивной архитектуры, не соответствующей утончившимся вкусам наших богатых сограждан, а частично из-за неутомимой деятельности городских властей. Тот ряд домов, в одном из которых я жил, стоял немного в глубине квартала. Перед каждым домом был разбит маленький садик, отделенный от соседнего низким железным заборчиком. От ворот до входной двери тянулась посыпанная гравием дорожка, с математической точностью делившая участок ровно пополам.
Однажды утром, выйдя из дома, я увидел девушку, входившую в соседний сад слева. Стоял теплый июньский день, и на ней было легкое белое платье и широкополая соломенная шляпа, щедро украшенная цветами и лентами по тогдашней моде. Но я недолго любовался изысканной простотой ее наряда, ибо, увидев ее лицо, не мог уже думать ни о чем земном. Не бойся, я не собираюсь осквернять ее удивительную прелесть своими неуклюжими словами. Весь имеющийся у меня опыт лицезрения
Прекрасного, все мои мечты о Красоте были явлены в этой живой картине, созданной Небесным Художником. Я был настолько потрясен, что, не отдавая себе отчета в неуместности подобных действий, обнажил голову – подобно тому, как богобоязненный католик или благочестивый протестант снимает шляпу перед образом Божьей Матери. Девушка не выразила неудовольствия; она просто посмотрела на меня чудесными темными глазами – от ее взгляда у меня перехватило дыхание – и молча проследовала в дом. Я остался стоять как вкопанный, со шляпой в руке, болезненно сознавая всю бестактность своего поведения, однако находясь под таким впечатлением от этого видения несравненной красоты, что чувство раскаяния было, признаюсь, менее острым, чем следовало. Потом я отправился по своим делам, но мое сердце осталось там, у садовой ограды. Не случись этой встречи, я едва ли вернулся бы домой раньше позднего вечера, но тут же к середине дня я снова стоял в своем саду, делая вид, что меня очень занимают какие-то невзрачные цветочки, которых раньше я вообще никогда не замечал. Увы, она так и не появилась.
Ночью я почти не спал, потом настал день, полный томительного ожидания, которому также не суждено было сбыться. Зато на следующий день, когда я бесцельно бродил вокруг своего дома, я опять увидел ее. Разумеется, я не стал повторять своего безрассудства со сниманием шляпы, не рискнул даже слишком надолго задержать на ней взгляд, хотя мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди от волнения. Я невольно вздрогнул и покраснел, когда она обратила на меня свои огромные черные глаза. Она явно меня узнала, при этом в ее взоре не было ни тени дерзости или кокетства.
Не стану утомлять тебя ненужными подробностями; с тех пор я часто встречал девушку, но ни разу не заговорил с ней, ни разу не попытался привлечь к себе ее внимание. Наверное, тебе не просто понять причины такого самоотречения, потребовавшего поистине нечеловеческих усилий. Разумеется, я был влюблен по уши, но себя не переделаешь.
Как ты знаешь, я обладал тем, чем одни глупцы так восхищаются, а другие, еще большие, так гордятся, то есть аристократическим происхождением. Ну а девушка, несмотря на всю ее красоту, изящество и очарование, принадлежала к другому классу. Я узнал ее имя, которое нет смысла теперь называть, и выяснил кое-что о ее семье. Она была сиротой, бедной родственницей чудовищно толстой старухи – хозяйки меблированных комнат, в одной из которых и жила. Я располагал весьма скромным доходом и не имел предрасположения к женитьбе; тут, по-видимому, требуется особый дар. Если бы я породнился с этим семейством, мне невольно пришлось бы принять их образ жизни, расстаться с моими книгами и научными занятиями, а в социальном плане перейти в разряд простолюдинов. Легко, конечно, осуждать подобные соображения, и я сам себе не адвокат. Наверное, я заслуживаю обвинительного приговора, но по справедливости все мои предки тоже должны были бы предстать перед судом. Разве не является смягчающим обстоятельством необоримая сила наследственности? Кровь моих предков яростно противилась такому мезальянсу. Мои вкусы, привычки, инстинкт, наконец, остатки здравомыслия – все восставало против этого союза. Кроме того, будучи неисправимо сентиментален, я находил особую прелесть именно в этих неличных, исключительно платонических отношениях. Знакомство могло бы их опошлить, а брак разрушил бы наверняка. Такой женщины, рассуждал я, какой кажется это удивительное создание, просто не может быть. Так зачем же мне самому развеивать свои грезы?
Практические выгоды из всех этих соображений были очевидны. Честь, гордость, благоразумие, верность усвоенным идеалам – все требовало моего незамедлительного отъезда, но на это у меня не хватало воли. Самое большее, на что я был способен, – это положить конец нашим как бы случайным встречам. Я даже из дома стал выходить не раньше, чем – как мне было известно – она уходила на уроки музыки, а возвращался ночью. Но ничего не помогало, все равно я был, как в трансе; меня преследовали восхитительные видения, вся моя интеллектуальная жизнь была подчинена однойединственной мечте. О, друг мой, едва ли тебе, человеку, поступки которого напрямую соотносятся со здравым смыслом, ведом тот рай безумцев, в котором я тогда жил!
Однажды по дьявольскому наущению я впал в непростительную словоохотливость и словно бы невзначай выведал у своей сплетницы-хозяйки, что спальня девушки примыкает к моей. Нас разделяла лишь противопожарная стена. Поддавшись бестактному побуждению, я тихонько по ней постучал. Естественно, никто не отозвался. Я был как в бреду, и повторил эту непристойную выходку, но опять без всякого результата. Лишь тогда я нашел в себе силы остановиться.
Прошло около часа. Я сидел, погруженный в свои инфернальные занятия, как вдруг услышал, а может быть, мне это только показалось, ответный стук. С бешено колотящимся сердцем, сбросив книги на пол, я подскочил к стене и негромко с равными промежутками трижды постучал по ней. На этот раз ответ был явным, не оставляющим никаких сомнений: раз, два, три – точное повторение моего сигнала. Вот все, чего я добился, но и этого было более чем достаточно.
На следующий вечер и много раз с тех пор это безумие повторялось, причем "последнее слово" всегда было за мной. Я был на верху блаженства, но из дурацкого упрямства упорно продолжал избегать встреч. В конце концов как и следовало ожидать – ответы прекратились. Наверное, думал я, ее возмущает моя нерешительность, и вот я решил увидеться с ней, представиться и – что? Что дальше? Я не знал и до сих пор не знаю, что могло бы из этого выйти. Одно мне известно: дни напролет я искал встречи с ней, но ее было не видно и не слышно. Я бродил по тем улицам, где когда-то видел ее, – увы, она не появлялась. Из моего окна был виден ее сад – она не входила и не выходила. Меня охватило отчаянье. Я решил, что она уехала. Спрашивать хозяйку мне не хотелось: однажды она позволила себе высказаться о девушке с меньшим благоговением, чем та, по моему мнению, заслуживала, и с тех пор я испытывал к ней непреодолимое отвращение.
И вот настала роковая ночь. Безумно измученный своими переживаниями и тоской, я лег рано и вскоре уснул, вернее, задремал, ибо нормальным сон в моем состоянии был уже невозможен. Среди ночи какая-то дьявольская сила, вознамерившаяся навсегда разрушить мой душевный покой, вынудила меня открыть глаза, сесть и прислушаться. К чему? Я и сам не знал. Вдруг мне показалось, что я различил слабый стук, как бы отзвук знакомого сигнала. Вскоре он повторился: раз, два, три, такой же тихий, как прежде, но столь же несомненный. Ошибиться я не мог – все мои чувства были напряжены до предела. Я уже собрался ответить, но тут враг рода человеческого остановил меня, нашептывая: отомсти! Она долго и жестоко не замечала тебя, теперь твоя очередь. Чудовищная подлость! Страшное безрассудство, да простит мне его Господь! Остаток ночи я провел без сна, оправдывая свое бессердечие разными бесстыдными отговорками и... прислушиваясь.
На следующее утро, выходя из дома, я встретил свою квартирную хозяйку.
– Доброе утро, мистер Демпьер, – затараторила она. – Слышали новость?
Я ответил, что ничего не слышал, всем своим видом давая понять, что никакие новости меня не интересуют. Но она не обратила на мой вид ни малейшего внимания.
– Да вот, больная-то девушка из соседнего дома... Как? Вы не знали? Да ведь она уж давно болела. А теперь... Я прыгнул на нее, как тигр.
– А теперь, – вскричал я, – что теперь?
– Померла.
Но это еще не все. Как я узнал позднее, в ту ночь больная, очнувшись после недели беспамятства, попросила – это были ее последние слова, – чтобы ее кровать передвинули к противоположной стене. Те, кто находился тогда рядом с нею, подумали, что эта просьба – следствие горячки, однако подчинились. И вот уже покидающая наш мир душа попыталась восстановить прерванное общение, снова связать золотой нитью искреннего чувства свою чистоту и целомудрие с подлостью и безразличием человека, признающего лишь один закон – Закон Себялюбия.
Как я мог искупить свою вину перед ней? Где те мессы, которые можно было бы отслужить за упокой бездомных душ, носимых слепыми ветрами, особенно в такие непогожие ночи, как нынешняя, – тех бесплотных духов, что стучатся к нам из грозовой тьмы, напоминая о прошлом и прорицая грядущее?