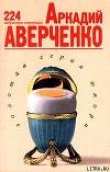Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
– Добрый вечер, добрый вечер! Как раз вовремя – еще минута, и вы бы меня не застали. Я очень спешу, пройдемтесь немного вместе.
– Спасибо, – ответил старик; в свете, падающем из отворенной двери, было видно, что на его бледном, худом, но довольно благородном лице выразилось некоторое разочарование. – Скажите, а что попечительский совет... что моя просьба?
– Попечительский совет, – произнес мистер Тилбоди, закрывая двери в дом и в свою душу, так что сразу померк свет рождественского благоволения, попечительский совет склонился к мнению, что вашу просьбу надлежит отклонить.
Есть чувства, для рождественских дней никак не приличествующие, но ирония, подобно смерти, не разбирает приличий.
– Боже милосердный! – воззвал старик слабым, надтреснутым и совсем невыразительным голосом, так что из двоих, слышавших его, по крайней мере один счел этот возглас просто неуместным, ну, а Другой – но тут не нам, простым смертным, судить.
– Да, – продолжал мистер Тилбоди, приноравливая свой шаг к походке спутника, который машинально старался идти по собственному следу, но то и дело оступался, – совет решил, что при сложившихся обстоятельствах – весьма и весьма необычных, вы сами это понимаете, – принять вас было бы нецелесообразно. Мой долг как директора приюта для престарелых и секретаря ex officio(1) высокочтимого совета (от перечисления столь внушительных титулов большое здание за пеленой крутящегося снега словно бы уменьшилось в размерах), так вот, мой долг указать вам, что, как выразился председатель совета дьякон Байрам, ваше присутствие в доме для престарелых в данных обстоятельствах привело бы к большой неловкости. Я счел своим долгом сообщить высокочтимому совету все, что вы рассказали мне накануне о ваших затруднительных обстоятельствах, о пошатнувшемся здоровье, о трудностях, которые вам, по воле Провидения, пришлось преодолеть, чтобы изложить вашу просьбу лично, что, разумеется, можно только одобрить, но после тщательнейшего, я бы даже сказал благоговейнотрепетного ее рассмотрения в духе милосердия, к коему побуждает нас наступающий великий праздник Рождества, совет пришел к выводу, что было бы неправильно нанести урон богоугодному заведению, вверенному волей Провидения нашему попечительству.
–
(1) По должности, по положению (лат.).
Они вышли из ворот; фонарь слабо светил сквозь завесу снежных хлопьев. Следы старика замело, и он замедлил шаг, словно не зная, куда идти. Мистер Тилбоди уже значительно его обогнал, однако остановился и обернулся, явно желая исчерпать предмет разговора.
– Так что в данных обстоятельствах, – продолжал он свою тираду, решение совета...
Но старик был уже недоступен его велеречивому пустословию; он перешел через улицу и, петляя, побрел по пустырю куда глаза глядят, а поскольку идти ему было решительно некуда, в таком его поведении даже была своя логика.
Вот как случилось, что утром следующего дня, когда грейвилльские колокола заливались особенно весело и звонко в честь великого праздника Рождества, крепенький мальчуган лет восьми, сын дьякона Байрама, прокладывая себе в глубоком снегу путь к церкви, споткнулся об окоченевший труп Амазы Аберсаша, благотворителя.
ЧАСЫ ДЖОНА БАРТАЙНА
История, рассказанная врачом
– Точное время? Господи, да на что оно вам сдалось? Сейчас примерно... Да бросьте, экая важность. Ясно, что время позднее – чего вам еще? Впрочем, если вам надо поставить часы, возьмите и посмотрите сами.
С этими словами он снял свои тяжеленные старинные часы с цепочки и подал мне, после чего повернулся, прошел через всю комнату к книжным полкам и вперил взгляд в корешки. Его мрачная нервозность удивила меня – я не находил для нее причины. Поставив по его часам свои, я подошел к нему и поблагодарил.
Когда он брал у меня часы и вновь прикреплял к цепочке, руки у него ходуном ходили. Гордясь своим тактом и находчивостью, я небрежной походкой направился к буфету, плеснул себе бренди и разбавил водой; затем, извинившись за невнимание к гостю, я предложил ему последовать моему примеру и вернулся в свое кресло у камина, предоставив ему обслуживать себя самостоятельно, как было у нас с ним принято. Наполнив свой стакан, он уселся рядом со мной у огня – спокойный, как ни в чем не бывало.
Этот странный случай произошел у меня дома, где мы с Джоном Бартайном коротали вечер. Мы поужинали вместе в клубе, после чего наняли экипаж и поехали ко мне – словом, все шло своим чередом; поэтому я никак не мог взять в толк, чего ради Джон нарушил обычный заведенный порядок вещей и устроил представление, демонстрируя какие-то непонятные переживания. Чем дольше я раздумывал об этом, вполуха слушая его блестящие рассуждения, тем сильнее разбирало меня любопытство; и, разумеется, мне не стоило особого труда убедить себя в том, что любопытство мое есть не что иное, как дружеская забота. Любопытство очень часто надевает эту личину, чтобы не возбуждать раздражения. Наконец, я бесцеремонно прервал один из самых великолепных пассажей его пропадавшего втуне монолога.
– Джон Бартайн, – сказал я, – простите меня, если я несправедлив, но я не знаю ничего, что давало бы вам право безумствовать, услышав невинный вопрос о точном времени. Я не могу одобрить поведение человека, который выказывает необъяснимое нежелание взглянуть на циферблат собственных часов и предается в моем присутствии тяжким переживаниям, смысл которых от меня скрыт и до которых мне нет никакого дела.
Бартайн не сразу ответил на это шутливое замечание – какое-то время он сидел, мрачно глядя в камин. Я испугался, что обидел его, и уже готов был извиниться и взять свои слова обратно, как вдруг он взглянул мне прямо в глаза и произнес:
– Друг мой, непринужденность вашего тона отнюдь не скрашивает вопиющей наглости этого выпада; но, к счастью, я все равно уже решил рассказать вам то, что вы жаждете узнать, и, хоть вы и показали, что недостойны моей откровенности, намерения моего это не изменит. Соблаговолите выслушать меня, и все ваши недоумения рассеются.
Эти часы до меня принадлежали трем поколениям нашей семьи. Первым их хозяином, для которого их изготовили, был мой прадед Бромвелл Олкотт Бартайн – богатый виргинский плантатор времен революции и убежденнейший сторонник старого режима из всех, что пролеживали ночи без сна, размышляя, как бы еще насолить мистеру Вашингтону и споспешествовать доброму королю Георгу. Как-то раз этот достойный джентльмен имел неосторожность оказать британской короне неоценимую услугу, которую те, кто ощутил ее неблагоприятные последствия, сочли нарушением закона. В чем она состояла – не так уж важно, но одним из ее побочных следствий стал в одну прекрасную ночь арест моего достославного предка в его собственном доме отрядом мятежников Вашингтона.
Позволив ему попрощаться с рыдающим семейством, его увели во тьму, которая поглотила его навеки. Ни малейшего следа его с тех пор не было обнаружено. После войны ни долгие розыски, ни обещания крупной награды не помогли найти хоть когонибудь из арестовавшего его отряда или пролить хоть какой-нибудь свет на его судьбу. Пропал – и концы в воду.
Что-то в рассказе Бартайна – не в словах, а в тоне – побудило меня спросить:
– А как вы сами считаете – справедливо с ним поступили или нет?
– Я считаю, – стукнул он кулаком по столу, словно давая отпор трактирному отребью, с которым он сел играть в кости, – я считаю, что это было обыкновенное мерзкое убийство, каких много на счету изменника Вашингтона и подлого сброда, который он поставил под ружье!
С минуту мы помолчали. Подождав, пока гнев Бартайна уляжется, я спросил:
– Этим все кончилось?
– Почти. Через несколько недель после ареста прадеда на крыльце дома Бартайнов нашли его часы. Они были вложены в конверт, на котором стояло имя Руперта Бартайна – это был его единственный сын и мой дед. Теперь часы ношу я.
Бартайн умолк. Его обычно беспокойные черные глаза сейчас неподвижно смотрели в камин и отливали красным, отражая тлеющие угли. Казалось, он забыл о моем существовании. Внезапный шорох древесных ветвей за окном и почти сразу застучавший по стеклу дождь вернули его к действительности. Порыв ветра возвестил начало нешуточного ненастья; через несколько секунд стало слышно, как по тротуару хлещут струи воды. Сам не знаю, почему я счел это обстоятельство достойным упоминания; и все же тут есть некий смысл и некая значительность, не поддающиеся для меня определению. Во всяком случае, буря сделала наш разговор еще более серьезным, почти торжественным. Бартайн продолжал:
– К этим часам я питаю особое чувство, род привязанности. Мне приятно иметь их рядом, хотя я редко ношу их с собой – отчасти из-за тяжести, отчасти по другой причине, о которой я сейчас расскажу. Причина такова: каждый вечер, когда часы находятся при мне, я испытываю безотчетное желание открыть их и посмотреть на циферблат, даже если мне вовсе не нужно справляться о времени. Но если я этому желанию поддаюсь, то в тот самый миг, когда мой взгляд падает на стрелки, меня наполняет необъяснимый ужас предчувствие неминуемой беды. И ощущение это делается тем более невыносимым, чем ближе одиннадцать часов – одиннадцать по этим часам, независимо от того, сколько времени на самом деле. Когда стрелки минуют одиннадцать, навязчивая тяга взглянуть на часы пропадает полностью – я становлюсь к ним совершенно равнодушен. И я могу теперь смотреть на них, сколько мне вздумается, испытывая не больше волнений, чем испытываете вы, глядя на свои собственные часы. Вполне естественно, что я приучил себя ни в коем случае не смотреть на циферблат вечером до одиннадцати – ничто не может заставить меня это сделать. Ваша сегодняшняя настойчивость причинила мне боль. Представьте себе курильщика опиума, которого подталкивают еще раз войти в свой личный, особый ад.
Такова моя история, которую я рассказал вам ради вашей дурацкой науки; и если еще раз вечером вы увидите, что эти чертовы часы у меня с собой, и у вас хватит ума спросить время, я буду вынужден подвергнуть вас всем невыгодам, которые испытывает человек с расквашенным носом.
Шутка его меня не очень-то позабавила. Я видел, что, рассказывая о своих страхах, он вновь разбередил себе душу. Улыбка, с которой он закончил рассказ, вышла прямо страдальческой, и глаза его были куда беспокойнее обычного – он шарил ими по всей комнате, и порой в них мелькало дикое, безумное выражение. Что бы там ни было на самом деле, я пришел к мысли, что мой друг страдает весьма интересной и редкой формой мономании. Сохраняя заботливое сочувствие, которое я по-дружески к нему питал, я решил взглянуть на него еще и как на пациента, дающего богатый материал для изучения. А почему бы и нет? Разве он сам не сказал, что описывает свою манию в интересах науки? Бедняга помогал науке даже больше, чем думал: не только его рассказ, но и он сам мог послужить источником ценных сведений. Разумеется, я собирался сделать все, чтобы вылечить его, но для начала мне хотелось поставить маленький психологический опыт; да и сам этот опыт обещал стать первым шагом к его исцелению.
– Я весьма тронут вашей дружеской откровенностью, Бартайн, – сказал я сердечно, – и горд вашим доверием. Конечно, все это чрезвычайно странна. Нельзя ли еще раз взглянуть на часы?
Он достал их вместе с цепочкой из жилетного кармана и, не говоря ни слова, протянул мне. Массивный крепкий корпус с необычной гравировкой был из чистого золота. Внимательно осмотрев циферблат и убедившись, что уже почти двенадцать, я открыл заднюю дверцу и с интересом обнаружил портрет-миниатюру на слоновой кости, написанный в тонкой и изысканной манере, свойственной скорее восемнадцатому столетию.
– Ну и ну! – воскликнул я, восторгаясь прекрасной работой. – Как это вы ухитрились найти такого мастера? Я думал, что искусство миниатюры на слоновой кости давно утрачено.
– Это не я, – сказал он с мрачной улыбкой. – Это мой достославный прадед – покойный Бромвелл Олкотт Бартайн, – эсквайр, родом из Виргинии. Тогда он был еще молод – пожалуй, примерно моего возраста. Говорят, я на него похож. Как вы полагаете?
– Похож? Мягко сказано! Если не считать костюма, который, как я думал, художник изобразил ради верности жанру – так сказать, ради стиля, – и отсутствия усов, это всецело ваш портрет, как по общему выражению лица, так и по каждой отдельной черточке.
Разговор выдохся. Бартайн взял со стола книгу и принялся читать. С улицы доносился неумолчный шум дождя. Время от времени раздавались торопливые шаги прохожих; один раз мне послышалась более тяжелая, размеренная поступь – кто-то остановился у моей двери, – видимо, полицейский решил переждать дождь под навесом. Ветви деревьев стучали по оконным стеклам, словно умоляли впустить их в дом. Хотя с тех пор прошли годы и годы более серьезной и благоразумной жизни, я помню этот вечер очень отчетливо.
Незаметным движением я взял старинный ключик, висевший на цепочке, и быстро перевел стрелки ровно на час назад; затем, закрыв заднюю дверцу, я протянул часы Бартайну, который положил их в карман.
– Помнится, вы утверждали, – сказал я с напускной беспечностью, – что после одиннадцати спокойно можете смотреть на циферблат. Так как теперь уже почти двенадцать, – тут я сверился со своими часами, – может быть, вы не откажетесь мне это продемонстрировать.
Он добродушно улыбнулся, вновь вынул часы, открыл их – и вскочил на ноги с воплем, который, несмотря на все мои мольбы, Господь до сих пор не дал мне забыть. Его глаза, чернота которых делала еще более разительной бледность его лица, были прикованы к циферблату часов, которые он судорожно сжимал обеими руками. Некоторое время он оставался в таком положении, не издавая ни звука, затем вскричал голосом, искаженным до неузнаваемости:
– Проклятье! Без двух минут одиннадцать!
Я был отчасти подготовлен к подобному всплеску чувств и, не вставая с места, спокойно сказал:
– Тысяча извинений. Должно быть, я обознался, когда ставил по вашим часам свои.
Он с резким щелчком захлопнул крышку и положил часы в карман. Взглянув на меня, он попытался улыбнуться, но нижняя губа у него задрожала, и он не в силах был закрыть рот. Руки у него тоже тряслись, и, стиснув кулаки, он засунул их в карманы пиджака. У меня на глазах отважный дух пытался усмирить трусливую плоть. Но усилие оказалось непомерным; он зашатался, словно у него закружилась голова, и прежде, чем я успел встать и прийти ему на помощь, колени у него подогнулись, и он упал, неуклюже уткнувшись лицом в пол. Я подскочил, чтобы помочь ему подняться, – но Джон Бартайн поднимется не раньше, чем поднимемся из могил мы все.
Вскрытие не обнаружило ровно ничего; все органы тела были в полном порядке. Но когда труп готовили к погребению, вокруг шеи заметили едва различимое темное кольцо; по крайней мере, так говорили несколько человек, которые были на похоронах, но лично я не могу ни подтвердить этого, ни опровергнуть.
Точно так же не могу я сказать, где кончается действие законов наследственности. Отнюдь не доказано, что в области духа испытанное человеком чувство не может оказаться более долговечным, чем сердце, в котором оно зародилось, и искать пристанища в родственном сердце, бьющемся много лет спустя. И если бы меня спросили, что я думаю о судьбе Бромвелла Олкотта Бартайна, я осмелился бы выдвинуть догадку, что его повесили в одиннадцать часов вечера, а перед тем дали несколько часов, чтобы приготовиться к переходу в мир иной.
Что же касается Джона Бартайна, моего друга, на пять минут моего пациента и да простит мне Бог – навеки моей жертвы то о нем я не могу сказать более ничего. Его похоронили, и часы легли в могилу вместе с ним об этом я позаботился. Да пребудет душа его в Раю вместе с душой его виргинского предка если, конечно, это две души, а не одна.
СВИДЕТЕЛЬ ПОВЕШЕНЬЯ
Соседи старика по имени Дэниел Бейкер, жившего поблизости от Лебанона, штат Айова, подозревали его в убийстве торговца-разносчика, который ночевал в его доме. Это произошло в 1853 году, когда торговля вразнос была на Среднем Западе более обычным делом, чем ныне, и притом делом довольно опасным. Разносчик со своим мешком путешествовал главным образом по пустынным дорогам и вынужден был искать ночлега у сельских жителей. А хозяева попадались всякие, иные из корысти не брезговали даже убийством. Не раз бывало, что путь разносчика с похудевшим мешком и потолстевшим кошельком прослеживался до одинокого жилища какого-нибудь бобыля, и на этом следы его терялись. Так было и в случае со "стариком Бейкером", как его все называли (подобное прозвище на Западе всегда имеет уничижительный оттенок; неодобрение к самому человеку усиливается презрительным отношением к его годам). Разносчик вошел в его дом, а выйти не вышел – вот и все, что было известно.
Семью годами позже преподобный мистер Каммингс, хорошо известный в тех краях баптистский пастор, проезжал ночью мимо фермы Бейкера. Было не так уж темно; сквозь нависший над землей легкий туман пробивался лунный свет. Мистер Каммингс, человек весьма жизнерадостный, насвистывал какой-то мотив, лишь изредка прерываясь для того, чтобы подбодрить лошадку ласковым словом. Подъехав к мостику через сухой овраг, он вдруг увидел на нем фигуру человека – она четко вырисовывалась на сером фоне туманного леса. На спине незнакомец нес мешок с поклажей, в руке держал большую палку – он явно был странствующим торговцем. В его позе проглядывала некая отрешенность, как у лунатика. Поравнявшись с ним, мистер Каммингс придержал лошадь, дружелюбно приветствовал его и предложил подвезти – мол, милости прошу, если вам со мной по дороге. Незнакомец поднял голову, взглянул ему прямо в лицо, но не проронил ни слова и не двинулся с места. С добродушной настойчивостью пастор повторил приглашение. Тут коробейник выбросил вперед правую руку и указал куда-то вниз, за край моста, на котором стоял. Следуя направлению руки, мистер Каммингс опустил взгляд в овраг и, не увидев там ничего особенного, вновь посмотрел туда, где стоял незнакомец. Его уже не было. Лошадь, которая все это время вела себя беспокойно, в ужасе всхрапнула и понесла. Прежде чем пастор сумел с ней совладать, они успели проехать шагов сто и были уже на вершине холма. Он оглянулся – прежняя фигура опять стояла на том же месте и в том же положении. Тут только души его коснулся страх перед сверхъестественным, и он поехал домой со всей быстротой, на какую была способна его напуганная лошадь.
Он рассказал домашним о своем приключении и рано утром в сопровождении двоих соседей – Джона Уайта Корвелла и Эбнера Рейзера – вернулся к оврагу. Там он увидел труп старика Бейкера, висевший на веревке, привязанной к одной из балок моста в точности под тем местом, где ночью стояла странная фигура. Настил моста был покрыт толстым слоем пыли, слегка увлажненной ночной росой, но никаких следов, кроме как от повозки и лошади мистера Каммингса, на нем видно не было.
Когда они, стоя на склоне оврага, снимали тело, рыхлая земля у них под ногами начала осыпаться, и глазам их открылись человеческие останки, которые благодаря воздействию талых вод лежали уже почти на поверхности. В них опознали труп пропавшего без вести торговца. В ходе двойного расследования коллегия присяжных при коронере постановила, что Дэниел Бейкер покончил с собой вследствие внезапного помешательства, а Сэмюел Морриц был убит лицом или лицами, суду не известными.
БЕСПРОВОЛОЧНАЯ СВЯЗЬ
Летом 1896 года Уильям Холт, богатый фабрикант из Чикаго, временно проживал в центре штата Нью-Йорк в маленьком городке, название которого пишущий эти строки не запомнил. Годом раньше Холт разъехался с женой, с которой у него вышли нелады. Было ли это просто несходство характеров или нечто более серьезное, знает сейчас, вероятно, один Холт, а он не страдает пороком излишней откровенности. Но то, о чем пойдет речь дальше, он рассказал по крайней мере одному человеку, не взяв с него обещания держать язык за зубами. Сейчас Холт живет в Европе.
Однажды вечером он вышел из дома своего брата, где гостил, и отправился на прогулку. Можно предположить – хотя трудно сказать, существенно ли это для понимания случившегося, – что он был погружен в тягостные размышления о своих домашних неурядицах и о том плачевном положении, в какое он из-за них попал. Чем бы ни были заняты его мысли, он так глубоко задумался, что потерял представление о времени, о том, где он находится и куда идет; он только чувствовал, что городок остался далеко позади и что дорога, совсем не похожая на ту, по которой он шел вначале, завела его в совершенно безлюдные места. Словом, он заблудился.
Поняв свою оплошность, он улыбнулся – ведь центральную часть штата НьюЙорк не назовешь краем головорезов, да и заблудиться всерьез здесь невозможно. Он повернул и двинулся вспять той же дорогой. Спустя некоторое время он обнаружил, что ему стало легче различать детали ландшафта становилось светлее. Повсюду разливалось мягкое красноватое свечение, и на дороге впереди себя он увидел собственную тень. "Луна восходит", – решил он. Но потом вспомнил, что как раз настало новолуние и что если своенравное светило уже вошло в один из периодов видимости, оно давно должно было спрятаться за горизонт. Он остановился и обернулся, пытаясь найти источник быстро усиливавшегося свечения. Но тень переместилась и, как прежде, распласталась на дороге у него перед глазами. Свет снова шел из-за спины. Это было очень странно – он недоумевал. Он поворачивался туда и сюда, но тень все время двигалась, оставаясь впереди, а свет лился сзади – "ровный, зловещий багрянец".
Холт был ошеломлен – "ошарашен", как он сам выразился, – но все же, видно, сохранил некое исследовательское любопытство. Он вынул часы, желая проверить, будет ли виден циферблат, и тем самым оценить силу свечения, природу и источник которого он не мог определить. Цифры были хорошо различимы и стрелки показывали одиннадцать часов двадцать пять минут. В тот же миг таинственный свет внезапно усилился до неимоверного, ослепительного сияния, затопившего все небо и погасившего на нем звезды; тень Холта выросла до чудовищных размеров и протянулась чуть не до самого горизонта. И в этом потустороннем освещении он увидел впереди и выше себя фигуру жены в ночной сорочке и их ребенка, которого она прижимала к груди. Она смотрела Холту прямо в глаза, и, рассказывая об этом, он не мог подобрать слов, чтобы описать выражение ее лица, – сказал только, что оно было "нездешнее".
Вспышка была очень краткой и сменилась кромешной тьмой, среди которой белела все та же неподвижная фигура; постепенно она стала блекнуть и, наконец, пропала совсем, подобно светлому пятну, что стоит некоторое время перед глазами, когда их закроешь. Видение имело еще одну особенность, которую он поначалу не принял во внимание, но потом вспомнил: показалась только верхняя часть женской фигуры, выше талии.
Наступившая тьма была не абсолютной, а относительной, поскольку очертания местности постепенно стали вновь видны.
На рассвете Холт, наконец, добрался до городка, причем со стороны, противоположной той, откуда выходил. Брат с трудом его узнал. Глаза его блуждали, лицо осунулось и было бескровно. Путаясь и запинаясь, он поведал брату о ночном происшествии.
– Ляг, отдохни пока, бедный ты мой, – сказал тот. – Подождем. Скоро все выяснится.
Предчувствие его оправдалось – через час пришла телеграмма. Дом Холта в пригороде Чикаго был уничтожен пожаром. Огонь отрезал жене выход, и ее видели в окне верхнего этажа с ребенком на руках. Она стояла неподвижно и, казалось, пребывала в забытьи. Уже приехала пожарная команда с лестницей, но тут пол под ними провалился и они сгинули в пламени.
Это случилось в одиннадцать часов двадцать пять минут по нью-йоркскому времени.
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
Летом 1874 года я заехал в Ливерпуль по делам нью-йоркского торгового дома "Бронсон и Джарретт". Уильям Джарретт– это я. Моим компаньоном был Зенас Бронсон. Он умер, ибо не смог пережить обрушившуюся на него нищету, когда в прошлом году фирма обанкротилась.
Покончив с делами и чувствуя усталость и опустошенность, я решил, что продолжительное морское путешествие будет для меня тем самым сочетанием приятного с полезным, поэтому вместо того, чтобы отплыть на одном из многочисленных прекрасных пароходов, я взял билет до Нью-Йорка на парусник "Утренняя заря", на котором плыли и закупленные мною товары. "Утренняя заря" была английским судном с минимумом удобств для пассажиров, коими были только я сам и юная девица со служанкойнегритянкой средних лет. Мне показалось странным, что молодая англичанка нуждается в подобном присмотре, но позже она рассказала, что негритянка досталась ее семье в наследство от одной супружеской пары из Южной Каролины. Супруги умерли в один день в доме отца девушки в Девоншире – обстоятельство само по себе достаточно примечательное, чтобы запечатлеться в моей памяти, даже если бы в разговоре и не выяснилось, что мужа звали Уильям Джарретт – так же, как меня. Я знал, что кто-то из моих родственников осел в Южной Каролине, но ничего не знал об их судьбе.
"Утренняя заря" вышла из залива Мерси пятнадцатого июня, и несколько недель погода нам благоприятствовала – на небе не было ни облачка. Капитан прекрасный моряк, но не более того, нечасто удостаивал нас своим обществом, за исключением завтрака, обеда и ужина. С девушкой мы стали добрыми друзьями. Ее звали Джанет Харфорд. По правде говоря, мы почти не расставались, и я часто пытался проанализировать то чувство, которое она мне внушала – нежное, скрытое, но властное притяжение, постоянно побуждавшее меня искать ее общества; но попытки оставались тщетны. Одно мне было понятно: это не любовь. Убедившись в этом и видя, что и она относится ко мне спокойно, как-то, когда мы сидели на палубе (кажется, это случилось третьего июля), я рискнул как бы в шутку попросить ее разрешить мое психологическое недоуменье. Я чувствовал, что она со мной вполне искренна.
На мгновенье она смолкла и отвернулась. Я испугался, что был груб и неделикатен, но она снова посмотрела мне прямо в глаза, и взгляд ее был серьезен. И тут меня пронзило самое удивительное и странное ощущение. Мне показалось, будто это не ее взгляд обращен на меня, а как бы через ее глаза другие люди – мужчины, женщины, дети, чьи лица словно бы мне чем-то знакомы, – теснятся, борются за право взглянуть на меня. Парусник, океан, небо – все исчезло. Предо мною было лишь это странное фантастическое видение. Затем наступила темнота, постепенно, как бывает, когда привыкнешь, из глубин ее снова стали проступать знакомые очертания палубы, мачты и снастей. Мисс Харфорд сидела, откинувшись, с закрытыми глазами, повидимому, задремав. Книга, которую она читала, лежала раскрытой у нее на коленях. Не знаю, что подтолкнуло меня – но я взглянул на страницу: это оказалась удивительная и любопытная книга – "Размышления" Деннекера. Указательный палец девушки задержался на фразе:
"...Иным дано на время покидать свое тело и, подобно тому, как при пересечении двух потоков более мощный увлекает слабейший, так же и при встрече двух родственных душ они сливаются воедино, в то время как тела, сами не ведая того, продолжают каждое свой назначенный путь".
Мисс Харфорд вздрогнула и встала; солнце опустилось за горизонт, но еще не похолодало. Ни ветерка в воздухе, ни тучки в небе, звезды еще не зажглись. С палубы послышались торопливые шаги. Вызванный из каюты капитан присоединился к старшему помощнику, изучавшему показания барометра. "Боже милостивый!" – услыхал я его восклицание.
Через час водоворот на месте затонувшего судна вырвал у меня из рук Джанет Харфорд, и я, ослепший от темноты и морских брызг, потерял сознание, оплетенный снастями плавающей мачты, к которой сам себя привязал.
Очнулся я при свете лампы. Я лежал на койке в каюте среди знакомого окружения. На диване напротив сидел полураздетый человек и читал книгу. Я узнал своего друга Гордона Дойла, с которым в день отплытия встретился в Ливерпуле, – он собирался сесть на пароход "Прага" и еще уговаривал меня составить ему компанию.
Я окликнул его. В ответ он произнес: "Да", – и, не поднимая глаз, перевернул страницу.
– Дойл, – повторил я, – ее спасли?
Наконец он соблаговолил взглянуть на меня и усмехнулся, как будто я сказал чтото смешное. Очевидно, он думал, что я еще не совсем пришел в себя.
– Ее? О ком это ты?
– О Джанет Харфорд.
Его лицо выразило изумление. Он пристально смотрел на меня, не произнося ни слова.
– Но ты ведь мне скажешь, – проговорил я, – скажешь потом.
Чуть погодя я спросил:
– А что это за судно?
Дойл вздернул брови:
– Пароход "Прага", следующий рейсом Ливерпуль – Нью-Йорк и уже три недели болтающийся со сломанным валом, пассажиры – мистер Гордон Дойл и некий сумасшедший по имени Уильям Джарретт. Эти два выдающихся путешественника вместе погрузились на пароход, но теперь им грозит расставание в связи с твердым намерением первого выбросить второго за борт.
Я выпрямился:
– Не хочешь ли ты сказать, что я уже три недели плыву на этом пароходе?
– Да вроде того. Если сегодня третье июля.
– Я что, был болен?
– Здоровее некуда. И к тому же весьма пунктуален в приеме пищи.
– Господи! Дойл, за этим кроется какая-то тайна. Ради всего святого, будь посерьезней. Разве "Утренняя заря" не потерпела крушения?
Дойл изменился в лице, подошел и взял меня за руку.
– Что ты знаешь о Джанет Харфорд? – преувеличенно спокойно спросил он.
– Сначала скажи, что ты знаешь о ней!
Дойл некоторое время пристально разглядывал меня, будто раздумывал, что делать дальше, а потом, снова усевшись на диван, сказал:
– В конце концов, почему бы и нет? Я обручен с Джанет Харфорд. Мы познакомились в прошлом году в Лондоне. Семья ее – одна из самых богатых в Девоншире – была против, и мы сбежали, вернее, сейчас бежим, ибо в тот день, когда мы с тобой, прогулявшись по причалу, садились на этот пароход, она прошла мимо нас со своей черной служанкой и села на "Утреннюю зарю". Она не согласилась плыть со мной на одном судне. Мы решили, что будет лучше, если она поплывет на паруснике, где мало лишних глаз и можно не опасаться, что ее выследят. Теперь боюсь, как бы эта треклятая поломка не задержала нас настолько, что "Утренняя заря" придет в Нью-Йорк первой, ведь бедная девушка не знает даже, к кому там обратиться.
Я лежал на койке, не шевелясь и почти не дыша. Но, видимо, Дойлу не был неприятен этот разговор, и после паузы он продолжил:
– Кстати, она только приемная дочь Харфордов. Мать ее умерла у них в доме, после того как ее сбросила лошадь на охоте. Отец, сойдя с ума от горя, в тот же день покончил с собой. На ребенка никто не предъявил прав, и некоторое время спустя Харфорды удочерили ее. Девушка выросла в уверенности, что она их родная дочь.