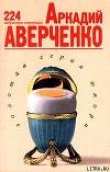Текст книги "Избранные произведения"
Автор книги: Амброз Бирс
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Короче говоря, считалось, что Сайлас Димер был единственной незыблемой твердыней во всем Хиллбруке, и его перемещение в пространстве могло бы вызвать серьезнейшие потрясения в обществе или даже катаклизмы.
Миссис Димер со взрослыми дочерьми занимали этаж над лавкой. Но все знали, что Сайлас нигде, кроме как на кушетке за прилавком, не спит. Здесь же как-то вечером по чистой случайности и нашли его уже при смерти. К утру он отдал Богу душу – как раз перед тем, как наступило время снимать ставни. Умер он в сознании, хотя говорить уже не мог, и близкие считали, что если бы с кончиной дело, на беду, затянулось и открытие лавки пришлось отложить, он бы очень расстроился.
Таков был Сайлас Димер. И столь неизменными были вся его жизнь и привычки, что местный остряк (он в свое время даже в колледж ходил) растрогался и подарил ему прозвище Столп, а в газете, вышедшей после смерти старика, объяснил безо всякой насмешки, что Сайлас, мол, на денек взял отпуск. Впрочем, он взял его больше, чем на денек, но, как гласит летопись, менее, чем через месяц, мистер Димер ясно дал понять, что лежать в могиле ему недосуг.
Одним из наиболее достойных граждан Хиллбрука был банкир Алван Крид. Он жил в самом лучшем доме, держал собственный выезд, и все к нему относились с почтением. Признавая пользу путешествий, он неоднократно бывал в Бостоне и, говорят, один раз даже добрался до Нью-Йорка, хотя сам он скромно отрицал за собой этот выдающийся подвиг. Вот какой человек был мистер Крид. Мы об этом упоминаем, просто чтобы показать, сколь он был просвещен, если хотя бы изредка приобщался к столичной культуре, и сколь правдив, если ничего подобного не было.
Примерно в десять часов вечера прелестным июньским вечером мистер Крид закрыл за собой калитку. По засыпанной гравием дорожке, белеющей в лунном свете, он проследовал к своему великолепному дому, ступил на крыльцо и, секунду помедлив, всунул ключ в замочную скважину. Приоткрыв дверь, он увидел жену, которая направлялась из гостиной в библиотеку. Она нежно приветствовала его и придержала дверь, чтобы ему было удобнее войти. Но вместо того чтобы войти, он повернулся, недоуменно глядя себе под ноги.
– Какого черта? – вопросил он. – Где кувшин?
– Какой кувшин, Алван? – равнодушно отозвалась жена.
– Кувшин кленового сиропа. Я принес его из лавки и поставил у порога, чтобы открыть дверь. Какого...
– Ну-ну, Алван, пожалуйста, не выражайся, – прервала его супруга.
Хиллбрук, между прочим, не единственное место во всем цивилизованном мире, где нежелательно поминать всуе имя врага рода человеческого.
Кувшин кленового сиропа, который, по сельской простоте, наиболее видный гражданин Хиллбрука лично принес домой, этот самый кувшин сиропа бесследно исчез.
– А ты уверен, что купил его, Алван?
– Дорогая моя, ты что, полагаешь, что можно не заметить, несешь ты кувшин или нет? Я купил этот сироп у Димера, когда проходил мимо лавки, и сам Димер нацедил мне его и одолжил кувшин, а я...
Эта фраза осталась неоконченной и по сей день. Мистер Крид, пошатываясь, вошел в дом, ввалился в гостиную и, весь дрожа, рухнул в кресло. Он вдруг спохватился, что ведь Сайлас Димер вот уже три недели как лежит в земле. Миссис Крид подошла к мужу, глядя на него с тревогой и удивлением.
– Ради Бога, скажи, что с тобой?
Но поскольку Бог не имел никакого отношения к тому, что беспокоило мистера Крида, то он не внял жениной мольбе и не счел нужным что-либо объяснять. Он молча сидел и смотрел в одну точку. Молчание длилось долго, прерываемое лишь мерным тиканьем часов, которые, казалось, шли медленнее обычного, милостиво давая супругам время прийти в себя.
– Вот что, Джейн, я, должно быть, спятил, – невнятно и торопливо заговорил он. – Что ж ты мне раньше об этом не сказала? Ведь были же, наверно, какие-то признаки. А теперь это проявилось так явно, что я и сам заметил. Мне показалось, что я проходил мимо лавки Димера. Она была открыта, и свет горел. Почудилось, конечно, она ведь теперь всегда закрыта. А Димер стоял у конторки за прилавком. Господи, Джейн, я видел его так же, как сейчас тебя. Я вспомнил, что ты просила меня купить кленового сиропа, зашел в лавку и купил – купил две кварты – две кварты кленового сиропа у Сайласа Димера. А ведь он умер, и тем не менее он нацедил мне из бочки кленового сиропа и подал его в кувшине. Он был как всегда угрюм, угрюмее, чем обычно, но я не могу вспомнить ни единого его слова. Джейн, я видел его, клянусь Богом, видел и даже разговаривал с ним – с покойником! Так что я спятил, Джейн, точно спятил – а ты от меня скрывала.
Столь длинная речь дала его супруге возможность собраться с мыслями.
– Алван, клянусь, я не замечала в тебе ни малейших признаков сумасшествия. Тебе определенно что-то примерещилось – и не сомневайся. А то ведь это же просто ужас какой-то. Ты совершенно нормальный, просто переутомился у себя в банке. И зачем ты сегодня остался на правление? Ясно же, человек заболел. Я так и знала, что быть беде.
Может, супругу и показалось, что данное предсказание несколько запоздало, но он промолчал, поскольку был слишком озабочен собственным состоянием.
– Несомненно, – сказал он, нелепым образом переходя на научный жаргон, – это был субъективный феномен. Явление призраков и даже их материализация признанный факт, но явление и материализация глиняного кувшина объемом в полгаллона – предмета грубой кухонной утвари, представляется вряд ли возможным.
Когда он закончил вещать, в комнату вбежала их маленькая дочка в ночной рубашке. Кинувшись к отцу на шею, она сказала:
– Папка, противный, что же ты забыл поцеловать меня на ночь? Мы слышали, как ты пришел и открывал калитку, и выглянули. Пап, кстати, Эдди спрашивает, можно ему взять этот кувшинчик, когда он будет пустой?
Когда полный смысл этого вопроса дошел до Алвана Крида, он заметно вздрогнул, потому что ребенок не мог слышать ни слова из предыдущего разговора.
Душеприказчик Сайласа Димера счел за благо ликвидировать его "дело" лавку закрыли сразу же после Сайласовой смерти. Товары увез другой "коммерсант", который закупил их оптом. В комнатах наверху никто не жил вдова и дочери покойного переехали в другой город.
В тот же вечер, сразу же после происшествия с Алваном Кридом (каким-то образом весть о нем распространилась по всему городу) напротив лавки собралась толпа мужчин, женщин и детей. Теперь каждый знал, что данное место посещает дух Сайласа Димера, хотя многие делали вид, будто этому не верят. Самые недоверчивые, они же и самые юные, стали кидать камни в фасад единственно доступную часть здания, тщательно, впрочем, следя за тем, чтобы не попасть в незакрытые ставнями окна. Скептицизм в озлобление не перерос. Несколько храбрецов всего только перешли через улицу и стали громко стучать в дверь. Некоторые зажигали спички и, заглядывая в окна, пытались рассмотреть внутренность лавки. Кое-кто старался привлечь к себе внимание, изощряясь в остроумии: кричал, ухал и вызывал призрак побегать наперегонки.
После того как энное количество времени прошло впустую и толпа начала рассасываться, оставшиеся заметили, что лавка озарилась тусклым желтым светом. Все выходки тут же прекратились. Смельчаки, стоявшие у окон и дверей, бросились на другую сторону улицы и затерялись в толпе. Мальчишки перестали бросать камни. Все возбужденно перешептывались. Сколько времени прошло с тех пор, как появился свет, никто не заметил, но он делался с каждой минутой все ярче, и вскоре стало можно рассмотреть все помещение лавки. За конторкой у прилавка стоял Сайлас Димер.
На толпу это произвело потрясающее впечатление. Она начала быстро таять с обоих концов. Кто-то удирал со всех ног, кто-то удалялся с большим достоинством, время от времени оборачиваясь назад. В конце концов осталось человек двадцать, в основном мужчины. Они стояли молча, как вкопанные, и, выпучив глаза, наблюдали за всем происходящим. Призрак не обращал на них ни малейшего внимания, с головой уйдя в свою бухгалтерию.
Наконец от толпы отделилось трое мужчин и, как будто их одновременно что-то подтолкнуло, перешли улицу. Один из них, здоровенный детина, собрался было навалиться на дверь плечом, как вдруг она отворилась, явно сама по себе. Любознательные храбрецы потянулись внутрь. Но не успели они переступить порог, как зрители, трепещущие от благоговейного страха, увидели, что смельчаки ведут себя очень странно. Вытянув руки, они бродили по магазину, натыкаясь на прилавок, коробки и тюки, лежащие на полу, и друг на друга. Они беспорядочно блуждали и, похоже, пытались отыскать дорогу обратно, однако тщетно – выход они найти не могли.
Призрак Сайласа Димера не проявлял к ним ни малейшего интереса, как будто его это совершенно не касалось.
Почему вдруг сразу все – мужчины, женщины, дети, даже собаки одновременно рванулись к дверям лавки, никто потом не помнил. В дверях возникла давка – каждый хотел быть первым, но в конце концов они выстроились в очередь и шаг за шагом продвигались вперед. Благодаря какому-то духовному или физическому чуду зеваки превратились в действующих лиц, зрители стали участниками спектакля, сцену заполонила публика.
И все это происходило при ярком свете, на глазах у единственного человека, оставшегося на другой стороне улицы, – на глазах у банкира Алвана Крида. Он ясно видел все странности, которые там творились, для тех же, кто находился внутри, вокруг царил кромешный мрак. Каждый, кто оказывался в лавке, словно внезапно лишался зрения и рассудка. Люди кружили наугад, пытаясь пробиться наружу через толпу себе подобных. Они суетились, пихались локтями, иногда даже пускали в ход кулаки, падали, их топтали ногами, а они поднимались и, в свою очередь, топтали других. Они хватали друг друга за одежду, за волосы и бороды – вели себя совершенно по-скотски. Раздавались ругательства и проклятия, люди осыпали друг друга непристойной бранью. Когда Алван Крид увидел, что последний человек переступил порог, сделавшись участником этого кошмарного действа, свет на сцене внезапно погас, и для Алвана Крида все стало таким же черным, как и для тех, кто был внутри. Тогда он повернулся и ушел.
Наутро новая толпа зевак собралась у лавки. Частью она состояла из тех, кто сбежал ночью, но при солнечном свете опять осмелел, а частью из тех, кто с раннего утра зарабатывает себе на хлеб насущный. Лавка была открыта и пуста, но на полу, стенах, мебели оставались клочья одежды и пучки волос. Хиллбрукское воинство каким-то образом выбралось наружу и разбрелось по домам. Бойцы принялись залечивать раны. Каждый клялся, что всю ночь провел дома, в постели. На пыльной конторке лежала счетная книга. Записи, сделанные димеровским почерком, оканчивались шестнадцатым июля. Кувшин сиропа, проданный Алвану Криду, в ней не значился.
Вот и вся история. Правда, когда страсти улеглись и разум снова обрел свои неотъемлемые права, жители Хиллбрука признали, что ввиду честного и мирного характера первой же сделки, совершенной в новом качестве, Сайласу Димеру, покойнику, вполне можно было дозволить торговлю на старом месте и обойтись без уличных беспорядков. К каковому мнению местный летописец, из чьих неопубликованных трудов мы и почерпнули эти факты, полностью присоединяется.
КАК ЧИСТИЛИ КОРОВУ
У моей тети Пейшенс, которая жила на маленькой ферме в штате Мичиган, была любимая корова. Пользы от этого существа было мало, ибо вместо того, чтобы хоть в малом количестве дарить людям молоко и телятину, она всецело сосредоточилась на искусстве брыкания. Она брыкалась целыми днями и поднималась среди ночи, чтобы лишний раз взбрыкнуть. Она взбрыкивала на все подряд: на кур, свиней, столбы, камни, на пролетающих птиц и на рыб, выпрыгивающих из воды; для этой демократичной и лишенной предпочтений скотины все были равны и все одинаково достойны взбучки. Корова тети Пейшенс была подобна библейскому Тимофею(1), который "немало смертных в небеса вознес"; хотя, как выразился поэт более позднего времени, нежели Драйден, она делала это "немного чаще и куда сильней". Любо-дорого было смотреть, как она расчищает себе дорогу через густонаселенный скотный двор. Молниеносно чередуя удары задней правой и задней левой, она порой добивалась того, что в воздухе находилось сразу несколько единиц домашней живности.
Поражало не только количество, но и качество ее ударов. Куда там прочим коровам-дилетанткам, для которых искусство брыкания не стало делом жизни и которые брыкаются, так сказать, "на глазок". Раз я видел, как она стояла посреди дороги, будто бы погрузившись в глубокий сон, и машинально жевала свою жвачку, как можно жевать жвачку только дремотным воскресным утром. Рядом, в блаженном неведении о надвигающейся угрозе, погруженный в сладостные мысли о прекрасной возлюбленной, рыл землю огромный черный боров, размерами и внешним видом напоминавший годовалого носорога. И вдруг в одно мгновение, без всякого заметного движения со стороны коровы – тело и не колыхнулось даже; челюсти продолжали размеренно двигаться – боров скрылся из виду, как и не было его. Только на бледном небосклоне обозначилось маленькое пятнышко, уносившееся в заоблачные выси со скоростью кометы и в один миг бесследно исчезнувшее за дальними холмами. Это, надо полагать, наш боров и был.
–
(1) Тимофей – герой поэмы английского классика Джона Драйдена "Пир Александра", искусный музыкант.
Чистку коров не назовешь обычным занятием фермера, даже в Мичигане; но, так как эту буренку отродясь не доили, ее, конечно, следовало донимать каким-то иным образом, и самым тяжким из проявлении нежной хозяйской привязанности оказалась пытка скребницей. Правда, пыткой считала это только сама корова; хозяйка, напротив, искренне полагала, что чистка составляет бесспорное благо ее подопечной. Во всяком случае, нанимая работника, тетя вменяла ему в обязанность чистить корову каждое утро; но, сделав ровно столько попыток, сколько нужно, чтобы убедиться, что поведение коровы – не случайная прихоть, а проявление твердой закономерности, работник ясно давал понять, что намерен уволиться – давал понять тем, что избивал животное до полусмерти первым попавшимся под руку предметом, после чего ковылял на свою койку. Я не подсчитывал, скольких работников тетя лишилась подобным образом, но, судя по числу хромых в той местности, таковых было немало, хотя иной раз, возможно, хромота была передана наследственным путем, а иной раз путем заражения.
Приходится признать, что тетя избрала не лучший способ хозяйствования. Правда, наемные работники не стоили ей ровно ничего, поскольку увольнялись еще до первого жалованья; но, так как молва о корове быстро перешагнула границы штата, у тети возникли большие трудности с рабочей силой, и, помимо всего прочего, ее любимицу не чистили должным образом. Злые языки говорили, что корова расколошматила всю ферму – это фигуральное выражение означало, что из-за нее и земля обрабатывалась кое-как, и ветхие надворные постройки не ремонтировались.
Спорить с тетей было бесполезно: она соглашалась со всеми доводами и поступала по-своему. Ее покойный муж долго пытался поправить дело уговорами и в конце концов доспорился до преждевременной могилы; похороны его отложили на день, поскольку в срочном порядке пришлось вызвать нового похоронного агента – первый выбыл из строя, легкомысленно попытавшись почистить корову по просьбе вдовы.
Шло время, но тетя Пейшенс не торопилась выставить себя на рынке невест: всепоглощающая любовь к корове не оставила в ее сердце места для иной, более естественной и выгодной, привязанности. Но поля ее перестали засеваться, урожаи начали гнить на корню, заборы утонули в диком кустарнике, луга заросли величественным чертополохом; и наконец она стала подумывать, что ферма нуждается в новом хозяине.
Слухи о том, что тетя Пейшенс ищет, кому вручить руку и сердце, вызвали всеобщее волнение. Все взрослые холостые мужчины мигом почувствовали себя женихами. Безучастная статистика показывает, что в тот год в Барсучьем округе было заключено больше браков, чем за любое прошедшее или последующее десятилетие. Но тетя в число брачующихся не попала. Мужчины женились на кухарках, прачках, матерях своих покойных жен, сестрах своих заклятых врагов; короче – женились на ком придется; если человеку не удавалось никого уговорить, он шел к мировому судье и заявлял под присягой, что у него есть одна или несколько жен в штате Индиана. Никому не улыбалось живьем оказаться в мужьях у моей тетушки.
Как читатель уже мог убедиться, в сердечных делах тетя Пейшенс не знала середины. Когда пронесшаяся над округом брачная эпидемия унесла всех холостых мужчин, кроме одного, она отдала свое сердцу этому одному; она поехала за ним в повозке и привезла на свою ферму. Это был долговязый методистский пастор по фамилии Хаггинс.
Преподобный Берозус Хаггинс, при всем его непомерном росте, был, в сущности, славный парень и себе на уме. Это был, вероятно, самый уродливый смертный на всю Северную Америку – тощий, угловатый, мертвенно-бледный и исполненный непоколебимой торжественности. Он неизменно носил приплюснутую черную шляпу, нахлобучивая ее так низко, что поля едва не застили ему взор и полностью скрывали от посторонних глаз пышное великолепие его ушей. Помимо шляпы и пары потрескавшихся кожаных ботинок, применительно, к которым слово "вакса" звучало бы как бессмысленный осколок давно умершего языка, единственной видимой частью его одежды был узкий черный сюртук немыслимой длины, полы которого, доходившие ему до пят, вечно были мокры от росы. Сюртук всегда был сверху донизу наглухо застегнут. Словом, настоящее привидение Столь мало было в его внешности от естественного человеческого облика, что, стоило ему выйти в кукурузное поле, как хищные вороны, оставив все прочие дела, тучами слетались к нему, сражаясь за лучшее место и спеша выразить презрение к тому, что они считали примитивной уловкой незадачливого фермера.
На следующий день после свадьбы тетя Пейшенс призвала преподобного Берозуса пред свои светлые очи и объяснила ему свою волю:
– Ну вот, милый Хагги, слушай, чем тебе тут надо заняться. Первым делом почини все заборы, выполи сорняки и твердой рукой выкорчуй весь дикий кустарник. Потом расправишься с чертополохом, починишь фургон, соорудишь одну-две бороны и вообще наведешь на ферме порядок. На пару лет работы хватит. Разумеется, пасторскую службу пока придется оставить. Как только с этим управишься... Да что же это я! Забыла про бедную Фиби. Она...
– Миссис Хаггинс, – торжественно вмешался муж. – Если Провидение избрало меня для того, чтобы привести на этой ферме необходимые усовершенствования, я надеюсь стать в его руках надежным орудием. Но что касается сестры Фиби, которую вы упомянули (я уверен, что это женщина достойная), имею ли я честь быть с ней знакомым? Имя я, безусловно, слышу не первый раз, но...
– Не знать Фиби! – воскликнула тетя в непритворном изумлении. – Я была уверена, что весь округ ее знает. Так вот, каждое утро твоего земного существования ты должен будешь скрести ей ноги!
– Заверяю вас, мадам, – отозвался преподобный Берозус с достоинством, что я сочту своим священным долгом удовлетворять духовные потребности сестры Фиби в меру моих слабых способностей; но должен заметить, что ту чисто светскую обязанность, о которой вы упомянули, следовало бы препоручить более умелым и, осмелюсь предположить, женским рукам.
– У-у-у, ста-а-арый дура-а-ак! – взвилась тетушка, вылупив глаза в безграничном изумлении. – Фиби – это корова!
– В таком случае, – сказал супруг, сохраняя нерушимое спокойствие, – я, безусловно, позабочусь о ее телесном благополучии и буду счастлив уделить ее ногам столько сил, сколько можно будет, не совершая греха, отвлечь от моей борьбы с дьяволом и чертополохом.
С этими словами преподобный мистер Хаггинс надвинул шляпу чуть не до плеч, кратко благословил жену и отправился на скотный двор.
Теперь как раз настало время сказать, что он с самого начала знал, кто такая Фиби, и был наслышан от людей о ее зловредных повадках. Более того, он уже успел нанести ей визит и провел более часа поблизости от нее, но вне пределов досягаемости, и дал ей возможность обозреть себя со всех сторон. Короче говоря, они с Фиби присмотрелись друг к другу и были готовы к решительным действиям.
В числе хозяйственных приспособлений и предметов роскоши, составивших, так сказать, "приданое" нашего пастора и уже перевезенных его женой к себе на ферму, был патентованный чугунный насос футов в семь высотой. Предполагая укрепить его на досках над колодезной ямой, что посреди скотного двора, его временно поставили с ней рядом. Подойдя к насосу, мистер Хаггинс установил его на место и крепко-накрепко прикрутил к доскам болтами. Затем он снял долгополый сюртук и шляпу; сюртук он напялил на насос и застегнул на все пуговицы, почти полностью его закрыв, а шляпу водрузил сверху. Опущенная рукоятка насоса, выгибаясь дугой, торчала меж полами сюртука наподобие хвоста, но наблюдатель, упустивший из виду столь незначительную деталь, вполне мог принять это сооружение за мистера Хаггинса, расправившего грудь и бравого, как никогда.
Покончив с приготовлениями, наш герой закрыл ворота скотного двора, зная, что Фиби, хозяйничающая на огороде, заметит, что от нее пытаются отгородиться, и примчится навести порядок. Так и случилось. Между тем хозяин, лишившийся разом и сюртука, и шляпы, залег неподалеку за дощатым забором, где провел время в свое удовольствие, дрожа от холода и наблюдая за развитием событий сквозь дырку от сучка.
Поначалу корова притворялась, будто не видит возвышающуюся посреди двора фигуру. Войдя на скотный двор, она даже повернулась к ней спиной, изображая легкую дремоту. Однако, обнаружив, что эта тактика не приносит желаемого успеха, она отказалась от нее и несколько минут простояла в нерешительности, вполсилы жуя жвачку и усиленно раскидывая мозгами. Потом, нагнув голову, начала обнюхивать землю, словно была всецело поглощена поисками какой-то потерянной вещи; рыская то вправо, то влево, она потихоньку приближалась к предмету своего зловредного внимания. Подойдя к фальшивой фигуре на расстояние дружеского разговора, она постояла какое-то время неподвижно, затем вытянула шею, словно предлагая себя погладить и всем своим видом показывая, что ласка и забава для нее дороже, чем богатство, власть и овации толпы, что она с младых ногтей дорожит этими простыми радостями и без них не представляет себе жизни. Потом придвинулась еще ближе, словно для рукопожатия, храня умильную мину и как бы кокетничая, – то поклонится, то улыбнется, то глазком поведет. И вдруг молниеносный оборот кругом, и фигуре в черном нанесен страшный удар – удар неимоверный по силе и ярости, ну просто апоплексический!
Эффект вышел неописуемый. Коровы, надо сказать, брыкаются не назад, а вбок, и удар, предназначенный напрочь вышибить дух из духовного лица, воистину вышел корове боком; от боли ее буквально волчком закружило. Скорость вращения была так велика, что она превратилась в сплошной мутный размазанный коровий круг, обведенный кольцом наподобие планеты Сатурн; кольцо это нарисовала в воздухе белая кисточка на конце ее стремительно несущегося хвоста! Когда вращение замедлилось и центробежная сила пошла на убыль, Фиби закачалась, завихлялась из стороны в сторону и наконец, завалившись на бок, конвульсивно перекатилась на спину да так и застыла, вытянув вверх все четыре конечности и простодушно полагая, что на нее каким-то образом навалился весь мир и она должна держать его ценой невероятного самопожертвования. Потом она лишилась чувств.
Сколько она так пролежала, ей, разумеется, было невдомек, но в конце концов она разлепила глаза, увидела открытую дверь своего стойла – а ведь, как сказал поэт, "нет зрелища приятней и милей", – с трудом поднялась, нетвердо встав на три ноги, и ошеломленно заморгала, плохо соображая, где находится. Наткнувшись глазами на железного священнослужителя, столь незыблемого в своей вере, она бросила на него взгляд, исполненный горестной укоризны, и удрученно заковыляла в свое убогое жилище – смирное, сломленное создание.
Несколько недель опухшая правая задняя нога Фиби поражала всех своей величиной, но тщательный уход в конце концов сделал свое дело, и корова "оклемалась", как сказала столь же заботливая, сколь и озадаченная хозяйка, или "выздоровела", как предпочел выразиться сдержанный служитель Господа. "В своих повадках и беседах" (слова Хаггинса) она стала послушной и кроткой, как малое дитя. Новый хозяин без опаски баюкал ее больную ногу у себя на коленях и мог бы даже положить ее себе в рот, если бы захотел. Ее поведение столь разительно изменилось, что в один прекрасный день тетя Пейшенс, которая, при всей своей нежной любви к Фиби, никогда доселе не отваживалась, так сказать, дотронуться до края ее одежд, доверчиво приблизилась к ней, желая побаловать ее репой. Боже правый! Как ровно она размазала почтенную даму по кирпичной стенке! Любой штукатур бы позавидовал.
ГИПНОТИЗЕР
Те из моих друзей, кому известно, что я иногда развлечения ради занимаюсь гипнозом, чтением мыслей и тому подобным, часто спрашивают меня, имею ли я ясное понятие о сути этих явлений. На такие вопросы я всегда отвечаю, что не имею и не желаю иметь. Я не лазутчик, приникающий ухом к замочной скважине мастерской, где трудится природа, и пытающийся в пошлом своем любопытстве выведать секреты ее ремесла. Интересы науки так же мало для меня значат, как для науки – мои интересы.
Несомненно, явления, о которых идет речь, достаточно простые и отнюдь не превосходят наше разумение – надо только найти ключ к разгадке; но что касается меня, я предпочитаю его не искать, ибо, будучи романтиком до мозга костей, я получаю от тайны куда больше удовольствия, чем от знания. Когда я был ребенком, обо мне говорили, что мои большие голубые глаза даны не столько мне для глядения, сколько другим для любования, – так велика была их сонная красота и в частые мои периоды задумчивости так велико было их безразличие ко всему происходящему. Этими своими особенностями они, смею предположить, были сходны с кроющейся за ними душой, для которой милые фантазии, рожденные ею из самой себя, всегда были важнее, чем законы природы и окружающая материальная жизнь. Все это может показаться не идущим к делу самолюбованием, но мне необходимо было объяснить, почему я способен пролить так мало света на предмет, которому уделил в своей жизни столько внимания и который повсеместно возбуждает столь острое любопытство. Обладая моими способностями, человек иного склада, несомненно, смог бы растолковать многое из того, что я просто привожу без объяснений.
О своем необычном даровании я впервые узнал еще школьником, на четырнадцатом году жизни. Случилось так, что я забыл взять в школу завтрак; поблизости от меня собиралась перекусить одна девочка, и я не мог оторвать от провизии завистливых глаз. Подняв голову, она встретилась со мной взглядом и не смогла его отвести. Секунда колебания – и она с отрешенным видом подходит ко мне, молча протягивает мне корзинку с ее соблазнительным содержимым, поворачивается и уходит прочь. Невыразимо довольный, я утолил голод и выкинул корзинку. С тех пор я и вовсе перестал носить в школу завтрак – девочка стала моим ежедневным поставщиком; нередко, удовлетворяя природную потребность ее скромными припасами, я совмещал приятное с полезным, принуждая ее присутствовать на трапезе и притворно предлагая ей разделить ее со мной; на самом же деле я уплетал все до последнего кусочка. Девочка оставалась в полной уверенности, что съела завтрак сама; на последующих уроках ее слезные жалобы на голод удивляли учителя и забавляли учеников, которые прозвали ее "Ненасытное брюхо", я же преисполнялся необъяснимого удовлетворения.
Недостатком этого, в других отношениях весьма удобного положения вещей, была необходимость таиться: передача завтрака к примеру, происходила в рощице, вдали, так сказать, от суетной толпы, и я краснею, вспоминая о прочих недостойных уловках, на которые я вынужден был идти. Так как я был (и являюсь) по натуре человеком прямым и открытым, они становились для меня все более и более тягостными, и если бы мои родители пожелали отказаться от нововведения, которое вполне их устраивало, я охотно вернулся бы к прежним порядкам. План, который я в конце концов избрал, чтобы избавиться от последствий своей гипнотической силы, возбудил в свое время широкое и острое любопытство, и та его часть, которая была связана со смертью девочки, подверглась суровому осуждению; но это не имеет касательства к предмету настоящего повествования.
В течение нескольких последующих лет я был почти совсем лишен возможности заниматься гипнозом; небольшие опыты, на которые я отваживался, обычно заканчивались пребыванием в карцере на хлебно-водяной диете, а порой не приносили мне ничего лучшего, чем плетка. Единственный раз я совершил нечто впечатляющее, и случилось это в тот самый день, когда я покидал место, принесшее мне эти маленькие разочарования.
Меня вызвали в комнату надзирателя, где снабдили цивильным платьем, ничтожной суммой денег и изрядным количеством советов, которые, должен сказать, были гораздо лучшего качества, чем платье. Выходя из ворот навстречу свободе, я неожиданно обернулся, пристально посмотрел надзирателю в глаза – и мгновение спустя он уже был в моей власти.
– Вы страус, – сказал я.
Вскрытие показало, что желудок умершего содержал огромное количество несъедобных предметов, в основном деревянных и металлических. Непосредственной причиной смерти, по заключению экспертов, послужила застрявшая в пищеводе дверная ручка.
По природе своей я был хорошим и любящим сыном, но, вернувшись в мир, от которого так долго был отгорожен, я не мог избавиться от мысли, что все мои злоключения происходят из одного источника – из мелочной скаредности моих родителей, решивших сэкономить на школьных завтраках; и у меня не было причины полагать, что эти люди изменились к лучшему.
По дороге между Мамалыжным Холмом и Южной Асфиксией есть небольшое поле, посреди которого раньше стояла хижина, известная под названием Логово Пита Гилстрапа; сей джентльмен добывал свой хлеб тем, что убивал и грабил проезжих. Скончался Гилстрап приблизительно тогда же, когда люди перестали ездить по той дороге, и где тут причина, а где следствие, установить по сию пору не удалось. Как бы то ни было, поле давно заросло сорной травой, а Логово сгорело. И вот иду я пешком в Южную Асфиксию, где прошло мое детство, и вдруг вижу своих родителей, сделавших остановку на пути к Холму. Привязав лошадей, они закусывали под дубом, что рос посреди поля. Вид этой трапезы пробудил во мне горькие воспоминания о школьных днях, и лев, спавший в моей груди, проснулся. Приблизившись к недостойной чете, которая сразу меня узнала, я выразил готовность воспользоваться их гостеприимством.