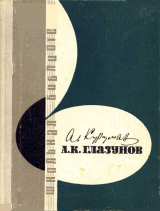
Текст книги "А. К. Глазунов"
Автор книги: Алиса Курцман
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
УТРАТЫ
Когда на суд безмолвных, тайных дум
Я вызываю голоса былого, —
Утраты все приходят мне на ум,
И старой болью я болею снова.
В. Шекспир

Утро 16 февраля 1887 года началось страшным криком: «Бородин скончался!» Это кричал Стасов. Он прибежал к Николаю Андреевичу, вид его был ужасен. Лицо опухло от слез и дрожало. – Подумать только, – повторял он, – вчера танцевал, шутил и вдруг упал, и все, и уже ничего не могли сделать. Словно страшное вражеское ядро ударило в него.
Нужно было перевезти архив Бородина, и Римский-Корсаков поехал вместе со Стасовым к нему на квартиру. Там толпились какие-то незнакомые люди – профессора и студенты Медико-хирургической академии, где работал Александр Порфирьевич, друзья. Только его жены, Екатерины Сергеевны, не было дома. Тяжело больная, она находилась в это время в Москве, и ей не решились даже сообщить о смерти мужа.
Они прошли в «красную» комнату, где в эту зиму жил Бородин, и подошли к высокой конторке, за которой он обычно работал. Она была завалена бумагами и нотами. Бережно просмотрев все, даже самые маленькие клочки, Римский-Корсаков собрал их и увез к себе на квартиру. Стасов же поехал к Глазунову и рассказал ему обо всем случившемся.
Похороны Бородина были многолюдны и торжественны. От Выборгской стороны, где он жил, к Александро-Невской лавре несли ученики гроб с телом учителя. Саша шел в многотысячной толпе, и в памяти его всплывали картины встреч, отдельные слова и выражения Александра Порфирьевича.
Толчком к частым посещениям Бородиным дома Глазуновых послужил один из разговоров Саши с мамой.
– Что это ты все со взрослыми да со стариками время проводишь? – удивлялась она. – Разве они пара тебе? Ведь ты же мальчик совсем, ты с мальчиками и должен дружить!
– Но ведь с кем мне может быть интереснее, чем с ними, – возразил он, – у нас и дело общее – музыка.
– Ну, тогда и я хочу с ними ближе познакомиться. Хорошо бы они приходили к нам пообедать иногда, послушать музыку. У нас ведь квартеты тоже можно играть и вообще все, что захочется.
С тех пор и Бородин, и Стасов, и Римский-Корсаков, и Лядов стали часто бывать у Глазуновых. По воскресеньям они играли свои новые произведения, слушали квартетную музыку. Потом Елена Павловна приглашала всех к столу. Душой этого общества нередко оказывался Александр Порфирьевич, который развлекал всех неожиданными шутками и веселыми рассказами. Особенное влияние он имел на Николая Андреевича.
Римского-Корсакова почему-то немного побаивались. Он казался всегда очень сдержанным и даже чуть-чуть строгим, хотя был учтив и приветлив. И его внешний облик дополнял это впечатление строгости. Волосы щеткой стояли над высоким лбом, сюртук был наглухо застегнут, глаза остро-сосредоточенно поглядывали на собеседника сквозь двойные стекла очков. Даже Стасов делался в его присутствии как-то тише и, казалось, становился младше своего знаменитого друга.
– Никто не знает, какой Николай Андреевич цельный, несгибаемый. Никто не знает, как ему трудно переносить людские обиды, сердце ведь у него хрупкое, – думал Саша, переполненный чувством сыновнего благоговения.
Из всех них – друзей – только Бородин был для Николая Андреевича равным товарищем. Он один мог сказать ему что-то такое, от чего Николай Андреевич делался сияющим и веселым, хотя до того мог быть расстроенным и грустным.
Чувствовалось, что Александр Порфирьевич и его, Сашу, очень любил. «Даровитый мальчонка, мой тезка».– говорил он.
По окончании музицирования, когда все расходились по домам, Саша часто провожал Александра Порфирьевича. Они бродили по улицам, и он все пытался понять, почему так мало времени уделяет Бородин сочинению музыки и столько сил отдает общественной работе (то он спасал от закрытия женские медицинские курсы, то разыскивал всю ночь какого-либо арестованного студента. Это были еще важные дела! Но по скольким мелочам его отрывали, и он никому никогда и ни в чем не отказывал!). На все эти вопросы Александр Порфирьевич только отшучивался. – А ведь ему ничего не стоило одаривать друзей гениальными импровизациями, – думал Саша. Так, в импровизациях, незаконченными и остались третья симфония и «Князь Игорь».
После похорон Бородина Римский-Корсаков и Глазунов разобрали его рукописи и решили доинструментовать, закончить и привести в порядок все оставшиеся произведения умершего друга. Через несколько недель Глазунов, Римский-Корсаков и Стасов снова встретились на квартире, где Александр Порфирьевич провел последние годы жизни. Они собрались за столом, на котором разложили его рукописи, а в центре поставили портрет композитора.
– Пусть он будет молчаливым свидетелем и как бы председателем нашего собрания, – сказал Стасов.
Просмотрев либретто оперы и сочиненную к нему музыку, они постановили: Глазунов закончит третий акт оперы и запишет по памяти увертюру, которую много раз слышал в исполнении автора, а Николай Андреевич доделает все остальное (в основном на его долю пришлась инструментовка оперы).
Так начиная с весны весь 1887 год был посвящен памяти Бородина, приведению в порядок и редактированию его рукописей. Работа была кропотливой и сложной. По многу раз приходилось просматривать и сравнивать мельчайшие нотные листочки, ища в них разрозненные музыкальные темы, и с кропотливостью ювелиров «составлять» из этой «мозаики» оставшиеся недописанными части оперы.
Совместная работа над «Князем Игорем» еще больше сблизила Сашу с Николаем Андреевичем. Теперь Римский-Корсаков в Глазунове видел наиболее тонкого советчика и музыканта. Постепенно он стал обсуждать с молодым композитором не только вопросы работы над «Князем Игорем», но и проблемы инструментовки собственных сочинений. Советовался с ним, как лучше построить учебник по гармонии, который задумал.
Наконец работа над оперой стала подходить к концу. Светлый, богатырский дух творчества Бородина был так близок Саше, что он почти совсем забывал о своем «я», стремясь как можно ярче воссоздать стиль бородинской музыки.
В январе 1888 года «Князь Игорь» уже печатался. В этом же году его начали разучивать в Мариинском театре. «Какой колоссальной памятью, какой любовью к Бородину и какой изумительной техникой наделил господь г. Глазунова! Увертюра к «Игорю» – одна из наиболее ярких, красивых и роскошных страниц русской симфонической музыки»,– писал музыкальный критик Финдейзен, услышав увертюру в одном из концертов.
Глазунов шел по улице и вдруг увидел Балакирева. Он улыбнулся, обрадованный, но Милий Алексеевич, желая, видимо, избежать встречи с ним, перешел на другую сторону.
– Не хочет он видеть меня, – подумал Саша. – Вот и дома у нас совсем перестал бывать.
Их расхождение началось уже давно и было вызвано многими причинами: и той резкостью, с которой Балакирев критиковал произведения Глазунова, и той категоричностью, с которой он требовал, чтобы Саша переделывал неудачные, по его мнению, места, и тем, что юноша примкнул к новому «Беляевскому кружку». Балакирев был и против организации «Русских симфонических концертов».
– Что это вы решили только русских композиторов исполнять? – говорил он, – западных тоже надо.
– Но ведь западная музыка звучит на концертах Русского музыкального общества, а русской там совсем почти не услышишь, – возражал Николай Андреевич, но Балакирев остался при своем мнении.
– Все равно, это обособленчество какое-то. Однообразие.
Первый «Русский симфонический концерт» состоялся 23 ноября 1885 года в день именин Митрофана Петровича. Целый год прошел с того памятного вечера, когда в узком кругу хорошо знакомых людей были исполнены «Стенька Разин», романсы Римского-Корсакова, фортепианные пьесы и романсы Балакирева. С тех пор «Русские симфонические концерты» пользовались все возраставшей популярностью. Новые произведения всегда принимались восторженно, и публика дружно вызывала авторов.
Теперь, по истечении года, друзья решили поздравить их основателя с полезным и важным начинанием и устроить ему сюрприз. Они сочинили квартет, каждая часть которого была написана на одну и ту же мелодию, получившуюся после «музыкальной расшифровки» фамилии Беляева[9]9
В – си-бемоль, la – ля, f – фа.
[Закрыть]. Первая часть квартета принадлежала Римскому-Корсакову, вторая – Лядову, третья – Бородину, четвертая – Глазунову. 23 ноября 1886 года, в день именин Беляева, новое сочинение было исполнено.
Однажды Саша зашел к Балакиреву, чтобы показать ему это сочинение. Однако Милий Алексеевич, проиграв несколько тактов, поморщился и закрыл ноты.
– Бросьте, это очень скучно. Дальше будет в том же духе. Поиграем лучше Чайковского, – сказал он и из-под нот со своими произведениями вытащил спрятанную партитуру.
– Да, кажется, с тех пор он перестал бывать у нас, а теперь вот переходит на другую сторону, – думал Саша, шагая по улице. Все меньше становится членов «Могучей кучки». Вот и Бородина уже нет. И Балакирев покинул их.
Болезненно пережил он и еще одну потерю: в 1886 году, простудившись на очередных вагнеровских торжествах, умер Лист. Вторая симфония, которую Саша посвятил ему и мечтал преподнести лично, так и не была ему передана.
В ПУТИ
«...Я по последним сочинениям заметил, что несколько переменил свои музыкальные взгляды и смотрю на творчество несколько с другой точки зрения, оставаясь все-таки верным и старому».
Из письма Глазунова к Кругликову

В 1889 году в Петербург приехала труппа немецких оперных актеров, поставившая тетралогию Вагнера «Кольцо нибелунга». На этот раз музыка Вагнера произвела на Глазунова опьяняющее действие. – Я его полюбил безотчетно, как женщину, – говорил он о Вагнере.
Это увлечение гениальным немецким композитором разделял с ним и Римский-Корсаков. Целыми днями просиживали друзья с партитурами в руках сначала на репетициях, а потом на вечерних спектаклях, горячо обсуждая особенности напряженной вагнеровской гармонии, восхищаясь приемами оркестровки – то насыщенно густой, то поразительно прозрачной.
Под влиянием Вагнера Александр Константинович написал фантазию для оркестра «Море». Однако ни критика, ни обычно доброжелательный Николай Андреевич этого произведения не одобрили, так же как и симфоническую картину «Лес». Римский-Корсаков считал эти вещи переходными в творчестве Саши и был очень рад, когда, как он говорил позднее, его бывший ученик «оставил позади себя пучины «Моря», дебри «Леса» и стены «Кремля»[10]10
«Кремль» – симфоническая картина Глазунова, написанная в 1890 году.
[Закрыть].
Среди произведений восьмидесятых годов только одно получилось особенно удачным – симфоническая поэма «Стенька Разин», написанная в 1885 году.
«Спокойная ширь Волги. Долго стояла тиха и невозмутима вокруг нее Русская земля, пока не появился грозный атаман Стенька Разин. Со своей лютой ватагой он стал разъезжать по Волге на стругах и грабить города и села. Народная песня так описывает их поездки:
Выплывала легка лодочка,
Легка лодочка атаманская,
Атамана Стеньки Разина.
Еще всем лодка изукрашена,
Казаками изусажена,
На ней паруса шелковые,
А веселки позолочены...
Посередь лодки парчевой шатер,
Как во том парчевом шатре
Лежат бочки золотой казны,
На казне сидит красна девица,
Атаманова полюбовница,—
персидская княжна, захваченная Стенькой Разиным в полон.
Как-то раз она призадумалась и стала рассказывать «добрым молодцам» свой сон:
«Вы послушайте, добры молодцы,
Уж как мне младой мало спалося,
Мало спалося, много виделось.
Не корыстен же мне сон привиделся:
Атаману быть расстреляну,
Казакам гребцам по тюрьмам сидеть,
А мне —
Потонуть в Волге-матушке».
Сон княжны сбылся. Стенька Разин был окружен царскими войсками. Предвидя свою погибель, он сказал: «Тридцать лет я гулял по Волге-матушке, тешил свою душу молодецкую и ничем ее, кормилицу, не жаловал. Пожалую Волгу-матушку не казной золотой, не дорогим жемчугом, а тем, чего на свете краше нет, что нам всего дороже», – и с этими словами бросил княжну в Волгу. Буйная ватага запела ему славу и с ним вместе устремилась на царские войска...»
27 июня 1889 года. Париж. Концертный зал Трокадеро. Среди публики – много музыкантов. Они слушают симфоническую поэму Глазунова «Стенька Разин». Дирижирует автор.
...Виолончели зашелестели в тихом, тревожном тремоло, и тромбоны таинственным суровым хором вступили с мелодией, в которой все узнали мотив русской народной песни «Эй, ухнем!»:

Потом, как пастушеский рожок в поле, запел, продолжая мелодию песни, гобой, но виолончели прервали его своим мрачным тремоло, и снова зазвучал скорбный припев «Эй, ухнем!». Тогда светлую мелодию гобоя подхватил и пропел кларнет.
...Туман рассеялся, и стали видны необъятные дали, одинокие церквушки на берегу и трогательные задумчивые березы. А на реке —
Легка лодочка атаманская,
Атамана Стеньки Разина.
Из неторопливой, полной сосредоточенности мелодии вычленился начальный мужественный мотив. Постепенно он стал призывным кличем, а потом удалой молодецкой пляской. Она все росла и ширилась, заражая всех задором и силой, но вдруг замедлилась и замерла. На фоне мягко покачивающегося сопровождения флейт и струнных инструментов поплыла новая тема, нежная, хрупкая,– тема «красной девицы – атамановой полюбовницы»:

Княжна начала рассказывать свой сон. Красочные аккорды арфы придавали трогательной изящной мелодии кларнета оттенок восточной томности и неги. Потом стремительное движение возвратилось снова. С богатырской силой и размахом зазвучала русская песня. Ее мощь все нарастала. Стали слышны звуки битвы, трубные переклички военных сигналов.
Неожиданно скорбный аккорд перевел повествование в иной план. Снова появилась тема княжны, но на этот раз ее звучание было трагичным.
Атаману быть расстреляну,
Казакам гребцам по тюрьмам сидеть,
А мне —
Потонуть в Волге-матушке,—
говорит княжна, и кажется, будто в фигурациях арфы волны расходятся кругами.
Теперь уже совсем неузнаваемо искаженно зазвучала тема «Эй, ухнем!». Тревожно закружились пассажи скрипок, призывным, воинственным кличем зазвучала бурлацкая песня. И вдруг, в разгар все нарастающего напряжения, снова выплыла спокойная, светлая тема княжны.
В последний раз поднял атаман красну девицу высоко на руки, поцеловал в алые уста и бросил в Волгу...
На мгновение все замерло, затихла музыка, только два звука, как бы забывшись, тянулись долго-долго. Потом опять встрепенулось все, «буйная ватага запела атаману славу и с ним вместе устремилась па царские войска». Снова заметались страшные вихри, с новой силой зазвучала торжественно-суровая мелодия песни, но уже не отдельными коротенькими фразами, а вся целиком, во всей своей красе и мощи. Постепенно ее скорбные звуки приобрели характер величественно-торжественный. Она пела славу русским удалым богатырям.
Музыка умолкла, и в ответ па нее раздались горячие аплодисменты. Некоторые музыканты, неистово хлопая, вскочили с мест, кричали «браво», улыбались, радостно переглядывались, и перебрасывались друг с другом восторженными замечаниями.
Это торжество русской музыки наполняло сердце Митрофана Петровича радостью и гордостью. Собственно говоря, идея поездки в Париж на Всемирную выставку и организации там Русских концертов принадлежала П. И. Чайковскому, но, если бы Беляев не согласился финансировать эту поездку – снять зал, оплатить французскому оркестру репетиции и концерты, идея так и не смогла бы осуществиться.
В Париж они приехали впятером. Он, Беляев, Николай Андреевич с женой, Глазунов и пианист Н. С. Лавров, который должен был играть концерт для фортепиано с оркестром Римского-Корсакова.
И вот уже второй вечер звучит в зале Трокадеро музыка Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Мусоргского, Чайковского, Кюи, Лядова, Глазунова. Успех концертов и количество публики возрастают. Правда, говорят, что если бы Митрофан Петрович согласился рекламировать концерты более широко, то и материальный, и «моральный» успех их был бы еще более значительным, но... он не любит шумихи. И так все идет прекрасно. Газеты пишут, что это первые концерты, на которых публика досиживает до конца и встречает дирижера (Римского-Корсакова) аплодисментами. В антрактах французы рвутся в артистическую, чтобы пожать русским музыкантам руки и выразить свое восхищение их творениями.
– Музыка Сашеньки и его дирижерство, – думал Беляев, – тоже воспринимаются хорошо. А ведь он начал дирижировать только в прошлом году, и, надо признать, не слишком удачно. Уж очень застенчив и мягок! Стеснялся требовать от оркестрантов, которые, как он сам говорил, все почти вдвое старше его, выполнения своих замечаний. Мешала и некоторая медлительность. Показывая иногда вступления инструментам и сознавая, что пропустил момент, он добродушно ворчал про себя: «Поздно». Однако его слух был невероятно тонким. Ему, например, ничего не стоило в мощнейшем звучании оркестра услышать фальшивую ноту у второй флейты. Память, авторитет и обаяние личности Александра Константиновича были настолько велики, что со временем из него выработался вполне хороший дирижер. Это признал даже такой строгий критик, как Николай Андреевич.
Французские газеты посвятили Русским концертам немало восторженных статей. О Глазунове они писали: «Запомните это имя: его часто будут повторять»; «Именем Глазунова отметится история музыки конца нашего века»; «Глазунов много о себе заставит говорить в ближайшее время»; «Удивительно, что автор такого симфонического произведения так молод» (о «Стеньке Разине»).
Наконец-то сбылась мечта Беляева: о Глазунове заговорила Европа! И для Саши эта поездка была тоже очень интересной. Он познакомился со многими французскими композиторами и музыкантами, в том числе с Массне и Делибом, слушал исполнителей разных национальностей (французов, венгров, румын, цыган и сербов), состязавшихся в игре на народных инструментах.
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
О, окружи себя мраком, поэт,
окружися молчаньем...
А. Толстой

В октябре 1893 года снова приехал Чайковский. Он только что закончил свою шестую симфонию и хотел исполнить ее в одном из концертов Русского музыкального общества. Всю неделю, пока шли репетиции, Александр Константинович проводил в его обществе.
Слушая симфонию Чайковского, он не переставал думать о поисках своего пути. Последнее письмо Петра Ильича не выходило у него из головы. Глазунов перечитывал его так часто, что выучил наизусть. Оно было послано из Флоренции, где Петр Ильич заканчивал работу над «Пиковой дамой». «Я большой поклонник Вашего таланта,– писал Чайковский, – я ужасно ценю и высоко ставлю серьезность Ваших стремлений, Вашу артистическую, так сказать, честность. И, вместе с тем, я часто задумываюсь по поводу Вас. Чувствую, что от чего-то, от каких-то исключительных влечений, от какой-то односторонности, в качестве старшего и любящего Вас друга, нужно Вас предостеречь, – и что именно сказать Вам еще, не знаю. Вы для меня во многих отношениях загадка. У Вас есть гениальность, но что-то мешает Вам развернуться вширь и вглубь. От Вас ждешь чего-то необычайного, но ожидания эти оправдываются лишь в известной мере. Хочется содействовать полному расцвету Вашего дарования, хочется быть Вам полезным, но прежде чем я решусь высказать Вам что-нибудь определенное, нужно будет подумать. А что, если Вы идете именно так, как следует, и я только не понимаю Вас?»
В последующие приезды Чайковского в Петербург Александр Константинович все пытался узнать, что же хотел Петр Ильич сказать в своем письме, и несколько раз спрашивал его об этом.
– У тебя неисчерпаемые запасы музыки, а вот, по-видимому, ты стараешься придумывать темы, – сказал как-то Чайковский.
А в другой раз на вопрос, что же является главным недостатком в его произведениях, ответил:
– Некоторые длинноты и отсутствие пауз.
Но в общем-то Александр Константинович понял, что Чайковскому не хватало в его музыке той непосредственности и глубокой человечности, которая была свойственна собственным сочинениям Петра Ильича. Подтверждение этой мысли он давно уже пытался найти не только в словах композитора, но и в его музыке. Глазунов изучал произведения Чайковского, открывая в них каждый раз что-то новое, захватывающее. Порой это новое становилось приемами и его творчества, неотъемлемыми и необходимыми.
Мир человеческих чувств начал занимать в музыке Глазунова все большее место. Давно уже была закончена посвященная Чайковскому третья симфония, где еще не совсем умело, а иногда и наивно он заявлял о переходе на позиции «новой веры». Четвертая симфония, которую он дописывал в эти дни, получилась более органичной. Новые увлечения прочно срослись в ней со старыми заветами учителей, и произведение оказалось оригинальным и ярким. Втайне он и сам гордился своим детищем, но, слушая симфонию Чайковского, проверял себя еще и еще раз.
16 октября состоялся концерт, на котором была исполнена шестая симфония Чайковского. Однако – то ли композитор, который всегда очень волновался при дирижировании своими произведениями, не сумел донести ее до слушателей, то ли музыка показалась слушателям очень новой и необычной – успеха она не имела.
Александру Константиновичу симфония нравилась, и он переживал неудачу Чайковского так болезненно, как будто присутствовал на провале собственного сочинения. Сразу же после концерта он поспешил в артистическую, испытывая непреодолимую потребность сказать что-то теплое, какие-то слова ободрения и утешения. Но, увидев лицо Чайковского, понял, что говорить ничего не нужно.
Молча они вышли из здания и пошли по улицам. Когда же молчание стало невыносимым, Петр Ильич, видимо продолжая свои мысли, сказал:
– Не люблю первых исполнений. Они всегда почему-то разочаровывают в новой вещи. Кажется, что она получилась совсем не такой, какой была задумана. Но шестой симфонией я горжусь. И даже теперь считаю, что она – самое лучшее мое детище.
Сказав это и как бы устыдившись своей откровенности, а может быть, просто желая отвлечься от грустных мыслей, он переменил тему разговора и стал расспрашивать Глазунова о его новых произведениях. Услышав о четвертой симфонии, он сказал:
– Может быть, вы придете ко мне с ней? В среду. Вечером.
Отправляясь в среду к Чайковскому, Александр Константинович очень волновался. Идя по улицам, он вспоминал музыку каждой части, пытаясь угадать, что в ней для Петра Ильича может быть особенно близко.
Глазунов задумал симфонию еще весной, и она получилась по-весеннему взволнованной и трепетной. Правда, медленное вступление немного сумрачно и грустно. Мелодия английского рожка полна печали. Это – то ли картина зимы на исходе, то ли первая и еще робкая белая ночь с ее непонятной тревогой,– одна из тех ночей, которые он так любил:

Но постепенно печальная тема, поднимаясь во все более и более высокий регистр, светлеет. Кажется, что она принесла с собой радостное утро, ласковое и чистое. Такое утро, когда сердце переполняется радостью и кажется, что обязательно сбудется все, о чем мечтаешь.
Главная тема симфонии – тема надежд и мечтаний – стремительная и легкая:

Она звучит сначала у гобоя высоко и прозрачно, а потом появляется у виолончелей, контрабасов и фаготов. Возникают два голоса, один высокий и нежный, другой низкий и мужественный. Рождается напряженный дуэт: на взволнованные вопросы виолончелей пленительно ласково отвечают скрипки[11]11
Партия виолончелей удвоена здесь альтами, а партия скрипок – флейтами.
[Закрыть].
Это один из тех диалогов, в которых главную роль играют не слова, а что-то гораздо более неуловимое и вместе с тем красноречивое.
То на любовь мою в ответ
Ты опустила вежды.
Тут вступает вторая, чарующе-пленительная, мелодия, выросшая из темы вступления:

Неожиданно в светлую музыку врываются искаженные, неузнаваемо резкие и драматичные фразы кларнетов. Им отвечает тревожное соло валторн. Но не надолго нарушаются покой и мир.
Утро разгорается все ярче и ярче. В вышине торжественным хором поет разноголосый трепещущий лес. Снова слышится взволнованный дуэт, и напряжение ожидания сменяется счастливыми слезами.
И плакал я перед тобой,
На лик твой глядя милый...
И это утро в лесу, и любовь сливаются в одно неповторимое мгновение. На память приходят строки незабываемого стихотворения Алексея Толстого:
О лес! о жизнь! о солнца свет!
О свежий дух березы!
Скерцо начинается стремительным движением. В неизменном ритмическом рисунке у фаготов повторяется созвучие пустой квинты:

Будто видишь веселое народное шествие с танцами, пением и простеньким народным оркестром. Вот и задорная песенка. Она так светло и прозрачно звучит у кларнетов и флейт. Иногда кажется, что это – шествие сказочных берендеев, вышедших встречать весну, или полет самой весны. В нем столько призывных, торжественных фанфар, что теперь вспоминается тютчевская весна:
Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...
Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»
Постепенно мелодия скерцо замирает, и на смену ей приходит вальс. Петр Ильич ведь тоже включал вальсы в свои симфонии. Но если вальсы Чайковского рождены мечтательностью и грустью, то его вальс – игрой самых мягких лучей, игрой света и тени. Это – чистый, прозрачный воздух весеннего дня, это пробуждение нежности.
Затем возвращается первая тема, безудержно нетерпеливая и бурная, потом она сливается с темой вальса, и снова торжественные фанфары трубят:
Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Третья часть симфонии – финал. Как и первая часть, он начинается медленным вступлением:

На фоне мягкого сопровождения у скрипок рождается печальная мелодия кларнета. Постепенно движение убыстряется, торжественно-призывно звучат трубы, и в ответ на этот клич является легкий марш. Он исполняется почти всеми инструментами оркестра, но не теряет от этого стремительности. Гобой вступает с мягкой, по-весеннему теплой темой. Ее подхватывают скрипки и флейты, и она светло звучит в высоком регистре.
Это спокойное течение музыки ненадолго прерывается сумрачными фразами тромбонов. Изменяется мелодия марша. Ее отрывистые звуки напоминают теперь звенящие капельки. Думается: все-все в эти дни наполняется радостью, и первая майская гроза,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом,
и снова проглянувшее солнце, и пьянящий аромат воздуха. Как хорошо жить и дышать в такой майский день! С каким теплом, с какой благодарностью вспоминаются теперь самые первые дни весны и незабываемое утро в лесу!
Вот светлой тенью мелькают обе темы первой части, а потом, сплетаясь, звучат вместе. И снова возвращается торжественный марш, и трубы славят жизнь, и весну, и счастье!
– Пожалуй, одновременное сочетание столь различных тем получилось удачным. Да и возвращение в финале мелодий первой части прозвучит свежо. Нет, положительно симфония должна ему понравиться, – решил наконец Александр Константинович и уже смело вошел в квартиру.
У Чайковского было необычно тихо. Бледный, с запавшими глазами, Петр Ильич с трудом поднялся ему навстречу.
– Не подаю вам руки, Саша, – сказал он, извиняясь.– Я, кажется, заболел. Предполагают даже холеру. Я, правда, мало верю в это. Но, на всякий случай,– не подходите. И давайте на сегодня наше свидание отменим. А?
Через несколько дней Чайковского не стало. Шестая симфония, исполненная вскоре под управлением Э. Ф. Направника, потрясла слушателей до слез. То в одном, то в другом конце зала мелькали белые платки, раздавались приглушенные рыдания.
После концерта к Глазунову подошел Николай Андреевич.
– Какая это, оказывается, прекрасная музыка! – сказал он.– Как жаль, что я не сказал ему этого при жизни.




