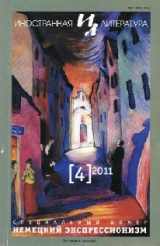
Текст книги "Немецкий экспрессионизм (сборник)"
Автор книги: Альфред Дёблин
Соавторы: Эльза Ласкер-Шюлер,Альберт Эренштейн,Альфред Лихтенштейн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Погоди-ка, – откликнулась та, – я встану и что-нибудь приготовлю.
Он отошел за ширму и присел на свою постель. Большие пятна крови остались на подушке и скомканных простынях,
валявшихся на кровати и на полу. На стуле рядом с кроватью Тобиас увидел револьвер. Он зарядил шесть лож барабана и сунул оружие в карман.
Он был совершенно спокоен, но бесконечно устал. Марион оделась и прошла в кухонную нишу, чтобы на газовой плите приготовить суп.
Тобиас молча смотрел через окно на пригородные пустыри.
Здесь еще шло строительство. Тянулись земельные участки, обнесенные проволочной сеткой и поросшие грязной травой. Асфальтированные улицы, на которых пока не было домов, пересекались и уходили вдаль, исчезая в блеске утреннего солнца. Птицы нежно пели. Небо, глубокого синего оттенка, посылало мягкие дуновения. Отара кудлатых облаков медленно брела по лазурному лугу.
Марион принесла суп, густой и наваристый; Тобиас выхлебал его в мгновение ока. Несколько ломтиков черствого хлеба, принесенных девушкой, он тоже съел. Как всегда, когда прекращалось воздействие кокаиновой отравы на желудок, Тобиаса мучили волчий аппетит и жажда. Он съел две полные тарелки супа. Марион была приветлива и добра, даже болтала с ним. Она не просила его отказаться от кокаина. Знала, что такие просьбы бесполезны.
В нем жила огромная благодарность к этому доброму созданию, единственному человеку, который не оттолкнул его – отщепенца, не имеющего друзей, с отвращением извергаемого всяким домом, как извергают блевотину.
– Деньги у тебя есть? – спросила Марион. Он отрицательно качнул головой.
– У меня осталась последняя марка, я могу дать тебе из нее пятьдесят пфеннигов. И вот еще: пищевые талоны Народной кухни.
Она отдала их ему.
Тут он уронил голову на стол и заплакал. Рыдание само прорвалось из груди. Он схватил нежную девичью руку и прижался к ней своим безумным лицом. Рука повлажнела от слез. Марион тихо гладила его по волосам:
– Бедный Тобиас!
IX
Он еще немного посидел у нее. Затем решительно схватил свою шляпу, поцеловал на прощание руку Марион и удалился.
Он принял меры, чтобы на лестнице не попасться никому на глаза. Странно было спускаться там, где еще недавно к нему приставали призраки. Он чувствовал во рту неприятный привкус.
Внизу, у подъезда, его приветствовало ясное и радостное солнечное сияние.
Тобиас решил погулять по окрестностям, бесцельно бродил по пустынным улицам. В этот ранний утренний час прохожие попадались редко.
Колокола близлежащих церквей начали раскачиваться; протяжный, далеко слышный звон разливался в воздухе – таком прозрачном и свежем, какой Тобиасу еще не доводилось вдыхать.
Тобиас брел от одной живописной площади к другой и дивился разноцветным домам, которые с непостижимым спокойствием – словно точеные шахматные фигуры – тянулись в это наполненное песнопением небо. Было воскресенье. Маленькие серебристые облака медленно плыли по вышнему синему морю и скапливались в гавани горизонта.
Тобиас вышел к Императорской аллее.
Трамваи, позвякивая и громыхая, проносились мимо: их затягивал вихрь жизни, движения.
На площади Фридриха Вильгельма Тобиас обошел вокруг красной церкви. Ему хотелось войти туда. Но, приблизившись к входу, он почувствовал, что внутри есть люди.
И его снова охватила эта угрюмая робость, этот порожденный ночными муками страх, который гнал его ото всех накрытых столов, ото всех людей и из всех помещений.
Нет для него выхода!
Он остановился и разжал ладонь. Рассматривал ее долго и в глубокой задумчивости. Затем оглядел свой грязный костюм, стоптанные сапоги. На рукавах светлого пиджака проступили пятна крови, и на брюках тоже остались ее следы.
Когда за спиной у него зазвучали шаги, он вздрогнул.
Это был священник, идущий в церковь.
Тобиас медленно двинулся дальше по аллее, вдоль палисадников.
На каком– то балкончике завтракали отец, мать и дети. Раздался веселый смех. Тобиас украдкой взглянул на смеющихся. В нем снова шевельнулся голод.
…Тут он понял, что не переживет вечер этого воскресенья.
Могучий демон больше не схватит его и не толкнет во мрак.
У него нет ничего, чему он мог бы порадоваться. Он – неимущий изгой, больной и всеми проклинаемый. Нет у него ни еды, ни денег, ни приличной одежды, ни жилья, ни друзей, ни ближних. А главное – нет воли, нет сил, чтобы обрести все это.
Отрава, ставшая для него судьбой, разлеглась, словно гигантский зверь, над целым городом, над линией горизонта и над самой жизнью Тобиаса: Харибда, которая проглотит его, от которой нельзя спастись.
Он, израненный, так и будет, стараясь не привлекать к себе внимания, каждодневно влачить свою жизнь от утра до вечера – пока один из вечеров не ввергнет его в безумие.
Он вошел в первый попавшийся подъезд и достал револьвер. Снял его с предохранителя; задумался, как бы половчее выстрелить. В конце концов открыл рот и прижал дуло к небу. Так будет хорошо.
Он спустил курок. Звук выстрела гулко разнесся по дому.
Тобиас рухнул, словно упал перед кем-то на колени.
Сбежавшиеся жильцы нашли его тело. Ошметки мозга висели повсюду: по стенам, на перилах и ступенях лестницы.
На улице щебетали птицы, и какой-то трамвай прогрохотал сквозь утро – вниз по аллее, в сторону центра Берлина.
1917
Эльза Ласкер-Шюлер Будь мое сердце здоровым… Кинематографическое
Перевод Евгения Воропаева
Рассказ впервые был опубликован в книге Эльзы Ласкер-Шюлер «Лица. Эссе и другие истории» ["Gesichte. Essays und andere Geschichten", 1913]. В том же 1913 году поэт-экспрессионист Клабунд писал в журнале «Рево-люцьон»:
Сердце этой Ласкер… Искусство Эльзы Ласкер-Шюлер родственно тому, что делает ее друг, синий всадник Франц Марк. Сказочно-пестры все их мысли и подбираются к нам крадучись, как пестрые звери. Иногда они выходят из леса на просеку, как нежные красные косули. Спокойно пасутся и с удивлением поднимают стройные шеи, услышав, как кто-то ломится сквозь заросли. Они никогда не убегают. Но предстают перед нами в телесной осязаемости.
Эльза Ласкер-Шюлер носит свое сердце на груди, на золотой цепочке. Она не ведает стыда: каждый может смотреть. (Но она не чувствует, когда кто-то рассматривает ее сердце. Да ей, в общем, и все равно.) Она любит только себя, знает только себя. Объекты, хранимые в ее сердце, «…» суть оловянные солдатики, с которыми она играет. Но она страдает от этих солдатиков; и, когда о них говорит, слова выходят из ее нутра сгустками крови.
1. Клабунд (наст, имя Альфред Хеншке; 1897-1928) – немецкий поэт, драматург, прозаик, переводчик, автор текстов для кабаре. (Здесь и далее -прим. перев.)
БУДЬ мое сердце здоровым, я бы прежде всего выпрыгнула из окошка; затем я отправилась бы в синема и никогда бы не вышла оттуда. Чувствую я себя в точности так, будто выиграла главный денежный приз и пока еще не получила его, или как если бы в конной лотерее выиграла лошадь, а «даровой» конюшней обзавестись не смогла. Жизнь ведь, собственно говоря, это драма винтовой лестницы: все время по кругу поднимаешься вверх и снова спускаешься вниз, кружась вкруг себя, как звезда на небе. Я – в радостном отчаянии, в отчаянной радости; охотнее всего я бы отколола какой-нибудь смертельный номер или веселую выходку. Моя подруга Лауренсия кутит напропалую: она изучает язык древних господ – я имею в виду греческий и латинский – и добилась больших успехов. Однако что мне за дело до всего этого; я не желаю знать ничего, ничего. Если бы только оно не колотилось!
Мозг лихорадочно работает, сердце колотится не только каждую пятницу и субботу – так, что взвихривается каждая пылинка, – но также и в остальные дни недели, ибо живу я меж домом и домом, и мне приходится переносить грубость всех дворов. Я всегда сижу при закрытых окнах и ничего не получаю от лета; я никуда не выхожу: я пишу истории привидений; и у меня – долги. К тому же сквозит, если я оставляю открытыми двери, – справа, и слева, и за спиной. С тех пор как поселилась в этой квартире, я ношу кошачью шкурку; и, если на вечер меня приглашают куда-то, меня охватывает ужасный страх, что я начну там мяукать. Жизнь больше не доставляет мне удовольствия, хотя люди еще хотят читать мою лирику; кто охотно ее читает, тот непременно должен как-нибудь написать мне симпатичное письмецо. Дело в том, что мне приходится, вследствие моей болезни, принимать ванны с кисличной солью, чтобы никто не ступил из-за меня на скользкий путь. Я всегда очень скучаю, пока сижу в ванне, там-то я и читаю с большим удовольствием адресованные мне лестные письма. До чего же раздражают плохие рецензии! Сразу начинаешь ценить всякого, кто написал о тебе доброе слово. Симпатичные создания на свете еще не перевелись. Я только терпеть не могу бледнолицых, ибо не очень-то доверяю свету. И потому нанимаю себе только темнокожих служанок и слуг. У меня служат два негра и две индианки; отец Текофи, вождь племени, иногда наведывается в Берлин и со своею труппой выступает в кабаре "Chat noir".
1. Средство для выведения пятен.
Текофи всякий раз, как его отец приезжает в Берлин, спрашивает, нельзя ли ему пожить у меня на балконе. Я ничего не имею против. Мой сомалийский негр – королевских кровей, его отец владеет на Тенерифе большими стадами баранов. Время от времени он посылает мне по нескольку освежеванных баранов, из них получается превосходное рагу с легким привкусом тления. Осман, другой мой негр, – помоложе, похож на задумчивую гориллу, сидящую в цветочном горшке. Злобное существо – с великолепной наружностью, но лучше его не нервировать; с недавних пор я даже и ухом не веду, если он собирается откусить кому-то башку: он слишком хорош, слишком драгоценен, чтобы повиноваться, пусть даже мне. Обе мои индианки – девушки очень старательные; я наняла их, чтобы они искали нити моей логики и находили логику в моих разговорах. Иногда им приходится заниматься поисками всю ночь, я даже опасаюсь, как бы они в один прекрасный момент не повесились – обе разом – на моей греховодной нити. Надо признать, темнокожие люди – плохие ищейки: они ничего не могут найти в ночном мраке, источаемом их кожей. Ах, так что же я сделала бы, будь мое сердце здоровым? Есть ли у меня вообще сердце или хоть что-то подобное? От такого "приложения к программе" поневоле заплачешь – хорошо, что остались еще ореховые палочки, для утешения, а также мятные леденцы в деревянной упаковке. Я не верю, что сердце у меня из плоти и крови, что его стенка – с трещиной; оно обладает не сиюминутной, а вечной ценностью, поэтому ближним я пригодиться не могу, интересна я только исследователю. Телефонный звонок раздается всегда в самый эффектный момент.
– 35-24 слушает, кто говорит?
– Доктор Никито Амброзиа, вы – Эльза Ласкер-Шюлер?
– К несчастью.
– Не торопитесь торжествовать, сударыня, я только хотел осведомиться, с совершеннейшим к вам почтением, не примете ли вы ангажемент на выступление в Зимнем саду, с содержанием в тысячу марок помесячно? В год это составит круглым счетом десять тысяч марок.
– Вы, должно быть, шутите, сударь, ведь артистов не принято приглашать в варьете более чем на месяц.
1. «Черный кот» (франц.).
– Однако мы, сударыня, крайне заинтересованы в том, чтобы привязать вас к нашему варьете.
– Речь, вероятно, идет о моей арабской сценке, господин доктор Амброзиус?
– Совершенно верно! О той, где вы сидите на верблюде, возвышаясь над Фивами.
– Сударь, я вас узнала: такого неприукрашенного баса в варьете быть не может. Вы – профессор Геллерт, последняя надежда Гогенцоллернов!
Конец связи! Пишу письмо: "Адрианопольскому возлюбленному моего сердца!" Дело в том, что он спрашивал, по-прежнему ли я люблю его, и просил не лгать. Я все-таки не дам ему материала для лирики (он поэт): "Ну да, люблю! И хватит!" Но я могла бы ненадолго посетить Турцию, учитывая, что всех моих предков носили в паланкинах. Потомуто ходьба мне в тягость. Когда у вас ступни замерзают, у меня они все еще горят. Будь мое сердце здоровым, что бы я тогда сделала? Секундочку! Я бы разделась и, как стриженный догола пудель, бросилась бы в пресную воду, где живут кроткие рыбки, – но от чешуек бы точно отказалась. Или отправилась бы на Южный полюс и наконец хорошенько согрелась; или, во всяком случае, распорядилась бы, чтобы в этой ледяной зоне поставили отапливаемую углем печку. Что бы я сделала еще? Я бы остановилась, из упрямства, точно на линии тропика. Пририсовала бы созвездиям усища. Ну не обидно ли, не во вред ли самому небу, что сердце у меня нездорово? Все сердечные недуги – от Луны, неврозы особенно. Все болезни приходят сверху. Здесь же, внизу, все очень славно. И потому-то столь многие авиаторы обрушиваются с неба: сам летательный аппарат ведь никогда не раскалывается, однако пилоты заболевают падучей, когда, взлетая все выше и выше, они вдыхают бациллы звезд. Как выглядят авиаторы? Как птицы: носы их – клювы, а головы тянутся вверх. Новый человеческий род. Однажды со мною обедал один воздухоплаватель, так он обклевывал мясо, как ястреб, рвал шницель, как стервятник. Подруга Карла Фолльмеллера, великолепная Катарина фон Арманьяк – первая женщина-авиатор в мире. На выставке средств воздушного сообщения в «Унионтеатр», возле Зоологического сада, они все летают. Я же могу смотреть безвозмездно: я обещала написать репортаж. Денег у меня нет, но это еще не повод, чтобы отгораживаться от мира. И даже больше того: мне предстоит взять на себя правление в Фивах; я даже уже правлю, формально. Берлинская публика поговаривает, что у меня навязчивая идея. Навязчивая идея – это нечто естественное: естество, порабощающее закон. Я – принц Фиванский. В Германии только император Вильгельм способен понять, что для меня значит правление. У меня, между прочим, весьма пестрый народ. По ночам я лежу на крыше, а днем сижу под пальмой и правлю. Я в ответе за все; народ порою косится на меня, от неопределенности, – думая, что я дурачусь; но я и к дурачествам отношусь с величайшей серьезностью. Я ничему не оказываю предпочтения – только людям. Часто бываю несправедливой, потому что у меня есть вкус, есть художественное чутье; обращаясь к народу, не ссылаюсь на текущий момент, ибо не хочу связывать себя обязательствами. Более всего я терпима по отношению к себе, я милостива к себе, я единодушна с собой – из дипломатических соображений, ибо народ мой должен за меня держаться. Я только слишком много размышляю, нелицеприятно и непосредственно, я все свои мысли подпускаю совсем близко ко мне, чтобы они разучились бояться. Ах, если бы только меня не беспокоили с раннего утра – и в таком количестве – цирюльники-мусульмане, желающие сделать мне татуировку, и западные художники, которые жаждут написать мой портрет! По ночам мой сон на крыше постоянно прерывают паши, которые никак не оправятся от воодушевления по поводу моего восшествия на престол. Всякий раз во время аудиенции, которую я им даю, они забывают задать вопрос, приведший их ко мне. С тех пор как меня избрали принцем-регентом Фив, по улицам города снуют множество честолюбцев, которые подражают мне в одежде и жестах и надеются во всем сравняться со мной. Эпигоны! Умение править – это искусство: такое же неотъемлемое от человека качество, как способность к живописи, поэзии или музыке. Эпигонство же – только деятельность, потому оно и приносит доход, как любая работа. Я никогда не работаю, я ненавижу письменный стол – хотя у меня и есть таковой, но письменным столом и только он никогда не был. Нынешней ночью, когда мои негры спали, паши взломали дверь на крышу, ради почтовых марок. Ночью меня сфотографировали в профиль (так я выгляжу лучше, чем анфас) в тюрбане и мантии правителя, в самых разных цветах; теперь во всех почтовых отделениях города можно увидеть портреты Моего Высочества.
1913
Альфред Деблин
Убийство одуванчика
Рассказ
Перевод и вступление Татьяны Баскаковой
Этот рассказ (1910), вошедший в первую опубликованную книгу Деблина "Убийство одуванчика и другие рассказы" ["Die Ermordung einer Butterblume. Erzahlungen", 1913] и ставший одним из самых известных образцов немецкой экспрессионистской прозы, кажется вариацией на тему баллады
И. В. Гете
.
Дикая роза
Мальчик розу увидал. Розу в чистом поле, К ней он близко подбежал. Аромат ее впивал. Любовался вволю. Роза, роза, алый цвет. Роза в чистом поле!
«Роза, я сломлю тебя. Роза в чистом поле!» «Мальчик, уколю тебя. Чтобы помнил ты меня! Не стерплю я боли». Роза, роза, алый цвет. Роза в чистом поле!
Он сорвал, забывши страх. Розу в чистом поле. Кровь алела на шипах. Но она – увы и ах! – Не спаслась от боли. Роза, роза, алый цвет. Роза в чистом поле!
Перевод Д. Усова
Интересно, что герой рассказа, господин Михаэль, характеризуется как «состарившийся ребенок», и в ряде других мест подчеркиваются черты присущего ему инфантилизма.
Сюжет деблинского рассказа парадоксален: в нем описывается психология преступника-обывателя, который, собственно, никакого преступления не совершил, но вполне подготовлен (своим образом жизни, жизненными принципами) к тому, чтобы его совершить. А если иметь в виду, что действие рассказа разворачивается на дороге к монастырю Святой Одилии, которая наделяет верующих истинным зрением, способностью видеть в окружающем мире следы божественной любви, то рассказ допустимо понять и так, что божественное чудо – даже если оно свершится – вступит в противоречие с психологией воспринимающего это чудо человека и может привести к самым неожиданным, диким последствиям…
ОДЕТЫЙ в черное господин поначалу считал свои шаги, раз, два, три… до ста и обратно, пока поднимался по широкой дороге в еловом лесу на Одилиен-берг – вихляя бедрами, иногда даже пошатываясь; но потом он забылся и считать шаги перестал.
Светло– карие глаза, дружелюбно вылупленные, смотрели на землю, норовившую выскользнуть из-под ног, а руки от самых плеч болтались, так что белые манжеты выскочили и наполовину закрыли кисти. Когда желто-красный вечерний свет, пробившись между стволами, заставлял глаза щуриться, голова дергалась, ладони поспешно складывались в негодующе-оборонительный жест. Тонкая прогулочная трость, зажатая в правой руке, хлестала по траве и цветам на обочине, по-своему наслаждаясь цветением.
Пока господин все еще спокойно и беззаботно шествовал своим путем, трость застряла в одном из редких здесь кустиков сорной травы. Наш солидный господин не хотел останавливаться, двинулся было дальше, потянув рукоять, но… обиженно оглянулся на собственную руку, трость пришлось выдергивать – сперва тщетно, потом успешно, обеими руками; он, задыхаясь, метнул два быстрых взгляда на палку и на траву, так что золотая цепочка на черной жилетке подпрыг-нула, и… отпрянул.
1. Гора Святой Одилии – монастырь и центр паломничества в Эльзасе (теперь Франция), недалеко от Фрайбурга-в-Брейсгау. Святая Одилия (660-720) была от рождения слепой, но прозрела; ее иконографический атрибут – изображенные на раскрытом Евангелии глаза. К этой святой обращаются с молитвой о даровании физического и душевного здоровья, а также – способности видеть в земном мире следы Божественной любви» (Здесь и далее прим. перев.)
Мгновение толстяк простоял на месте, он был вне себя. Жесткая шляпа сползла на затылок. Господин рассматривал обнаглевшее растение, потом кровь бросилась ему в голову, и он, размахнувшись тростью, устремился на немого противника. Наносил удары не глядя. Над дорогой разлетались сбитые стебли и листья.
Отдуваясь и сверкая глазами, господин отправился дальше. Деревья обгоняли его; но он ничего не замечал. У него был вздернутый нос и плоское безбородое лицо, лицо состарившегося ребенка с очаровательным ротиком.
Дорога резко свернула в гору, надо было сосредоточиться. Господин зашагал поспокойнее и, все еще раздраженный, смахнул с носа каплю пота; тут он осознал, что черты его лица исказились, а грудь бурно вздымается. Он испугался, подумав, что, неровен час, кого-то встретит: делового знакомого, например, или даму. И поспешно провел рукой по лицу: убедился благодаря этому вороватому жесту, что морщинки разгладились.
Идет он спокойно. Так почему все не может отдышаться? Он пристыженно улыбнулся. Надо же, подскочил к цветам и своей тросточкой учинил настоящую бойню, даже замахивался весомо и с верным прицелом, как когда раздавал оплеухи ученикам, если в конторе те недостаточно ловко ловили мух и не предъявляли ему, рассортировав по величине.
Солидный господин часто покачивал головой, размышляя о странном происшествии. "В городе поневоле становишься нервным, это город делает меня невротиком". Он в задумчивости вильнул бедрами, снял жесткую английскую шляпу и помахал ею, чтобы остудить шевелюру лесным воздухом.
Вскоре он опять считал шаги: раз, два, три… Нога за ногу, руки болтаются по бокам. Но вдруг, скользнув пустым взглядом по обочине, господин Михаэль Фишер увидел коренастого человека – себя самого, – который делает шаг назад, яростно бросается на цветы и напрочь сбивает одному одуванчику голову. Зримо предстало перед ним то, что прежде случилось на затененной дороге. Этот цветок, там, как две капли воды походил на все прочие. Но почему-то именно он, один, привлек взгляд господина Михаэля, его палку, его руку. Рука поднялась, тросточка просвистела… Вупп, и головы цветка как не бывало. Голова эта пролетела по воздуху, исчезла в траве. Бешено заколотилось сердце нашего коммерсанта. Отделенная от тела цветочная голова, шмякнувшись на траву, стала в нее ввинчиваться. Глубже, все глубже, сквозь дерновый слой в землю. Теперь она так торопилась попасть в нутро земли, что удержать ее было уже не под силу ничьим рукам. А сверху, из обезглавленного тела, капала, стекала с обрубка шеи в дыру белая кровь: сперва понемногу, как слюна из уголка рта, потом – широкой струей; подползала склизким желтовато-пенным потоком к господину Михаэлю, который тщетно пытался бежать, отпрыгивал вправо и влево, готов был даже перепрыгнуть через струю, но та уже лизала его ботинки…
Господин Михаэль механически надел шляпу на вспотевшую голову, прижал руки с тростью к груди. "Да что же это? – спросил он себя через некоторое время. – Я не пьян. Голова цветка не может никуда провалиться, она должна просто лежать, лежать в траве. Я убежден, что сейчас она спокойно лежит в траве. А что касается крови… Я, между прочим, не помню этого цветка, я абсолютно ничего не помню".
Он, смущенный и настороженный, удивлялся себе. Все в нем, оторопевши, наблюдало ту сцену странного возбуждения, с ужасом думало о цветке – его упавшей головке, кровоточащем стебле. Господин Фишер все еще мысленно перепрыгивал через тот мутный поток. Что если его увидит кто-то из деловых знакомых… или дама.
Господин Михаэль Фишер напыжил грудь, правой рукой крепче обхватил трость. Окинул взглядом сюртук и утвердился в этой независимой позе. Со своевольными мыслями пора покончить: надо взять себя в руки. Строптивцам он, шеф, потакать не будет. Его подчиненным, определенно, строгость не повредит. Кто у нас сегодня дежурный? В моей конторе так себя не ведут. Слуга, выкиньте наглеца за дверь! Остановившись, он размахивал палкой в воздухе. Лицо господина Фишера стало холодно-неприступным: дескать, еще посмотрим… Чувство собственного достоинства раздулось настолько, что он на этой горной дороге даже сумел посмеяться над собственными страхами. Представил комизм завтрашней ситуации, когда на всех афишных тумбах Фрайбурга появится красный листок с объявлением: «Убит совершеннолетний одуванчик женского пола, на дороге из Имменталя в Одилиенберг, между семью и девятью вечера. В убийстве подозревается…» Так подтрунивал над собой тучный господин в черном, радуясь прохладному вечернему воздуху. Там внизу стайка маленьких девочек или двое влюбленных завтра обнаружат то, что сотворила его рука. Поднимется крик, дети в ужасе кинутся домой. О нем будут размышлять чиновники криминальной полиции – об этом убийце, лукаво посмеивающемся в кулачок. Господин Михаэль содрогнулся, подумав о своей безумной дерзости: он никогда не считал себя настолько порочным.
Там внизу, однако, осталось видное всему городу доказательство его кипучей энергии. Окоченелый труп торчит вертикально вверх, белая кровь сочится из обрубленной шеи. Господин Михаэль, словно защищаясь, приподнял кисти рук.
Там на срезе – свертывающаяся кровь, вязкая и клейкая, муравьи прилипают к ней…
Господин Михаэль растер себе виски и с шумом выдохнул воздух.
А рядом в траве гниет голова. Она будет расплющена, разрушена дождем, начнет разлагаться. Превратится в желтое вонючее месиво – зеленовато, желтовато мерцающее, склизкое, как блевотина. И вот оно уже снимается с места, как живое, течет к нему, именно к господину Михаэлю: хочет его утопить, плещется об его тело, брызгает в нос. Он подпрыгивает, прыгает на цыпочках…
Чувствительного господина передернуло. Во рту он почувствовал противный привкус. Сглотнуть от отвращения не мог, непрерывно отплевывался. Часто спотыкался, беспокойными прыжками двигался дальше, губы у него посинели.
"Я отказываюсь, решительно отказываюсь вступать в какие бы то ни было отношения с вашей фирмой".
Он прижал к носу платок. Мертвую голову нужно убрать, стебель прикрыть, затоптать, зарыть. Лес пахнул растительным трупом. Запах сопровождал господина Михаэля, становился все интенсивнее. Надо бы посадить на том месте другой цветок, с приятным запахом, – целый сад гвоздик. А тот труп среди леса… Его нужно убрать. Убрать.
Господин Фишер хотел было остановиться, но тут в голове мелькнуло, что возвращаться смехотворно, более чем. Что ему за дело до одуванчика? Горькая ярость вспыхнула в нем при этой мысли, застав врасплох. Он не сдержался, укусил себя за указательный палец: "Ну-ну, смотри у меня, кому говорю, следи за собой, проклятый негодник!" В ту же секунду на него навалился сзади чудовищный страх.
Помрачневший толстяк робко оглянулся, сунул руку в брючный карман, вытащил складной ножик и, щелкнув, раскрыл.
Тем временем ноги топали себе дальше. Ноги начали его раздражать. Они тоже были не прочь ополчиться против своего господина; его возмущало их своевольное продвижение. Этих лошадок он скоро приберет к рукам. Пусть почувствуют. Острые шпоры в бока – и подчинятся, никуда не денутся. Они уносили его все дальше. Выглядело это, будто он бежит с места преступления. Нельзя допустить, чтобы кто-то так подумал. Шум крыльев, отдаленные всхлипывания плыли в воздухе – словно поднимались откуда-то снизу. «Стоять, стоять!» – закричал господин Михаэль ногам. И вонзил нож в первое встречное дерево.
Двумя руками обнял он ствол, потерся щекой о кору. Пальцы его шевелились, будто месили тесто: "В Каноссу мы не пойдем". Нахмурившись, смертельно бледный господин изучал трещины на дереве; пригнул спину, будто кто-то сзади должен через него перепрыгнуть. Он снова и снова слышал дребезжание телеграфных проводов, соединявших его с конторой; тем не менее пытался пинками ноги эти провода запутать и раздавить. Он хотел скрыть от себя, что ярость его уже улеглась, что в нем дрогнуло тихое сладострастие – сладострастное желание поддаться. Где-то очень глубоко обнаружилось это похотливое влечение к цветку и к месту убийства.
Господин Михаэль на пробу качнул коленями, принюхался и прислушался к тому, что надвигалось со всех четырех сторон, испуганно прошептал: "Я хочу только закопать эту голову, больше ничего. Тогда все будет в порядке. Быстрее, прошу, прошу…" Он недовольно прикрыл глаза, повернулся, будто по ошибке, на каблуках. И, как ни в чем не бывало, побрел назад, размеренным прогулочным шагом: с тихим присвистыванием, в которое вкладывал беззаботный тон; похлопывая по пути, когда освобожденно выдыхал воздух, стволы деревьев. При этом он улыбался, и ротик становился круглым, как дырка. Он даже громко затянул песню, которая вдруг ему вспомнилась: "Зайка в яме крепко спит…" Вернулся к прежнему пританцовыванию, покачиванию бедрами, размахиванию руками. Тросточку он, сознавая свою вину, задвинул поглубже в рукав. И несколько раз, когда дорога сворачивала, быстро оглядывался: не наблюдает ли кто за ним.
Может, она вообще еще жива; да, с чего он взял, что бедняжка умерла? Мелькнула мысль, что покалеченную можно и вылечить, если воткнуть в качестве опоры палочку и, допустим, примотать к ней голову и стебель клейкой лентой.
1. Эта немецкая песенка-игра для детей дошкольного возраста, известная с 1840 г., возможно, влияла на поведение господина Михаэля еще раньше, когда он прыгал, ибо ее первая строфа звучит приблизительно так:
Зайка в яме крепко спит, крепко спит.
Может, у заиньки лапка болит?
Потому он в яме сидит – и молчок.
Ну же, прыгай – прыг-скок, прыг-скок!
Он зашагал быстрее, забылся, побежал. Вдруг начал дрожать от нетерпения. И на повороте дороги растянулся, налетев на поваленный ствол: ударился грудью и подбородком, громко охнул. Когда поднялся, забыл про упавшую в траву шляпу; сломавшаяся трость изнутри порвала ему рукав пиджака; он ничего не заметил. Хо-хо, его хотят задержать, но его ничто не удержит; пострадавшую он так или иначе найдет. Он снова выбрался на дорогу. Где же то место? Надо найти то место. Если бы можно было позвать цветок по имени… Ну и какое же у нее имя? Он даже не знал, как ее зовут. Эллен? Вероятно, ее зовут Эллен; даже наверняка. Он шептал в траву; наклонялся, чтобы рукой легонько подтолкнуть цветы.
– Эллен здесь? Где лежит Эллен? Эй, вы! Она ранена в голову; точнее – чуть ниже головы. Вы, может, еще этого не знаете. Я хочу ей помочь: я врач, добрый самаритянин. Ну, так где она лежит? Вы можете мне довериться, точно вам говорю.
Но как он мог бы узнать ее, им же сломленную? Может, он как раз сейчас сжимает ее в руке; может, она сейчас – рядом с ним – испустила последний вздох.
Такого не должно быть.
Он зарычал:
– Выдайте ее мне. Не делайте меня несчастным, собаки! Я – добрый самаритянин. Вы что, по-немецки не понимаете?
Он лег животом на землю, искал; под конец уже вслепую рылся в траве, мусолил и расплющивал стебли, в то время как рот его оставался открытым, а глаза прямо-таки сверкали. Он глухо бормотал:
– Выдадут. Но прежде обговорить условия… Прелиминарии… Врач имеет права на больного. Сослаться на законы…
Деревья, угольно-черные в сером воздухе, стояли вдоль дороги и повсюду вокруг. Было уже очень поздно; голова наверняка успела засохнуть. Эта последняя безотрадная мысль о смерти ужаснула его, как бы встряхнула за плечи.








