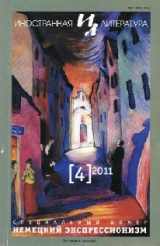
Текст книги "Немецкий экспрессионизм (сборник)"
Автор книги: Альфред Дёблин
Соавторы: Эльза Ласкер-Шюлер,Альберт Эренштейн,Альфред Лихтенштейн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Annotation
Мы попытались представить в этом номере ярких, своеобразных авторов – и писателей первой величины, и авторов менее значительных, которые рано ушли из жизни или по другим причинам написали мало,но оставили в литературе свой неповторимый след.
Немецкий экспрессионизм
Альфред Лихтенштейн
Альберт Эренштейн
Вальтер Райнер
Эльза Ласкер-Шюлер Будь мое сердце здоровым… Кинематографическое
Альфред Деблин

Немецкий экспрессионизм
Альфред Лихтенштейн, Альфред Деблин, Альберт Эренштейн
От составителя
Принято считать, что литературная ветвь экспрессионизма оформилась в Германии к 1911 году – когда было напечатано стихотворение Якоба ван Ходдиса «Weltende» («Конец света»), воспринятое как манифест нового движения, и впервые был употреблен (сперва применительно к художникам-участникам выставки берлинского Сецессиона, открывшейся в апреле 1911 года, а чуть позже – и применительно к поэтам) сам термин «экспрессионизм». Говорят еще об «экспрессионистском десятилетии» (1911-1922). Так что можно считать, что этой публикацией мы празднуем столетие экспрессионизма – течения, в своем литературном аспекте очень плохо известного в современной России, хотя тогда, в 10-30-е годы, были и русские экспрессионисты (необязательно так называвшиеся: Михаил Кузмин, например, братски приветствовал немецких экспрессионистов от имени русских эмоционалистов) , и интерес к немецкоязычной экспрессионистской литературе,и первые попытки ее перевода. Как это все закончилось, видно на примере экспрессионистского романа Альфреда Деблина «Горы моря и гиганты», русский перевод которого был издан и бесследно исчез в 1937 году (неизвестно даже имя переводчика).
Экспрессионизм был одним из крупнейших сдвигов сразу во многих сферах культуры – изобразительном искусстве,литературе, архитектуре, музыке, кино. Проявившись наиболее полно в Германии и Австрии, это течение перекинулось потом и на другие страны Европы, Америку, Японию – отчасти благодаря конкретным людям, которым пришлось эмигрировать из Германии.
Если попытаться кратко выразить суть этого явления, я бы сказала, что художники-экспрессионисты последовательно воспринимали искусство как независимую реальность, способную влиять на жизнь или вступать с ней в равноправный диалог.
1. Якоб ван Ходдис (наст, имя Ханс Давидзон; 1887-1942) – поэт-экспрессионист, погиб в концентрационном лагере.
Русская художница Марианна Веревкина, чьи произведения украшают обложки этого номера, писала, например, в "Письмах к неизвестному": "Искусство – это интеллектуальная функция, здоровая, сильная и искренняя, только другая форма мыслительной деятельности. Оно не бред, а философия. «…» Художник должен обладать видением внутренним и не принимать во внимание логику видения физического, привычного. «…» Творчество уподобляет человека Богу". Неслучайно по этому от экспрессионизма берут начало абстракционистские направления в искусстве. Задача сотворения иной реальности требовала каких-то новых, неслыханных изобразительных средств, и эпоха расцвета экспрессионизма в самом деле была временем многочисленных и очень смелых экспериментов с формой. Экспрессионизм оказал огромное влияние на развитие мирового искусства. Его история вовсе не закончилась с концом "экспрессионистского десятилетия". Художники-экспрессионисты, которым выпала долгая жизнь, как правило, и дальше сохраняли, органично развивая и модифицируя, идеалы и интересы своей молодости, свои стилистические предпочтения. Это можно сказать о таких крупных немецких писателях, как Альфред Деблин, Готфрид Бенн, Ханс Хенни Янн. Серьезные писатели следующих поколений не могли обойти вниманием их творчество, учились у них. После Второй мировой войны экспрессионизм не умер, а просто оказался на обочине литературы более скептичного послевоенного поколения и массового литературного потока. Еще позже в моду вошло «скромное» искусство, творцы которого ни на что особо не претендуют, не пытаются переделать или осмыслить мир, а предлагают читателю «простые истории», более или менее увлекательные или забавные, либо интеллектуальные игры постмодернистского толка. По мнению современного немецкого прозаика Ханса Плешински, перелом в этом культурном процессе начался после спада волны студенческого движения 1968 года. Я бы хотела сослаться здесь на точку зрения, высказанную в одном из диалогов персонажей романа Плешински «Портрет Невидимого» (2004):
– Твой дневник свидетельствует и о другом. Сегодня почти невозможно поверить, насколько важное, решающее значение для жизни имели когда-то…
– В 1970 году!
– …искусство, литература, философия.
– Мы хотели найти для себя идейную опору. Конечно, мы и развлекались. Но даже вообразить не могли, что развлечения и
культура, слившись в понятии "развлекательная культура", станут губительной силой, втаптывающей человека в грязь.
Интересно, что в нынешней Германии традицию экспрессионизма продолжают именно те авторы, для которых одной из главных проблем является разрушающее воздействие "развлекательной культуры" на личность – Райнхард Ииргль, Уве Телькамп.
Люди, плохо знающие экспрессионизм, возможно, опасаются, что, открыв книгу автора-экспрессиониста, обнаружат в ней оторванный от жизни пафос, скуку, отсутствие юмора. Все это, конечно, встречается – у плохих экспрессионистов, как и у всех плохих художников. Мы попытались представить в этом номере ярких, своеобразных авторов – и писателей первой величины, и авторов менее значительных, которые рано ушли из жизни или по другим причинам написали мало,но оставили в литературе свой неповторимый след.
Я желаю удовольствия читателям этого номера и хочу поблагодарить всех переводчиков, с любовью отнесшихся к своей работе, и оказывавших им всяческую поддержку сотрудников Гете-института. А также с благодарностью вспомнить уже умершего немецкого литературоведа, профессора Марбургского университета Дитера Бэнша, в 90-е годы приложившего много сил для подготовки так и не опубликованной тогда в России антологии немецкого экспрессионизма,часть которой вошла в этот номер.
Татьяна Баскакова

Карл Шмидт-Ротлуф. Деревья зимой. 1905
Альфред Лихтенштейн
Кафе «Клецка»
Перевод Татьяны Баскаковой
I
ЛИЗХЕН Лизель приехала из провинции в этот город, чтобы стать актрисой. Дома все ей казалось мещанским, тесным, отупляющим. Мужчины там были глупыми. Небо, поцелуи, подружки, воскресные вечера– несносными. Больше всего ей нравилось плакать. Быть актрисой в ее представлении значило: быть умной, свободной, счастливой. А в чем это должно выражаться, она не знала. И не пыталась проверить, есть ли у нее талант.
Она восторгалась кузеном Готшалком, потому что он жил в этом городе и сочинял стихи. Однажды, когда кузен написал, что по горло сыт юридической наукой и отныне будет жить в соответствии со своими склонностями, как свободный литератор, она сообщила испуганным родителям, что от их полукрестьянской жизни ее тошнит; она, мол, станет актрисой – в подражание своему идеалу. Ее всячески пытались отговорить. Но ничего не вышло. Она настаивала все решительнее, пускала в ход угрозы. Родители, хоть и с неохотой, в конце концов уступили: съездили с ней в город, сняли ей комнатку в большом пансионе, записали ее в дешевую театральную школу. Попросили кузена Готшалка за ней присматривать.
Готшалк Занудов не забывал о кузине Лизхен. Он водил девушку в кабаре; читал ей стихи в своей богемной берлоге; приглашал и в литературное кафе "Клецка"; часами, рука об руку, гулял с ней по ночным улицам; тискал ее; целовал. Фройляйн Лизхен была приятно одурманена новыми впечатлениями; но вскоре стала замечать, что все-таки дома представляла себе многие вещи более привлекательными, чем они оказались на самом деле. Ее раздражало, что директор театральной школы, коллеги, литераторы из кафе "Клецка" – все мужчины, с которыми она часто встречалась, находили удовольствие в том, чтобы лапать ее, гладить ей руки, прижиматься коленями к ее коленкам, беспардонно ее разглядывать. Даже приставания Занудова ее тяготили.
Чтобы не обижать кузена и не казаться провинциалкой, она редко проявляла недовольство. Но однажды все же ударила его по лицу. Они сидели у него в комнате, он объяснял ей последние строчки своего стихотворения "Усталость". А именно:
Перед окном встал вечер, серый тать! Пожалуй, нам пора ложиться спать…
После чего сразу вознамерился расстегнуть ей блузку…
Занудова пощечина ошеломила. Он, чуть не плача, сказал Лизхен, что, как она наверно заметила, он ее любит. Больше того, он ей двоюродный брат. Она возразила: блузка-де здесь ни при чем. И, между прочим, он оторвал ей пуговицу… Он сказал, что такого больше не вынесет. Если девушка любит, она должна уступить. А теперь, мол, ему придется искать забвения у кокоток. Она не нашлась, что ответить. Он думал-стонал: "О, о…" Она печально сидела с ним рядом.
Несколько дней Занудов не показывался ей на глаза. Когда же наведался снова, был бледным, даже посеревшим. Под красными глазами, заплаканно-затененными, остались грязные разводы. Голос, однообразно-распевный, звучал манерно, меланхолично. Занудов жалостно рассказывал о своем отчаянье, распутстве, раздерганности. О том, что все радости жизни ему опостылели. Что скоро он призовет смерть. Вольностей кузен себе больше не позволял, зато часто испускал горькие вздохи. Театрально кокетничал влечением к смерти. Стал водить подругу на трупообильные трагедии и сумрачные кинодрамы, на концерты классической музыки в затемненных залах.
Так прошла, может быть, неделя. Они отправились на концерт. По завершении выступления певицы, пока слушатели
громко и долго аплодировали, Готшалк Занудов схватил пальчики Лизхен Лизель, покровительственно притянул ее к себе, прошептал: "Не странно ли, что пение Дамы так сильно хватает за душу!" А потом опять в просительно-плаксивом тоне заговорил о своей любви и о том, что долг женщины – отдаваться. Лизхен Лизель ответила, что такая роль ей скучна, противна. Уже стоя у подъезда, она, пожалев кузена (и еще потому, что вспомнила о своей карьере), сказала, что готова терпеть его любовь, если он не будет требовать большего. Занудов в восторге прижал ее к груди. Он еще долго стоял на тротуаре, погруженный в мечты. Пел: «О слезы. О добро. О Бог! О красота. О любовь. О любовь! О любовь…» Потом, как сумасшедший, понесся по улицам. И исчез в недрах кафе «Клецка».
Лизхен же сидела в своей маленькой комнатке, беспомощно улыбаясь в красноватом свете свечи. Она не понимала мужчин из большого города, они казались ей странными и опасными животными. Она чувствовала себя здесь еще более одинокой. И с тоской вспоминала безобидный родной городок: высокое небо, смешных молодых господ, теннисные турниры, даже скучные воскресные вечера… Расстегнула подвязки, положила чулки и лифчик на стул. Она была безутешна…
II
Сквозь прозрачный летний вечер просвечивало кафе «Клецка». Упакованное в темно-синий шелк городского неба, с белой луной и россыпью мелких звезд.
В глубине кафе долго сидел, пока внезапно не умер, одиноко дымя сигаретой за крошечным столиком, на котором что-то стояло, горбатый поэт Куно Коэн. За другими столами тоже сидели люди. По проходам сновали мужчины с желтыми или красными затылками; женщины; литераторы; актеры. Повсюду тенями мелькали кельнеры.
Куно Коэн ни о чем особо не думал. Он напевал про себя: "Мир мягко расплывается в туман…". Тут-то его и поприветствовал поэт Готшалк Занудов – юрист, с большими усилиями проваливавшийся сквозь все экзамены, которым себя подвергал. С ним пришла красивая барышня. Оба подсели к Коэну. Занудов и Коэн были сотрудниками ежемесячного журнала "Дятел", собственноручно выпекаемого энтузиастом Карлом Комарусом ради повышения общественной безнравственности.
1. Первая строка стихотворения Альберта Лихтенштейна «Туман». (Прим. перев.)
Занудов стал рассказывать Коэну, что Дятел-Комарус вскоре учредит новую безбожную религию на неоюридической основе и, чтобы оформить это организационно, приглашает всех на учредительное собрание в ближайший кинтопп. Коэн слушал, с сомнением покачивая головой. Красивая барышня кушала пирожное. Наконец Коэн печально сказал:
– Комарус – великий и трогательный человек. Но верующими нас уже не сделает даже новый Христос. Мы с каждым днем все глубже умираем в бесплодную вечную смерть. Мы безнадежно разрушены. Наша жизнь так и останется бессмысленной театральной игрой.
Барышня с радостно-ясным лицом, оторвавшись от пирожного, непонимающе глянула на него через стол красно-коричневыми глазами. Занудов погрузился в какие-то мрачные мысли. Барышня сказала, что и у нее вся жизнь – сплошной спектакль. Но ей он не кажется совсем уж бессмысленным. В той театральной школе, где она сейчас готовится к будущей сценической карьере, надеясь стать примой, добиваются очень неплохих результатов. Господин Коэн может как-нибудь туда заглянуть, чтобы лично в этом убедиться.
Куно Коэн по-доброму наблюдал за барышней. И думал: "Какая глупенькая малышка…" Но из кафе он скоро ушел.
На улице его внезапно ухватил за руку поэт Роланд Руфус Мюллер, крикнув:
– Вы уже читали в медицинском журнале статью небезызвестного Бруно Бухбильдера, где он утверждает, будто моя паранойя выражается в том, что я вообразил себя паралитиком! Теперь все кругом поглядывают на меня с любопытством, я в одночасье стал знаменит. Издатель даже выплатил мне повышенный аванс. Но… Не знаю, признаться ли вам… Боюсь, болезнь моя неизлечима.
И он во всю прыть помчался к лучшему винному ресторанчику.
Лошадь, словно хромой старик, ковыляла перед коляской. Горбатый Коэн, удобно прислонившись к стене католической церкви, размышлял о жизни. Он сказал себе: "Как забавно все-таки устроена жизнь. В ней можно только прислониться: к чему-нибудь, как-нибудь; никакой связи при этом не возникает; это ни к чему не обязывает; с тем же успехом ты мог бы двинуться дальше, куда-нибудь. Поскольку я это понимаю, я не могу быть счастливым".
Перед ним остановилась маленькая безголосая сучка: скромно прислушивалась, глаза у нее сверкали.
Огнисто– стеклянный свадебный экипаж, подпрыгивая, прогрохотал мимо. Внутри, в углу, Коэн разглядел бледное лицо замкнувшегося в себе жениха. Из-за угла вынырнули пустые дрожки, Коэн пошел за ними. Он бормотал: "Исследователь без цели… Лишенный опоры… Не знающий ничего… И при этом – такое безудержное стремление. Понять бы только к чему".
Улицы уже серебристо поблескивали, когда он открыл дверь дома, в котором жил. У себя в комнате он молча и с грустной торжественностью смотрел на прикрепленные к одной стене картины – все сплошь написанные давно умершими людьми. Потом начал стаскивать со своего горба одежду. Оставшись в трусах, носках и рубашке, он со вздохом сказал себе: "Мало-помалу каждый сходит с ума…"
В постели поток мыслей пошел на убыль. Уже на самом пороге сна ему вспомнились красно-коричневые девичьи глаза из кафе "Клецка"…
Эти глаза и в последующие дни на удивление часто вспыхивали в его сознании. Что казалось странным. Больше того, пугающим. К женщинам у него было особое отношение. В принципе они его не привлекали, его тянуло к мальчикам. Но в жаркие летние месяцы, когда он чувствовал себя душевно сломленным и несчастным, он нередко влюблялся в какую-нибудь похожую на ребенка молоденькую женщину. Поскольку же из-за горба его, как правило, отвергали, а часто даже высмеивали, воспоминания об этих женщинах или девушках были для него мучительными. Поэтому в такие месяцы он принимал превентивные меры. Почувствовав надвигающуюся опасность, сразу шел к проститутке.
Лизхен Лизель захватила его врасплох, хотя сама о том не догадывалась. Напрасно воображал он, какие мучения доставит ему неудача. Напрасно говорил себе, что Лизхен Лизель – одно из тех многих созданий, хорошеньких, но запутавшихся в своем удивительном невежестве и в тоске по счастью, которых на этой земле можно встретить повсюду и которые почти неотличимы друг от друга… Дело кончилось тем, что в один особенно размягчающий вечер, наполненный зеленовато-желтыми фонарями, зонтиками и уличной грязью, маленький горбун оказался под вывеской театральной школы: он стоял там и со страхом ждал свою Даму.
III
Порой налетал ветер, разгоряченный кусачий пес. Солнечный свет, словно вязкое раскаленное масло, обволакивал дома, и людей, и улицы. Возле решетчатой ограды кафе «Клецка» бессмысленно подпрыгивали кривоногие бесполые человечки. Ибо по ту сторону ограды колотили друг дружку Куно Коэн и Готшалк Занудов. Те, кому посчастливилось оказаться внутри, наблюдали – комфортно устроившись – за дракой. Посерьезневшая Лизхен сидела за угловым столиком.
Поводом для столкновения послужило вот что: господин Коэн уже много раз провожал фройляйн Лизель от театральной школы до дома. Когда Занудов прослышал об этом, в нем вспыхнула безрассудная ревность. Он начал говорить о Ко-эне гадости. Лизхен Лизель, видевшая своего кузена насквозь, взялась защищать горбуна. Это разозлило Занудова еще больше. Он очень убедительно заявил, что застрелит себя. Правда, саму эту процедуру кузен временно отложил, но зато стал грозить, что застрелит также и Лизхен. Услышав такое, Лизхен запретила себе с ним встречаться.
Но Лизхен Лизель нуждалась в ком-то, чтобы говорить о повседневных пустяках, казавшихся ей важными. После ссоры с Готшалком она, в силу неизъяснимого женского инстинкта, остановила свой выбор на Коэне. И однажды попросила горбуна прийти на следующий день, около полудня, в кафе "Клецка": хотела посоветоваться о покупке нового платья, или о трактовке предложенной ей роли, или о каком-то мелком происшествии. Коэн пришел и собирался сразу же осведомиться о желаниях барышни, но тут Готшалк Занудов, с пунцовым лицом, подлетел к нему и обозвал бессовестным совратителем. Коэн попытался снизу залепить Занудову оплеуху. Тогда тот, рассвирепев, размахнулся и, не добавив больше ни слова, нанес ответный удар. Вывеска кафе, на которой еще недавно значилось: "Мой институт теперь здесь, а вход там" (ибо владелец "Клецки" арендовал помещение у специалиста по нелегальным абортам), – разбилась, упав на землю. Внезапно кулак Занудова весомо опустился на горб Коэна. Кулак в кровь разбился, но и горб тоже пострадал. Занудов, побледнев как труп, крикнул: "Горбун смертельно опасен!" После чего попросил кельнера сопроводить его до станции "Скорой помощи". На Лизхен он даже не взглянул.
Коэна же пострадавший горб не особенно беспокоил. Он снова подсел за столик к фройляйн Лизель и заказал себе стакан чаю с лимоном. Лизхен видела, как сквозь ветхую ткань сюртука все отчетливей проступает кровь. Она обратила на это внимание Коэна, тот испугался. Она сказала, что могла бы перевязать ему рану…
Он с горечью ответил: дотрагиваться до горба неприятно. Она, покраснев от сочувствия, возразила: иметь горб – очень человечное качество. Она сказала, лучше всего зайти к ней домой. Горб, дескать, нужно продезинфицировать, остудить. После она сделает перевязку. Он мог бы провести у нее весь вечер…
Коэн – хоть и не без колебаний, но радостно – согласился. До самой ночи они сидели в комнатке Лизхен. Разовари-вали о душе, о горбах, о любви…
Литератор же Занудов словно провалился сквозь землю. В последний раз один знакомый видел его вечером после драки перед обувным магазином: Готшалк будто бы меланхолично и подолгу рассматривал все выставленные в витрине ботинки, одну пару за другой.
Вскоре в редакцию "Пылких героев" – журнала романтического декаданса – пришло заказное письмо, в котором Занудов сообщал, что по соображениям душевного порядка вот-вот лишит себя жизни. Кое-кто истолковал это послание как способ саморекламы, причем далеко не новый. Но большинство сотрудников очень воодушевилось. Волнующее известие обсуждалось во всех газетах.
Почитатели Занудова тут же учредили фонд для поисков его трупа. Один промышленник пожертвовал добротный саркофаг.
Обыскали все леса и луга. Шуровали шестами во всех озерах. Но никаких следов не нашли. Хотели уже прекратить поиски, как вдруг обнаружили поэта, совершенно не похожего на себя, в одной гостинице средней руки, в отдаленном пригороде. Оказывается, он, гуляя в ветреную погоду у пруда, подхватил тяжелую инфлюэнцу и несколько недель провалялся в постели. Его застигли на скрипучей лестнице, где он, закутанный в одеяла, хотел еще раз прорепетировать будущее самоубийство. Друзья без особого труда отговорили Гот-шалка от этой мысли и с триумфом вернули в город. Саркофаг они пока что сдали в ломбард. На вырученные деньги и на остатки наличности Трупного Фонда Занудова был устроен роскошный богемный праздник.
Сам Готшалк Занудов, наряженный Фаустом, царственно восседал в углу, воплощая мировую скорбь. Даровитый доктор Бертольд Бациллер появился в образе… тучного литератора, то есть самого себя. Карл Комарус – в папском облачении. Гимназист Спиноза Пляс, известный клецковский клоун, нацепил латы Зигфрида, а волосы уложил а-ля Гете. Лирик Мюллер вскоре лежал под столом – зеленым упившимся трупом. Куно Коэн, формально помирившийся с Зану-довым, пришел в чем был. И с ним – Лизхен Лизель в костюме крестьянки. Остальные – китайцы, шимпанзе, античные боги, ночные дозорные, вельможи и дамы – смешались в радостно вопящее месиво. Вся «Клецка» собралась здесь.
Лизхен Лизель всю эту пеструю, полную визга ночь протанцевала с горбатым поэтом. Многие посматривали на странную пару, однако смеяться никому не хотелось. Горб Коэна жестко и безжалостно, как угол письменного стола, вторгался в мягкую плоть ближних. Казалось, Коэну доставляет удовольствие вонзать горб в очередного танцора. Ни разу не упустил он случая, чтобы бесстыдно-вежливым фальцетом не пропеть "Пардон", когда какая-нибудь обезумевшая мамзель громко вскрикивала или ее кавалер от всей души бормотал: "Проклятье…" Лизхен Лизель одной рукой держала Коэна за горб, как держат кувшин за ручку, а другой нежно прижимала к груди угловатую голову поэта. Так они и танцевали сквозь анфиладу безоглядных часов…
Но горб Коэна все болезненнее воспринимался другими танцорами. Кое-кто уже отваживался высказать свое возмущение. Устроители праздника обратились к Коэну с ходатайством, чтобы он – в индивидуальном порядке – танцы прекратил. Дескать, с таким горбом человек танцевать не вправе. Коэн спорить не стал. Но Лизхен заметила, что лицо его посерело.
Она отвела его в укромную нишу. И там сказала:
– Отныне я буду говорить тебе "ты".
Куно Коэн ничего не ответил, но ее сострадательную душу принял как подарок в свои трубадурьи водянисто-голубые глаза. Она, задрожав, сказала, что сама не понимает, почему он вдруг стал ей так дорог… Она хотела бы никогда больше не от-пускать его руку… Раньше, мол, она и вообразить не могла такого безмерного счастья… Куно Коэн пригласил ее к себе в гости-на завтрашний вечер. Она с готовностью согласилась.
Куно Коэн и Лизхен Лизель были, наверное, первыми, кто покинул головокружительный праздник. Они брели, перешептываясь, по небесно-светлым, залитым лунным светом улицам. Влюбленный поэт своим гигантским горбом отбрасывал на мостовую авантюрные тени.
Прощаясь, Лизхен наклонилась к Коэну. И много-много раз поцеловала в губы. Так расстались Куно Коэн и Лизхен Лизель… Коэн еще сказал: он, дескать, очень рад, что уже завтра она его навестит… Она откликнулась, совсем тихо: "И я… ах… тоже…"
Дома вдоль ухоженных улиц стояли упорядочение, как книги на полках. Луна стряхнула на них голубовато-сизую пыль. Редкие окна еще бодрствовали; светились мирно, словно одинокие человечьи глаза; и взгляд у них всех был одинаково золотым. Куно Коэн, погруженный в свои мысли, возвращался к себе. Тело его опасно наклонилось вперед. Руки он сцепил чуть пониже спины. Голова упала на грудь. Выше всего торчал горб – авантюрный остроконечный камень. Куно Коэн в этот час уже не был человеком: он обрел форму, свойственную только ему.
Он думал: "Я буду избегать счастья. Быть счастливым означало бы: отказаться от тоски по неосуществимому, составляющей мое драгоценное содержание. Означало бы: допустить, чтобы сакральный горб, которым меня наградила благожелательная судьба и благодаря которому я ощущаю бытие гораздо, гораздо глубже, злосчастнее, многограннее, чем воспринимают его другие люди, – чтобы этот горб деградировал, став всего лишь обременительной внешней данностью. Я хочу, чтобы Лизхен Лизель доросла до еще большего совершенства. Я сделаю эту барышню неизлечимо несчастной…"
Пока поэт Коэн размышлял о подобных тонких материях, поэт Занудов окончательно заколол себя ножом, лежавшим возле тарелки с салатом. Он наблюдал за Куно Коэном и Лизхен Лизель во время их доверительного разговора в оконной нише. Видел, что они ушли с праздника вместе. Он пытался допьяна напоить свое горе, отвлечь его обжорством, но это не помогло. Накачиваясь в течение нескольких часов едой и напитками, поэт Занудов только еще больше обезумел. Дело кончилось тем, что он выкрикнул нараспев: "Смерть – это вещь серьезная… Со смертью шутить нельзя… Смерть – самая насущная потребность…" Потом – боязливо, но гневно – вонзил себе первый попавшийся нож под левый сосок. Брызнули во все стороны кровь и кровавые ошметки салата. На сей раз попытка самоубийства увенчалась успехом.
IV
Лизхен Лизель на следующий день появилась раньше, чем они договаривались. Куно Коэн открыл дверь, держа в руке цветы. Коэн заметно обрадовался, сказал: он почти не надеялся, что она придет. Она обвила руками его костлявое тело, прижала к груди, будто втягивая в себя, сказала: «Дурачок мой горбатенький… ты ведь мне нравишься…»
Они поужинали по-простому. Она его благодарно гладила – всякий раз, как попадался особенно вкусный кусок. Сказала, что останется с ним до полуночи. А потом они смогут от-праздновать ее день рождения – ей уже будет восемнадцать…
Из часов на церковной башне выпрыгнул новый день. Первые его громкие вздохи проникли, словно молитвы-стоны, в зашторенную Коэнову комнату. Там молодое духовное
тело Лизхен стало храмом, где она с трогательной готовностью, несмотря на боль, приносила жертвы горбатому жрецу. Потом выдохнула: "Теперь ты доволен?…" И растаяла в засыпании, в умилении. Укрывшись тонкой кожицей век.
Внезапно по ее телу пробежала дрожь отвращения. Страх вцепился когтями ей в лицо. Распахнувшиеся в крике глаза нависли над горбуном. Лизхен сказала безо всякого выражения:
– Это, выходит… и было… счастьем… Куно заплакал.
Она сказала:
– Куно, Куно, Куно, Куно, Куно, Куно… Что мне теперь делать с оставшейся жизнью?
Куно Коэн вздохнул. Он серьезно, по-доброму посмотрел в ее страдающие глаза. Он сказал:
– Бедная Лизхен! Чувство абсолютной беспомощности, которое захлестнуло тебя, у меня возникает часто. Единственное утешение в таких случаях – быть печальным. Когда печаль вырождается в отчаянье, человек должен стать гротескным. Должен продолжать жить просто шутки ради. Должен попытаться в самом осознании того факта, что жизнь сплошь состоит из гадких и грубых анекдотов, найти стимул для внутреннего роста.
Он смахнул пот со лба и с горба. Лизхен Лизель сказала:
– Зачем ты тратишь так много слов. Я их все равно не пойму. А что ты отнял у меня счастье – некрасиво, Коэн.
Слова ее падали, как клочки порванной бумаги.
Она сказала, ей пора. Пусть, мол, он тоже оденется. Ей неприятно смотреть на голый горб…
Куно Коэн и Лизхен Лизель больше не обменялись ни словом, до самого их прощания – навсегда – у ворот дома, где она снимала квартиру. Там он заглянул ей в лицо, взял за руку, сказал:
– Ну, всего тебе доброго. Она тихо отозвалась:
– И тебе…
Коэн сжался в своем горбу. Сломленный, побрел прочь. Слезы грязнили лицо. Он спиной почувствовал озабоченные взгляды прохожих. Отбежал за угол ближайшего дома. Остановился, вытер глаза платком; всхлипывая, поспешил дальше.
Как болезнь, заползал склизкий туман в постепенно слепнущий город. Фонари стали коварными болотными цветами, покачивающимися на черно-блескучих стеблях. Все вещи и живые существа превратились в дрожащие от холода тени, в размытые движущиеся пятна. Первобытным ящером скользнул мимо Коэна ночной омнибус. Поэт крикнул: "Я опять одинок!" Но тут ему повстречался большой горбун на длинных паучьих ногах, в призрачно-прозрачных одеждах. Верхняя часть туловища напоминала шар, лежащий на высокой треноге. Шар сострадательно и завлекающе посмотрел на Коэна – с влюбленной улыбкой, которую туман исказил в бессмысленную гримасу. Коэн тотчас исчез в этой серой жути. Шар охнул, потом понес себя дальше…
Приковылял хромой день. Расколошматил железным костылем остатки ночи. Наполовину уже погасшее кафе "Клецка" торчало в беззвучном утре, как сверкающий осколок стекла. В глубине помещения сидел последний гость. Куно Коэн уткнулся головой в чужой подрагивающий горб. Костлявые пальцы накрыли ему лоб и лицо. Все его тело беззвучно вскрикнуло.
Впервые напечатано посмертно, в двухтомнике Альфреда Лихтенштейна, в 1919-м
Альберт Эренштейн
Тубуч Новелла
Перевод Евгения Воропаева
МОЕ имя Тубуч, Карл Тубуч. Упоминаю об этом лишь потому, что кроме своего имени владею лишь немногим имуществом… Это не меланхолия и не горечь осени, не завершение разросшейся работы, не помраченность сознания, тупо наваливающаяся после долгой и тяжелой болезни; я вообще не понимаю, как погрузился в такое состояние. Вокруг меня, во мне царит пустота, пустыня, я выхолощен, но сам не ведаю чем. Кто или что вызвало это ужасное состояние – великий ли анонимный волшебник, отражение ли в зеркале, выпадение пера у птицы, смех ребенка, смерть пары мух: разбираться в этом, даже просто лишь захотеть разобраться – тщетно, глупо, как и всякое выискивание причины на этом свете. Я вижу только действие и результат; можно констатировать, что душа моя ут-ратила равновесие, в ней что-то надломилось и лопнуло, что внутренние источники во мне иссякли. Основания этому, основания случившемуся со мною я никогда не умел угадать, но самое скверное: я не вижу ничего, что могло бы вызвать хотя бы незначительное изменение в безотрадном моем положении. Потому что тяготит именно внутренняя пустота – абсолютная; так сказать, планомерная – при прискорбном отсутствии каких бы то ни было хаотических элементов. Дни ускользают, недели, месяцы. Нет, нет! – только дни. Я не думаю, что недели, месяцы и годы вообще существуют; чередуются лишь дни, все снова и снова: дни, которые наползают друг на друга и которые я не в состоянии удержать каким-нибудь переживанием.








