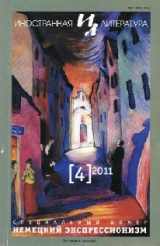
Текст книги "Немецкий экспрессионизм (сборник)"
Автор книги: Альфред Дёблин
Соавторы: Эльза Ласкер-Шюлер,Альберт Эренштейн,Альфред Лихтенштейн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Спрашивается, почему же я не бросил эти пошлые удовольствия и не нашел для себя лучший способ времяпрепровождения? Есть ведь свои преимущества даже в том, чтобы стать владельцем собаки: вследствие многообразия соответствующих обязательств, поглощающих уйму времени; насколько же те простые и безобидные удовольствия, что дарит хозяину бедное животное, затмеваются наслаждением, которое способна дать только женщина!
Смею возразить: если уже у Гомера сказано: "Всем человек пресыщается: сном и счастливой любовью, / Пением сладостным и восхитительной пляской невинной", то какие же ощущения, какую усталость должен испытывать наш современник? У меня в ушах еще звучат выкрики венских барышень в момент экстаза: "Ах!", "Ох!", "Господи!" и "Ты действительно меня любишь?"; а если барышня еще и поэтическая натура, то она, небось, прощебечет "Тири-ли-ли!" Даже заткнув себе уши, я слышу "Ай", "Ой!" и "Уй!" венгерок. Берлин-ка же предпочтет проворковать: "Как вкусненько!". Единственными, кто ничего не восклицал, были цыганки; однако тому, кто мечтает о любовном сближении с ними, лучше оставить наручные часы дома… И он может считать, что ему крупно повезло, если очередная Трантира или Шофранка не назовет его отцом своего ребенка, хотя на ту же честь мог бы по праву претендовать весь офицерский корпус ближайшего гарнизона… Да, еще у одной хватило благоразумия помалкивать… У Мариши, жены деревенского старосты из Попудьи-на. Она любила, словно отрезала себе краюху хлеба. Все ее движения были исполнены механической надежности. Никогда не забуду, как мы впервые нашли друг друга. Это случилось наутро после ее свадьбы, о чем я не знал: Мариша, тогда еще мне не знакомая, косила на влажном от росы лугу и, продвигаясь вперед, покачивала бедрами… Короткие, до икр, юбки непрерывно колыхались…
1. Часть Рингштрассе в Вене, сейчас называется Паркринг (Венский городской парк).
2. «Илиада». XIII, 636-637. Перевод Н. Гнедича.
Я праздно проходил мимо и не мог отказать себе в удовольствии наклониться, чтоб погладить цветущие щеки и подбородок красивой молодой женщины. Она залилась румянцем, однако не воспротивилась; смерть стояла за моею спиною – крестьянин с косой. А у меня хватило присутствия духа сказать:
– Сударыня, так вы позволите мне сегодня во второй половине дня пособирать шелковицу в вашем винограднике?
Крестьянин таращил глаза, как бык. Она же, склонившись еще ниже, словно хотела помочь мне найти какую-то павшую вещь, ответила утвердительно, и уж вечером-то в винограднике меня ждали не только тутовые ягоды…
А когда ее муж и мамаша отправились паломниками в Сас-син, она дала мне об этом знать. И я тайком пробирался в комнату к Пахнущей-Хлевом; а затем в темноте, лавируя между на-возною кучей справа и навозною жижей слева, выбирался обратно – воспевая чреватою опасностями любовь Джаханги-ра Мирзы и красавицы Маасумех Султан-Бегум… Мое воодушевление, однако, вскоре пошло на убыль из-за удручающего несоответствия между возвышенными чувствами и копеечно-злорадной судьбой: ведь даже экономически невозможно длительное время производить амброзию, самому при этом питаясь дерьмом… Мой несчастливый дар – представлять себе даже самую любимую подругу в виде скелета (из-за чего объятия порой переходят в рыдания), а также страх перед законным супругом в конце концов вынудили меня распроститься с Мари-шей… Ах, оставьте меня с вашей любовью! Скорей уж я завел бы собаку. У бездетной жены моего домовладельца есть собака, которую я высоко ценю. Молодой карликовый бульдог; во дворе держится избранного круга детей: когда они приносят ему вареную свеклу, телячью печенку или жареные колбаски, он откликается на клички Шнуди, Пуффи, Буби и еще десяток других. Если же кто-то хочет просто так к нему подольститься, этот янки игнорирует все призывы. На того, кто проявляет назойливость да еще, как некоторые вдовы, пытается повязать ему на шею розовый бант, он предостерегающе рычит и может при случае укусить. Свойственное ему многообразие реакций, готовность броситься, как молодой бык, на каждого, кто взмахнет у него перед носом платком или листком бумаги, и, не в последнюю очередь, образцовая самодостаточность сделали его моим идеалом.
1. Имеется в виду могольский император Джахангир (1605-1627). Титул Джахангир (Завоеватель мира) принял, став императором, Селим, преемник Акбара Великого. Падишах Бегум – титул, который император даровал своей любимой супруге Hyp Джахан. Маасумех Султан-Бегум – жившая на век раньше него супруга первого могольского императора Бабура (1483-1530); их дочь с таким же именем упоминается в рассказе Альберта Эрен-штейна «Смерть Захир-ад-дина Мухаммеда Бабура, или Возвращение сокола».
Он может часами лежать на месте и, нисколечко не скучая, гипнотизировать одну и ту же кость; ни один учитель не бросит ему с иронией: "Вы, голубчик, далеко зайдете…"; он глубоко усвоил и больше не задумывается об этом: дальше себя самого все равно не зайдешь. Я же, когда мне надоедает быть собою, поневоле должен становиться кем-то другим. Обыкновенно я – Марий, сидящий на развалинах Карфагена. А иной раз я – князь Эксенклумм: я поддерживаю любовную связь с одной оперной певицей, я с готовностью даю интервью главному редактору столичной газеты Арманду Шигуту о торговом договоре с Монако, я запрещаю своему камердинеру Доминику (его роль играет денщик Филипп) допускать ко мне кого бы то ни было, за исключением баронессы фон Зубен-Боль… Но как только бесконечные "Ваша светлость…" да "Ваша светлость…" начинают действовать мне на нервы, я становлюсь прославленной актрисой, отвешиваю этому ничтожеству – директору театра – пощечину, которую он давно заслужил, или же, желая отомстить, обрушиваю на его голову кресло… Я как раз собирался, чтобы отдохнуть от непривычного напряжения, перевоплотиться в поэта Конрада Зельтенхаммера и молча выкурить папиросу в кафе "Символ". Но течение моих мыслей прервал денщик. Ему-де осточертело все время представлять слуг, директоров театров, развалины Карфагена или пачки папирос; он мечтает тоже хоть раз побывать в шкуре князя, героини или драматурга.
– Ты сапог, – сказал я ему. – Сапог! Тщеславие – первая ступень к краху.
– Хозяин, – ответствовал он. – Хозяин! Я ведь не какой-нибудь обыкновенный денщик.
– Само собой. Денщик, состоящий у меня на службе, не может быть заурядным денщиком.
– Я не то хотел сказать.
– Может, в твоих жилах течет кровь богов? Ты что – заколдованная принцесса или тот слуга, стягивавший сапоги, прелюбодейство с которым Зевс инкриминировал Гере?
– Нет, но я все-таки происхожу из древнего рода. Знай же: я прямой потомок того знаменитого денщика, которого проглотил Митридат, дабы сделать свой желудок неуязвимым для ядов.
1. Гай Марий (156-86 до н. э.) – римский полководец и политический деятель. Приобрел широкую популярность победами в Югуртинской войне (111-105) и других войнах.
– Тот денщик, видно, надоедал своему господину не меньше, чем ты мне, иначе ему нашли бы лучшее применение.
Тут Филипп дал себе зарок впредь не ссылаться на судьбы своих именитых предков.
– Я категорически заявляю, что в случае невыполнения моей просьбы от службы у вас откажусь. Да и вообще, меня наметили в президенты I Международного конгресса денщиков, который в скором времени состоится в Америке. Сам Рузвельт…
– Рузвельт?
– Я имею в виду денщика Рузвельта. Мы его зовем Рузвельтом, для краткости… Так вот, это он пригласил меня председательствовать… Именно по той причине, что я являюсь потомком знаменитого… Или ты думаешь, что денщик господина Тубуча…
– Да, но как же ты попадешь в Америку, о сапогостягива-тель моей души?
– Мое тело, мое бренное тело будет по-прежнему лежать здесь, дух же мой воспарит, отлетит, заползет в какой-нибудь электрический провод и в мгновение ока окажется на той стороне. Прежде-то с такими путешествиями дело обстояло хуже: молнию не всегда удавалось заполучить, а на бродягу-ветра полагаться нельзя, сколько раз он нас ссаживал там, куда мы совершенно не собирались… на озере Танганьика, например, или на островах Фиджи… где не встретишь ни одной родственной души…
Мне было лестно поддерживать контакт с существом, благодаря которому я, в известном смысле, оказался близок президенту Соединенных Штатов, и мы с Филиппом заключили соглашение, что отныне и впредь будем выступать в главных ролях по очереди. Он был, например, бакалейщиком, восклицавшим: "Сегодня у нас чудненький пармезанский сыр!", а я – покупательницей, что, пожимая плечами, пробовала кусочек. Затем я становился слоненком… бегающим по кругу… А он – мальчишкой, кричащим: "Ах! Как здорово!" После он был упавшим деревом, со шляпой на одном суку, которое плывет по Дунаю до самого Черного моря, я же – свалившимся в воду и проклинающим это дерево лодочником, или водяной крысой, которая ютится меж корней, или речной выдрой, требующей у дрейфующего ствола проездной билет, чтобы проверить, не истек ли срок годности. Так продолжалось, пока невозможность – как бы я ни напрягал свою и их волю – сделать зримым и для других людей мое превращение в князя
Эксенклумма или в водяную крысу не испортила мне удовольствие и от этой игры.
– Филипп! – сказал я тогда. – Иди-ка сюда.
Филипп подошел, не без внутреннего сопротивления, словно предчувствуя недоброе. Я тщательно завернул его в коричневую упаковочную бумагу и отправился на прогулку. Никто из прохожих, однако, не пожелал поинтересоваться: что, мол, находится в маленьком коричневом пакете. А я-то заранее подготовил небольшую речь: "Дамы и господа! Здесь вы увидите не что-нибудь заурядное! Но говорящего денщика! Он – прямой потомок сапогостягивателя Его Азиатского Величества, царя Митридата Понтийского… И в скором времени будет председательствовать на I Международном конгрессе денщиков. Сам Рузвельт…"
Никто не проявил любопытства, а навязываться мне не хотелось… Что вопроса мне так и не задали, пожалуй, еще можно было бы пережить, но, с тех пор как я столь вероломно поступил с денщиком, попытавшись осквернить его тайну, Филипп умолк… Его душа, вероятно, навсегда переселилась в Америку… Я снова был одинок…
Раньше я грезил о славе. Она обошла меня стороной. И все, что мне оставалось, это саркастические нападки на счастливчиков. В этом-то я издавна был мастак. Когда мне уже нечего было кусать в себе, я принимался кусать других. Нынче же я ослаб и сделался снисходительнее. Как говорится, пишу теперь карандашом. Моя интеллектуальная пища нежна, как пища больного. На днях, например, я целое утро посвятил наблюдению за одним генералом, который на Марияхильферштрассе замирал у каждой витрины, будь то витрина бельевого магазина или парикмахерской. Было это после маневров. Я не ощущал ни злорадства, ни сострадания; просто смотрел, пока сам не превратился в генерала и не почувствовал себя способным играть далее его роль. То, как он приподнимал саблю, чтобы не задеть тротуара – движение чисто рефлексивное, – навевало невыразимую грусть… На следующий день я так же надолго погрузился в созерцание галки, которая перед цветочным магазином на Вайбурггассе семенила туда и обратно, безостановочно – туда и обратно. Куцые крылья, сломанные, волочились по грязному булыжнику. А ведь, наверное, за несколько дней до этого птица еще кружила вокруг колокольни Святого Стефана или командовала бригадой… Я бы весьма охотно поспособствовал встрече между тем генералом и этой галкой. Но на столь великие начинания я более не отваживаюсь, с той поры как последнее кончилось для меня так печально…
Во время своих вылазок я нередко проходил мимо одного ресторанчика, хозяина которого зовут Доминик. Нынче имя Доминик среди рестораторов совсем не редкость, а почему? Это необъяснимо; но, поскольку мне так часто доводилось проходить мимо вывески этого винного ресторанчика, постепенно между мною и его владельцем завязались приятельские отношения. Не то чтобы я когда-либо встречался с этим человеком, из-бави бог! В столь реальных предпосылках для симпатии я не нуждаюсь… Но когда однажды я взглянул в календарь, то обнаружил, что сегодня день его именин. "Вот нынче ты мог бы к нему заглянуть", – подумал я и надел красные лайковые перчатки. Вошел. Но ничего такого, чего я ожидал, не произошло. Меня обслужил человек в синем переднике, с полотенцем через плечо, – обычный официант. Я ждал и ждал, чтобы увидеть именинника. Он все не появлялся. Вообще ничего похожего. Я начал терять терпение и, уже собравшись уходить, напрямую спросил официанта, где сейчас хозяин. Субъект нехотя процедил в ответ, что у хозяина-де наверное платежный день в пивоварне и потому он отсутствует. Так обнаружилось: хозяин предательски укатил к вину нового урожая, уклонился от празднования своих именин, чтобы пображничать у другого хозяина, то есть фактически наедине с собой. Картина, несомненно, комичная – сюжет, достойный голландских мастеров: один ресторатор наведывается к другому. Но я в итоге, пожертвовав временем и деньгами, все-таки не осуществил того, чего с таким нетерпением ждал. Будто насмешница-судьба, которая охотно отбирает у сирых последнее, дабы имущему дать еще больше, намеренно лишила меня моей маленькой радости, неслыханного зрелища: как ресторатор празднует день своих именин. Смешно, но типично, ибо подобные партии судьба разыгрывала со мной многократно. Словно посредством утонченной позиционной игры хотела вынудить меня, нежизнеспособного, добровольно отказаться от этой самой жизни. Я уж не говорю, что раньше, когда у меня еще были знакомые, я частенько не видел их месяцами, а затем в один прекрасный день они, казалось, сговаривались между собой, чтобы усердными рукопожатиями вызвать у меня, по меньшей мере, паралич руки. Я могу привести примерчики и похлеще.
Много лет назад, когда я был более жизнерадостным, а до душераздирающей гибели двух мух Поллак дело еще не дошло (и, следовательно, эта гибель еще не могла служить мне напоминанием, что перед лицом судьбы нужно держаться спокойнее), в это-то время я после всяческих сомнений наконец собрался с духом и приобрел трость. Чтобы искать приключений. Без трости это невозможно. Ведь и рыцарь не мог бы сражаться за свою деву с великанами, карликами и драконами без легкого щита или же с седлом, которое еще не имеет имени.
Однажды воскресным днем я – в первый и последний раз – завязал галстук с той тщательностью, с какой, если мне позволят такое сравнение, пророки, должно быть, некогда препоясывали свои чресла, и на трамвае выехал в Зифринг. Немалое наслаждение – мчаться мимо остановок, в то время как другие вынуждены оцепенело на них стоять. На Бильротштрассе, к сожалению, в вагон вошел один мой дальний знакомый, сноб до мозга костей, из кармана у него горделиво торчал томик Бальзака. Я в шутку сказал, что зря он таскает на лоно природы книги в тяжелых переплетах, да к тому же такие, которые вскоре будет таскать каждый кому не лень. Обратил его внимание и на то, что пропагандировать такую литературу – не самое достойное дело для модерниста. Он же, неправильно истолковав мое намерение, втянул меня в нескончаемый разговор. О конце Бальзака; о том, как Жорж Санд, по слухам, обманывала Мюс-се, а Фридерика – Гете; и – ах! идиллия Зезенгейма! – как эта дочка священника, само собой, в конце концов родила от какого-то теолога – если, конечно, отцом ребенка не был Ленц или кто-то из французских погран-офицеров… Поэзия и правда! Мы говорили о женщинах, о том, что всякое одаренное разумом или фантазией существо, будь то мужского или женского пола, ревниво уже само по себе, а сверх того, неизбежно страдает от ревности, унаследованной от животных предков… Перескакивали с пятого на десятое, и только тогда, когда было уже слишком поздно, когда лес обступил нас, этот злополучный субъект открыл рот, дабы сообщить мне, что я-де пропустил самое важное. В трамвае, мол, к моим шуточкам прислушивалась одна элегантная барышня, все время глаз с меня не спускала, а потом, уже в лесу, за нами увязалась еще одна красивая штучка, но, так и не найдя приличного повода заговорить со мной, отстала от нас. Я рассуждал о женщинах – пока в двух шагах от меня смеющаяся, покачивающая бедрами и пританцовывающая, роскошная в своем цветении жизнь не развернулась и не побрела прочь!… И словно этого мало: когда на узкой тропе мы хотели пропустить встречную любовную парочку, дама наступила на трость, которую я элегически волочил за собою; трость сломалась – явное предупреждение свыше, что тропу, на которую мы едва ступили, необходимо тотчас покинуть…
1. Зифринг – окраинный район Вены, часть 19 округа.
2. Фридерика Элизабет Брион (1752-1813) – дочь эльзасского священника, жившего в деревне Зезенгейм; в 1770-1771 гг. – возлюбленная И. В. Гете. В 1772 г. к ней посватался поэт Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751-1792), но получил отказ.
3. «Поэзия и правда» (1811-1833) – автобиография Гете.
На лугу же недалеко оттуда какая-то шестнадцатилетняя фройляйн, сопровождаемая мамашей, не придумала ничего лучше, как рвать осенний безвременник. Я последовал ее примеру…
Я постоянно живу в ожидании чего-то чудовищного, чего-то такого, что вторгнется ко мне, внезапно явится, вломится. Орангутанг, например, или глухарь с пылающими очами, или – лучше всего – свирепый бык. Потом мне приходит в голову, что уж бык-то никак не мог бы протиснуться в мою дверь, и я на время оставляю свои грандиозные надежды… Когда начинает тренькать дверной звонок, все соседи выбегают в прихожую. И я тоже немедленно выглядываю из своего апартамента с отдельным входом… На случай, если меня разыскивает кто-нибудь из старых приятелей, я готовлюсь накинуть пальто и отправиться с ним на прогулку; или же, коли он того пожелает, показать ему достопримечательности моего жилища: денщика Филиппа и – давая разъяснения голосом, окутанным траурным флером – двух покойных мух Поллак… Ожидаю я чего-то чудовищного или все же приятного, но когда открываю входную дверь, то, как правило, оказывается, что пришли к кому-то из соседей. Или – что это нищий. Таким я не подаю. Во-первых, у меня v самого ничего нет, а во-вторых, даже если им даешь что-то, они тотчас уходят и оставляют тебя в одиночестве. А это совершенно не входит в мои планы… Другие, увы, столь же бесцеремонны: позвонят в дверь и, получив нужную справку, удаляются. Вот на днях… Затрезвонили ни свет ни заря, я поспешно и кое-как одеваюсь, отворяю дверь, стою на сквозняке: посетитель спрашивает, не я ли, дескать, тот господин, который заказывал спрей для ухода за собачьей шерстью. Другой на моем месте, чертыхнувшись, захлопнул бы дверь, я же, человек вежливый, опрометчиво отвечаю: «Нет!»; не скрывая, тем не менее, намерения вступить с ним в разговор… пусть даже только из-за необычности его профессии. Агент по продаже спрея для собак… Он, однако, делает резкий разворот, показывает мне спину и начинает подниматься по лестнице… Мне пришлось взять себя в руки, чтобы не рухнуть под тяжестью всех постигших меня разочарований…
Джахангир Мирза говорит: "Словно бесплотная тень, я зыблюсь; и, если стена не поддержит меня, плашмя упаду на землю". Меня стена не поддержала. Мне кажется, что со мною тоже случится нечто подобное этому "падению плашмя"… Нет, я больше такого не вынесу! Что же удерживает меня здесь? Шнуди, карликового бульдога, уже нет в живых. Старик с колючей бородой, с узлом на плечах… вылитый Агасфер… вошел во двор, выкрикивая: "ТоварецГ Приход чужака, казалось, взбесил пса, он ринулся вперед. Торговец раз-другой выкрикивает: "Пшел!" Пес будто не слышит, хватает непрошеного гостя за икры. Тот демонически плюет ему между глаз; бульдог, как сумасшедший, начинает крутиться на месте, стараясь коротким языком удалить с носа инородное тело. Это ему удается, уличный торговец уходит, но пес продолжает крутиться, его глаза ничего не видят, они ослепли от неистовой гонки. Шнуди… Шнуди с розовым бантом все крутился, крутился… пока не пришлось его застрелить… Нынче у меня никого больше не осталось. Я приглядываюсь к одной лошади, запряженной в телегу: может, она могла бы со мной говорить…
Бьюсь об заклад: она лишь не хочет быть замеченной в разговоре со мною. Думаю, что с другими, приложив некоторые усилия, она бы сумела поговорить…
Что же удерживает меня от того, чтобы разом покончить со всем, обрести вечный покой в каком-нибудь озере, сиречь чернильнице, или решить вопрос, какому сошедшему с ума богу или демону принадлежит та чернильница, в которой мы все живем и умираем, и кому, в свою очередь, принадлежит этот сумасшедший бог? Красться тайком к Марише, да кто бы она ни была, в любом случае – к какой-то девке, грязнухе или прелюбодейке, вдобавок остерегаться всякой всячины… кучи навоза справа и фекальной жижи слева… чтобы затем, вернувшись домой, воспевать горестную любовь Джахангира Мирзы и красавицы Маасумех Султан-Бегум… Да вправду ли это такое уж удовольствие – производить амброзию, когда сам ты глотаешь дерьмо? И даже если ты настоящий поэт, все равно ты не более чем прирожденный имитатор звериных голосов. Да будь ты хоть мастером слова, находящим слова полнозвучные, словно рев быка: нищим останешься ты и будешь как подражатель выпускать из себя голос князя, правящего конем, или мотылька, взлетающего из черной куколки вверх, к свету, – а то и голос какого-нибудь другого поэта; все голоса, о имитатор звериных голосов, ты будешь выпускать из себя для того только, чтобы они заглушили собственную твою пустоту, отсутствие собственного голоса… Чего же я медлю? Сгинуть! Пока я еще не уподобился скрученному подагрой сапожнику… К чему давиться этой тошниловкой – изнурительным противоречием между ничтожной судьбой и чудовищно не соответствующими ей чувствами и амбициями?
Жизнь. Какое великое слово! Я представляю себе жизнь официанткой, которая спрашивает, какой приправы я желаю к колбаскам – горчицы, хрена или огурцов… Официантку зовут Текла… Наши возможности ограничены, зато всегда находятся громкие слова… Несоответствие – удел многих. Однажды меня пригласили на синхронный сеанс известного шахматиста. Зал для выступления оказался затхлым и душным, полным табачного дыма. Внезапно раздался крик: "Приближается мастер!" И кто же, вы думаете, вошел? Лопоухий, туповатый на вид человек в поношенном костюме. Куцый синий сюртучишка выглядел, однако, не более поношенным, чем его лицо. Ха-ха! "Приближается мастер"… Что же тогда нам остается? Немногое. Когда-то у меня был один знакомый, имевший, со своей стороны, одного коллегу, с которым в свое время учился в гимназии. Потом этого коллегу моего бывшего знакомого из школы забрали – поскольку он не очень старался стать олухом, как другие, и тем снискать расположение учителей – и определили в ученики… Вы думаете, к мяснику или сапожнику? Нет, как ни странно, – в винный магазин. Спустя несколько недель человек этот встретил на набережной моего знакомого – знакомого звали Вальдемар Тибитанцель, он писал непубликуемые стихи-и похвастался, что даже после столь короткого ученичества уже умеет за несколько минут изготовить поддельное бордо якобы столетней выдержки. Достойно сожаления, что подающий надежды юноша со сновидческой быстротой соскользнул и с этой жизненной колеи. При его гениальных способностях он мог бы вскоре угостить нас вином из подвалов Вечности, не говоря уж о Кембрийском периоде. Однако он поступил иначе. Этот способный к превращениям человек внезапно вынырнул в качестве Архангела на подмостках Бургтеатра. Мой знакомый вскоре после описанной встречи снова увидел его на Грабене. Борода Вальдемара Тибитанцеля, если применить к ней художественные критерии, в то время представляла собой нечто среднее между бородою Христа и пушком на девичьем подбородке, а обычный внимательный наблюдатель, выражая близкую к истине догадку, сказал бы, что он попросту небрит. С пряжек башмаков облупился черный лак, обнажив желтую латунь, то есть даже в самых незначительных мелочах проявлялось безнадежное состояние финансов Тибитанцеля и его, если можно так выразиться, австрийства. Архангел, мнимо углубленный в свое же гладковыбритое лицо, сделал вид, будто не заметил Непубликуемого, который потом несколько дней горько мне на это жаловался. Но не прошло и недели, как Вальдемар Тибитанцель умер прямо посреди трагедии в пяти актах. И если завтра я привлеку к ответу незнакомого мне человека, фальсификатора вин и лицедея, за дела, которые давно поросли быльем, то сделаю это из солидарности; короче, речь здесь идет о принципиальных вещах… а не просто о каких-то там прихотях… Потому что и сам я, о Боже, еще когда был королем и множество людей дожидались моего приветствия, приветствовал их – со стороны своей персоны – неравномерно. Я приветствовал один раз в двойном объеме, то есть с глубоким поклоном, другой раз, скованный своего рода параличом воли, не приветствовал вовсе; и если подданные не довольствовались тем, чтобы, сложив двойную порцию с нулевой, потом разделить полученную сумму надвое, а начинали брюзжать по поводу моего неучтивого поведения, то меня чертовски мало заботило, что обо мне думают эти мухи. Так вот, если завтра я пошлю наверх к Архангелу секундантов – товарищей моих по судьбе и братьев по выбору, старого сапожника и шляпника, других и искать не надо, – то это будет совершенно иной случай. Я хочу умереть – и, воспользовавшись такой возможностью, закрутить другого человека, которого я познал в его ничтожестве… Как закручивают кран с ядовитым газом, как Агасфер закрутил карликового бульдога Шнуди… Если же я после поединка останусь в живых, на что у меня мало надежды, то мой денщик Филипп и известная чернильница когда-нибудь – по завещанию – все равно перейдут к тем, кто захочет их получить; среди множества претендентов на наследство, при прочих равных условиях, преимущество будут иметь надушенные постовые. Но прежде чем я поверну пусковую ручку автомобиля и вылечу из поворота, чтобы разбиться о придорожный столб, прежде чем я отправлюсь в ту последнюю дорогу… Прежде чем жалюзи окончательно упадут, лишив меня вида на Линцерштрассе, я хочу набраться храбрости и пролаять ответ трусливо бегающему по платформе фургона пинчеру, хочу посидеть с шестью ребятишками возле дорожного рабочего, хочу спросить сапожника Энгельберта Кокошнигга, почему он завел себе вывеску «У двух львов», а зеленщицу – не вдова ли она, и, если нет, то почему терпит клюющего горох воробья, чьей беззаботной жизни я завидую; я также попытаюсь увидеть ресторатора Доминика, понаблюдать за самим собой в обличье галки с перебитым крылом на Вайбурггассе и, если окажусь в соответствующем настроении, собственноушно решить проблему: правда ли, что в одном специфическом случае лирически настроенные венские барышни восклицают «Тири-ли-ли!» Больших радостей жизнь мне все равно не подарит… Вы думаете, я весельчак? Конечно! Душераздирающий весельчак! Все это не что иное, как юмор висельника. И страх. Ведь если жизнь кажется мне состоящей именно из таких пустяков, какими занимаюсь я сам, то что, если и смерть захочет надо мной подшутить, сыграв соответствующую роль? И – разочарует меня? Смерть – которая прежде была деревенским косарем, грубой, но именно потому респектабельной личностью, чья правомочность подтверждена бессчетными картинами достопримечательных живописцев, – в моем воображении принимает все более комические обличья. Я вижу ее отнюдь не как черного рыцаря: она приближается как тот шахматный гроссмейстер или выбегает на арену как клоун, высовывает язык, который вытягивается до бесконечности и своим кончиком пронзает меня… Я вижу ее кондуктором, который компостирует мой билет, признает его негодным и, не желая ждать до следующей остановки, принуждает меня выпрыгнуть из трамвая на ходу… ругаясь не без чешского акцента… Я узнавал смерть и в жестоких мальчишках, гвоздями прибивающих к воротам летучих мышей, и в разбивающих уличные фонари студентах, и в министрах, которые распускают рейхстаг, а недавно – даже в машинисте подземки. «Вагоновожатому запрещено разговаривать с пассажирами». Поразительное совпадение…
Думаю, я бы не вынес, если б еще и смерть накормила меня разочарованием…
Глубокая апатия и равнодушие овладели мною, моя душа более не способна к высоким взлетам, уже давно я уклоняюсь от чтения Гете, ибо в глубине души чувствую, что не достоин его. И что же теперь – сияющая смерть от меня ускользнет, Друг Хайн, сморщившись, превратится в карикатуру на самого себя? Справедливо ли это? Как бы там ни было, мне не остается ничего иного: я уйду отсюда и землю – этот апартамент с отдельным выходом! – покину, покину… Что тут такого особенного? Жалюзи падают… с улицы больше ничего не видно… Как я радуюсь предстоящему! Стоит ли испытывать страх? Возьму разбег и перепрыгну. Или все же остаться? У всех вокруг дела идут неплохо. В витринах бакалейщиков выставлены далматинские вина. Этого прежде не было. Но я по-прежнему совершенно ничем не владею: ничем, что могло бы меня глубоко порадовать. Ничем, кроме уже упомянутого, я не владею – мое имя Тубуч, Карл Тубуч…
1911
1. Друг Хайн (Freund Hein) – персонификация смерти в немецкоязычных странах, впервые упоминается на листовке 1650 г.
Вальтер Райнер
Кокаин Рассказ
Перевод Евгения Воропаева
Нас утешает Смерть,
и на беду она же
Нас вынуждает жить.
Она – всей жизни цель,
Надежда добрести с тяжелою поклажей
И ободряющий, вперед влекущий хмель.
Она единая надежда нам и даже -
Когда бредем в грозу, и в бурю, и в метель -
Тот пресловутый дом, где может люд бродяжий
Присесть и отдохнуть, поесть и лечь в постель.
То – Ангел, чьи персты дарят и сон, и дрему.
Он учит нас мечте, и свежую солому
На ложе стелет он, чтоб грезил сирота.
То – слава Божия, с пшеницей тайной кромы,
То – нищих житница, родные им хоромы,
Неведомых небес открытые врата.
Шарль Бодлер
Смерть убогих
НОЧЬ громадой висела в кронах деревьев и каплями стекала на плечи Тобиаса, шагавшего под шепчущими ветвями. Он ходил и ходил, вверх и вниз по аллее, без малого уже два часа.
Уличные часы (медный призрак на перекрестке) показывали половину одиннадцатого. В умирании этого летнего вечера, расплывающегося нежнейшими оттенками чернил позади неизменной серой громады Гедехтнискирхе, Тобиас чувствовал себя сломленным: мрачное беспокойство неотступно возвращалось и терзало его тем сильнее, чем старательнее он пытался от него отвязаться или заглушить его в дребезжащей суете кафе.








