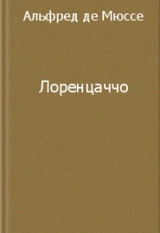
Текст книги "Лоренцаччо"
Автор книги: Альфред де Мюссе
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Сцена 3
Улица. Немецкий офицер и солдаты; Томазо Строцци среди них.
Офицер. Если мы не найдем его дома, мы найдем его у Пацци.
Томазо. Иди, куда шел, и не заботься об этом деле; не то поплатишься.
Офицер. Не угрожать! Я исполню приказание герцога и никому не позволю угрожать мне.
Томазо. Дурак, ты Строцци берешь под стражу по приказу какого-то Медичи!
Около них образуется толпа.
Горожанин. Зачем вы берете под стражу этого синьора? Мы хорошо его знаем, это сын Филиппо.
Другой. Отпустите его; мы за него ручаемся.
Первый. Да, да, мы отвечаем за Строцци. Пусти его или береги свои уши.
Офицер. Прочь, сволочь! Очищайте дорогу правосудию герцога, если вам не по вкусу удары алебардой.
Появляются Пьетро и Филиппо.
Пьетро. Что здесь такое? Что за шум? Что ты делаешь здесь, Томазо?
Горожанин. Не позволяй ему, Филиппо; он хочет вести твоего сына в тюрьму.
Филиппо. В тюрьму? Кто дал такое приказание?
Пьетро. В тюрьму? Знаешь ты, с кем имеешь дело?
Офицер. Схватить этого человека.
Солдаты арестовывают Пьетро.
Пьетро. Пустите, негодяи, или я вспорю вам брюхо, как свиньям!
Филиппо. По чьему приказанию действуете вы, синьор?
Офицер(показывая приказ герцога). Вот мои полномочия. Мне приказано взять под стражу Пьетро и Томазо Строцци.
Солдаты оттесняют народ, который бросает в них камнями.
Сюда, на помощь!
Пьетро обезоружен.
Вперед! И первого, кто подойдет слишком близко, коли в брюхо! Это будет им наукой – пусть не мешаются не в свое дело.
Пьетро. Меня не могут взять под стражу без приказа Совета Восьми. Какое мне дело до приказов Алессандро! Где приказ Восьми?
Офицер. На их суд мы вас и ведем.
Пьетро. Если так, я ничего не могу сказать. В чем обвиняют меня?
Человек из народа. Как, Филиппо, ты позволяешь вести своих детей на суд Восьми?
Пьетро. Отвечайте же, в чем меня обвиняют?
Офицер. Это меня не касается.
Солдаты уходят с Пьетро и Томазо.
Пьетро (уходя). Не беспокойтесь, отец, суд Восьми пошлет меня ужинать домой, и незаконнорожденный останется ни при чем.
Филиппо(один, садится на скамью). У меня много детей, но это ненадолго, если все пойдет так быстро. До чего мы дожили, если месть, столь правая, как это ясное небо, карается, словно преступление! Да что! Старших сыновей рода, древнего, как самый город, сажают в тюрьму, точно разбойников с большой дороги! Наказано самое грубое оскорбление, нанесен удар какому-то Сальвиати, удар не смертельный, и алебарды пошли уже в ход. Покидай же ножны, меч мой! Если священное правосудие становится броней развратников и пьяниц, пусть топор и кинжал, оружие убийц, послужат защитой честному человеку. О Христос! Правосудие стало сводней! Честь Строцци поругана на площади, и трибунал защищает плоские выходки грубияна! Какой-то Сальвиати бросает самому славному флорентийскому роду свою перчатку, запачканную вином и кровью, а когда его наказывают, он обороняется топором палача! О сияние солнца! Четверть часа тому назад я не соглашался с мыслью о восстании, и вот – тот хлеб, который будет мне пищей, мне, чьи уста хранят следы слов примирения! Ну что ж! Действуйте, мои руки, а ты, дряхлое тело, сгорбившееся под бременем старости и учености, выпрямись, чтобы взяться за дело!
Входит Лоренцо.
Лоренцо. Филиппо, ты ли просишь милостыни на углу этой улицы?
Филиппо. Я прошу милостыни у правосудия людей: я нищий, алчущий правосудия, и честь моя – в рубище.
Лоренцо. Какие же перемены должны совершиться в мире и в какие новые одежды облекается природа, если под маской гнева скрылся великолепный, спокойный лик старого Филиппо! О мой отец! На что ты жалуешься, по ком роняешь ты на землю драгоценнейшие жемчужины в мире, эти слезы человека без страха и упрека?
Филиппо. Мы должны избавиться от Медичи, Лоренцо. Ты сам тоже Медичи, но только по имени; если я хорошо тебя понял, если я был невозмутимым и дружелюбным зрителем мерзкой комедии, которую ты играешь, пусть вместо фигляра теперь появится человек. Если когда-нибудь ты был честен, будь честен и теперь. Пьетро и Томазо в тюрьме.
Лоренцо. Да, да, знаю.
Филиппо. Это ли твой ответ? Это ли твое истинное лицо, человек без шпаги?
Лоренцо. Что ты хочешь? Скажи, я отвечу.
Филиппо. Действовать! Но каким образом? Не знаю. Какое средство пустить в ход, какой рычаг подвести под эту цитадель смерти, чтобы поднять ее и сбросить в реку? Что делать, какое принять решение, к кому пойти? Я еще не знаю. Но действовать, действовать, действовать! О Лоренцо! Время пришло. Разве ты не опозорен, разве не смотрят на тебя, как на собаку, как на человека без сердца? Если, несмотря ни на что, дверь моего дома была открыта для тебя и сердце мое – тоже, если я протягивал тебе свою руку, то говори, и я посмотрю, не ошибся ли я в тебе. Не говорил ли ты мне о человеке, которого тоже зовут Лоренцо и который скрывается вот за этим Лоренцо? Этот человек – не любит ли он свою родину, не предан ли он своим друзьям? Ты это говорил, и я поверил. Говори, говори, время пришло.
Лоренцо. Если я не таков, как хотелось бы вам, пусть солнце свалится мне на голову.
Филиппо. Друг, смеяться над стариком, полным отчаяния, – это приносит несчастье; если ты говоришь правду, за дело! Ты давал мне обещания, которых не нарушил бы сам бог, и ради этих обещаний я и принимал тебя. Роль, которую ты играешь, – мерзкая, грязная роль, даже блудный сын не согласился бы играть ее во дни своего безумия, и все же я тебя принимал. Когда ты проходил и камни вопияли, когда от каждого твоего шага разливались потоки человеческой крови, я называл тебя священным именем друга, я старался быть глух, чтобы верить тебе, я старался быть слеп, чтобы любить тебя; я позволил тени твоей дурной славы омрачить мою честь, и дети мои усомнились во мне, видя на моей руке мерзкий след прикосновения твоей руки. Будь честен, потому что я был честен, действуй, потому что ты молод, а я стар.
Лоренцо. Пьетро и Томазо в тюрьме? Всего только?
Филиппо. О небо и земля! Да, всего только. Почти ничего. Двое детей, родных моих детей, должны сесть на скамью воров. Две головы, которые я целовал столько раз, сколько у меня седых волос и которые завтра утром я увижу пригвожденными к воротам крепости; да, всего только, больше ничего, право!
Лоренцо. Не говори со мною так; меня терзает тоска, рядом с которой самая темная ночь покажется ослепительным светом. (Садится рядом с Филиппо.)
Филиппо. Дать погибнуть моим детям, ведь это же невозможно, понимаешь! Если бы мне оторвали руки и ноги, то оторванные куски моего тела сползлись бы вновь, как куски змеи, и восстали бы для мщения! Мне все это так близко знакомо. Совет Восьми! Трибунал, состоящий из мраморных статуй, лес призраков, над которым проносится порой мрачный вихрь сомнения; они встрепенутся на миг и разрешатся словом, на которое нет суда. Слово, одно лишь слово, о совесть! Эти люди едят, спят, у них есть жены и дочери! О, пусть они убивают и режут, но только не моих детей, только не моих детей!
Лоренцо. Пьетро – мужчина; он не станет молчать, и его освободят.
Филиппо. О мой Пьетро, мой первенец!
Лоренцо. Возвращайтесь домой, сидите спокойно или, еще лучше, – уезжайте из Флоренции. Я за все ручаюсь вам, если вы уедете из Флоренции.
Филиппо. Я – в изгнании! Встретить мой смертный час на постели постоялого двора! О боже! И все это из-за слова какого-то Сальвиати!
Лоренцо. Знайте, Сальвиати хотел соблазнить вашу дочь, но не для себя одного. Алессандро – с ним заодно; на ложе Сальвиати он берет дань с проституции.
Филиппо. И мы не будем действовать! О Лоренцо, Лоренцо! Ты – ты твердый человек; говори же, я слаб, и все это слишком близко моему сердцу. Видишь, я изнемогаю! Я слишком много размышлял в этой жизни, я слишком долго кружился в одну сторону, словно лошадь в виноградной давильне; я больше не гожусь для битвы. Скажи мне, как ты думаешь; я так и поступлю.
Лоренцо. Возвращайтесь домой, милейший.
Филиппо. Вот что: я пойду к Пацци. Там пятьдесят юношей, никто из них не отступит. Они поклялись действовать; речь моя будет полна благородства, как речь Строцци и речь отца, и они меня поймут. Сегодня вечером я позову на ужин всех членов моего рода – их сорок; я расскажу им, что случилось со мной. Посмотрим, посмотрим! Еще неизвестно, что будет. Берегитесь, Медичи! Прощай, я иду к Пацци; ведь я же шел к ним, когда схватили Пьетро.
Лоренцо. Есть разные демоны, Филиппо; тот, который обольщает тебя сейчас, не менее страшен, чем другие.
Филиппо. Что ты хочешь сказать?
Лоренцо. Берегись его, этот демон прекраснее архангела Гавриила; свобода, отечество, счастье людей – все эти слова звучат при его приближении, как струны лиры; то плеск серебряных чешуи его блистающих крыл. Слезы его очей оплодотворяют землю, и в руке его – пальмовая ветвь мученичества. Слова его очищают воздух вокруг его уст; полет его так стремителен, что никто не может сказать, куда он летит. Берегись его! Раз в жизни я видел его, несущегося в небесах. Я сидел, склонившись над книгами; от прикосновения его руки волосы мои затрепетали, как легкий пух. Повиновался ли я ему или нет, не будем говорить об этом.
Филиппо. Я лишь с трудом понимаю тебя и… не знаю почему, но боюсь тебя понять!
Лоренцо. Неужели у вас одна только мысль: освободить ваших сыновей? Ответьте, положа руку на сердце: мысль более обширная, более страшная не влечет ли вас, как грохочущая колесница, навстречу всей этой молодежи?
Филиппо. Да! Это так! Пусть несправедливость, выпавшая на долю моей семьи, подаст знак к завоеванию свободы. Ради себя и ради всех – я пойду!
Лоренцо. Берегись, Филиппо, ты подумал о счастии человечества.
Филиппо. Что это значит? Или ты и в душе, как и снаружи, смрадное испарение? Ты, который говорил мне о драгоценной влаге, заключенной в тебе, как в сосуде, – так вот что ты несешь?
Лоренцо. Я в самом деле драгоценен для вас, потому что я убью Алессандро.
Филиппо. Ты?
Лоренцо. Я; завтра или послезавтра. Возвращайтесь домой, старайтесь освободить ваших детей; если вы не сможете это сделать, пусть они подвергнутся легкому наказанию; я наверное знаю, что им не угрожает других опасностей, и повторяю вам, что через несколько дней во Флоренции не будет Алессандро Медичи, как не бывает солнца в полночь.
Филиппо. Если это правда, то, что дурного в моих мыслях о свободе? Не наступит ли она, когда ты нанесешь удар, если ты его нанесешь?
Лоренцо. Филиппо, Филиппо, берегись. Твоей седой голове шестьдесят добродетельных лет; это слишком дорогая ставка для игры в кости.
Филиппо. Если под этими мрачными словами ты скрываешь нечто такое, что я способен понять, то говори – ты приводишь меня в странное возбуждение.
Лоренцо. Каков бы я ни был, Филиппо, я был честен. Я верил в добродетель, в величие человека, как мученик верит в бога своего. Над бедной Италией я пролил больше слез, чем Ниобея над своими дочерьми.
Филиппо. И что же, Лоренцо?
Лоренцо. Юность моя была чиста, как золото. За двадцать лет молчания в груди моей накопились молнии; пожалуй, я и в самом деле превратился в грозовую искру, потому что однажды ночью, которую я проводил среди развалин древнего Колизея, я встал, сам не знаю, почему, поднял к небу увлажненные росою руки и поклялся, что один из тиранов моей отчизны умрет от моей руки. Был я мирным студентом, лишь искусства и науки занимали меня в то время, и не могу объяснить, как зародилась во мне эта странная клятва. Быть может, это то же чувство, которое испытывает влюбленный.
Филиппо. Я всегда доверял тебе, и все же мне кажется, что вижу сон.
Лоренцо. Мне тоже так кажется. Я был счастлив в то время; сердце мое и руки находились в покое; мое имя призывало меня к власти, и мне лишь оставалось созерцать восходы и закаты, чтобы видеть, как расцветает вокруг меня столько человеческих надежд. Тогда еще люди не успели причинить мне ни добра, ни зла; но я был добр и, на вечное мое несчастье, захотел быть великим. Я должен признаться: если провидение внушило мне мысль убить тирана, какого бы то ни было, – то эту мысль мне внушила и гордость. Что мне еще сказать? Цезари всего мира напоминали мне о Бруте.
Филиппо. Гордость добродетели – благородная гордость. Зачем отрекаться от нее?
Лоренцо. Если ты не безумец, тебе никогда не понять той мысли, что снедала меня. Чтобы понять лихорадочное волнение, сделавшее из меня того Лоренцо, который говорит с тобой, надо было бы, чтобы мозг мой и мои внутренности предстали обнаженные под скальпелем. Статуя, которая покинула бы свой пьедестал и пошла по площади среди людей, быть может, напомнила бы то, чем я был в тот день, когда начал жить мыслью, что я должен стать Брутом.
Филиппо. Ты все больше и больше меня изумляешь.
Лоренцо. Сперва я хотел убить Климента Седьмого; я не мог этого сделать, потому что меня прежде времени изгнали из Рима. Я избрал моей целью Алессандро. Я хотел действовать один, без чьей бы то ни было помощи. Я трудился для человечества, но моя гордость оставалась одинокой среди всех моих человеколюбивых мечтаний. Мой странный поединок надо было начать с хитрости. Я не хотел ни поднимать народ, ни добиваться болтливой славы паралитика, вроде Цицерона; я хотел добраться до самого человека, вступить в схватку с живой тиранией, убить ее, а потом принести на трибунал мой окровавленный меч, чтобы испарения крови Алессандро бросились в нос краснобаям, чтобы они согрели их напыщенные мозги.
Филиппо. Какое упорство, друг, какое упорство!
Лоренцо. С Алессандро трудно было достигнуть цели, которую я себе поставил. Флоренция, как и сейчас, утопала в волнах вина и крови. Император и папа сделали герцогом мясника. Чтобы понравиться. моему двоюродному брату, надо было пробраться к нему, минуя потоки слез; чтобы стать его другом и приобрести его доверие, надо было слизать поцелуями с его толстых губ все остатки оргий. Я был чист, как лилия, и все же я не отступил перед этой задачей. Чем я стал, чтобы достичь этой цели, об этом не будем говорить. Ты понимаешь, что я вытерпел; есть раны, с которых нельзя безнаказанно снять повязку. Я стал порочным, трусливым, меня позорят и поносят; не все ль равно? Дело не в этом.
Филиппо. Ты опускаешь голову, на глазах у тебя слезы.
Лоренцо. Нет, я не краснею; гипсовые маски не знают румянца стыда. Я сделал то, что сделал. Знай только, что мое предприятие удалось. Скоро Алессандро придет в такое место, откуда не выйдет живым. Я близок к цели, и будь уверен, Филиппо, когда погонщик быков валит на траву разъяренное животное, он не опутывает его такими арканами, такими сетями, какие я расставил вокруг моего ублюдка. Это сердце, к которому целая армия не проникла бы в течение года, оно теперь обнажено, оно под моей рукой; стоит мне только уронить кинжал, и он вонзится в него. Все будет сделано. Но знаешь ли, что теперь со мной и от чего я хочу предостеречь тебя?
Филиппо. Ты наш Брут, если это правда.
Лоренцо. Я думал, что я Брут, бедный мой Филиппо; я вспоминал о золотом жезле, покрытом кровью. Теперь я знаю людей и советую тебе не вмешиваться.
Филиппо. Почему?
Лоренцо. Ах! вы жили в полном уединении, Филиппо. Как сверкающий маяк, вы стояли неподвижно на берегу людского океана и видели в водах отражение собственного сияния; в глубине вашего одиночества вам казался великолепным этот океан, осененный роскошным балдахином неба; вы не считали всех волн его, не старались измерить глубину; вы были исполнены доверия к творению рук божьих. А я, я в это время нырял, я погружался в бурное море жизни; покрытый стеклянным колпаком, я проникал в его глубины; в то время как вы любовались его поверхностью, я смотрел на обломки кораблекрушений, кости людей, на левиафанов.
Филиппо. Твоя тоска разрывает мне сердце.
Лоренцо. Я говорю вам это потому что вижу вас таким, каким был и я, готовый сделать то, что я сделал. Я вовсе не презираю людей; неправы историки и книги, когда показывают нам людей не такими, каковы они в действительности. Жизнь – как большой город; можно пробыть в нем лет пятьдесят или шестьдесят, не видя ничего, кроме улиц, обсаженных деревьями, и дворцов, но только не нужно тогда заходить в таверны или останавливаться, когда идешь домой, у окон в дурных кварталах. Вот что я думаю, Филиппо. Если дело в том, чтобы спасти твоих детей, советую тебе сидеть спокойно; это лучшее средство, чтобы их отослали домой, прочитав им маленькое наставление. Если же ты собираешься предпринять что-либо для блага человечества, советую тебе отрезать себе руки, ибо ты скоро заметишь, что только у тебя они и есть.
Филиппо. Я понимаю, что роль, которую ты играешь, могла породить в тебе подобные мысли. Если я правильно понял тебя, то ради великой цели ты избрал мерзкий путь, и ты думаешь, все в мире похоже на то, что ты видел.
Лоренцо. Я очнулся от моих грез, вот и все. Я говорю тебе о том, как они опасны. Я знаю жизнь, и будь уверен, это гнусная стряпня. Не суй в нее свою руку, если есть для тебя что-нибудь святое.
Филиппо. Довольно, не ломай, как тростинку, посох моей старости. Я верю во все то, что ты называешь грезами; я верю в добродетель, в целомудрие, в свободу.
Лоренцо. А вот я, Лоренцаччо, хожу по улице, и дети не бросают в меня грязью! Постели дочерей – еще горячие от моего пота, а когда я прохожу, отцы не хватают ножей и метел, чтобы избить меня. В каждом из этих домов – их здесь десять тысяч – седьмое поколение будет еще говорить о той ночи, когда я вошел в дом, и ни один из них не вышлет навстречу мне слугу, который рассек бы меня пополам, как гнилое полено. Я дышу воздухом, которым дышите вы, Филиппо; мой пестрый шелковый плащ лениво волочится по песку аллей; ни одной капли яда не попадает в шоколад, который я пью. Да что и говорить! О Филиппо! Бедные матери, стыдясь, приподнимают покрывала со своих дочерей; когда я останавливаюсь у их порога; они с улыбкой более мерзкой, чем поцелуй Иуды, показывают мне их красоту, а я, ущипнув малютку за подбородок, в бешенстве сжимаю кулаки, перебирая в кармане четыре или пять жалких золотых.
Филиппо. Пусть искуситель не презирает слабого – зачем искушать, когда сомневаешься?
Лоренцо. Разве я сатана? О небо! Я не забыл еще, как я готов был заплакать над первой девушкой, которую я соблазнил, если бы она не рассмеялась первая! Когда я начал играть свою роль – роль нового Брута, я расхаживал в моем новом одеянии великого братства порока как десятилетний мальчик, надевший латы сказочного великана. Я думал, что разврат кладет клеймо, и только чудовища бывают отмечены им. Я начал говорить во всеуслышание, что моя двадцатилетняя добродетель – маска, в которой я задыхаюсь. О Филиппо! В то время я вступил в жизнь, и когда ближе подошел к людям, то увидел, что они поступают так же, как я; все маски падали перед моим взором; человечество приподняло одежды и явило мне, как достойному преемнику, свою чудовищную наготу. Я увидел людей такими, каковы они на самом деле, и я сказал себе: для кого же я тружусь? Блуждая по улицам Флоренции с моим призраком, не отстававшим от меня, я искал лицо, которое вселило бы в меня бодрость, и спрашивал себя: когда я сделаю мое дело, пойдет ли оно на пользу вот этому человеку? Я видел республиканцев в их кабинетах; я входил в лавки; я слушал и подсматривал. Я ловил разговоры простого люда; я наблюдал, какое действие оказывает на них тирания; на пирах патриотов я пил вино, рождающее метафору и прозопопею; между двумя поцелуями я глотал самые что ни на есть добродетельные слезы; я все ждал – не мелькнет ли на лице человечества проблеск честности. Я следил, как влюбленный следит за своей невестой в ожидании дня свадьбы.
Филиппо. Если ты видел только зло, жалею тебя, но не могу тебе поверить. Зло существует, но ведь есть и добро; тени без света тоже не бывает.
Лоренцо. Ты хочешь видеть во мне только человеконенавистника; это оскорбление для меня. Я отлично знаю, что есть добрые люди; но что в них толку? Что они делают? Как поступают? Что пользы, если совесть жива, но рука мертва? С известной точки зрения все будет хорошо: собака – верный друг, она может заменить нам лучшего слугу, но в то же время можно видеть, как она бросается на трупы, и от языка, которым она лижет хозяина, на версту разит падалью. А мне, мне ясно одно: я погиб и гибелью своей не принесу людям пользы, так же как не буду понят ими.
Филиппо. Бедное дитя, ты терзаешь мое сердце. Но если ты честен, ты вернешь свою честность, когда освободишь родину. Мое старое сердце радуется при мысли, что ты честен, Лоренцо; тогда ты сбросишь эту мерзкую личину, которая уродует тебя, и снова засверкаешь металлом столь же чистым, как бронзовые статуи Гармодия и Аристогитона.
Лоренцо. Филиппо, Филиппо, я был честен. Рука, которая раз приподняла покрывало истины, уже не может опустить его; она до смерти остается неподвижной, все придерживает страшное покрывало, подымает его все выше и выше над головой человека, пока ангел вечного сна не сомкнет ему очи.
Филиппо. Излечиваются все болезни; а порок – тоже болезнь.
Лоренцо. Слишком поздно. Я свыкся с моим ремеслом. Порок был для меня покровом, теперь он прирос к моему телу. Я на самом деле развратник, и когда я шучу над себе подобными, я мрачен, как смерть, при всем моем веселье. Брут притворялся безумцем, чтобы убить Тарквиния, и что удивляет меня в нем, так это то, что он не лишился разума. Воспользуйся моим примером, Филиппо, вот что я должен тебе сказать: не трудись для своей родины.
Филиппо. Мне кажется, что если бы я поверил тебе, небо навсегда покрылось бы мраком и старость моя обречена была бы двигаться ощупью. Возможно, что ты избрал опасный путь; почему мне не избрать другого пути, который приведет меня к этой же цели? Я хочу обратиться с призывом к народу и действовать открыто.
Лоренцо. Берегись, Филиппо, тот, кто говорит тебе это, знает, почему он так говорит. Какой бы путь ты ни избрал, тебе всегда придется иметь дело с людьми.
Филиппо. Я верю в честность республиканцев.
Лоренцо. Бьюсь с тобой об заклад. Я убью Алессандро, и если республиканцы, когда дело будет сделано, поведут себя, как им подобает, им легко будет утвердить республику, прекраснейшую из всех, которые когда-либо цвели на земле. Пусть только народ станет на их сторону – и все будет решено. Но ручаюсь тебе, ни народ, ни они ничего не сделают. Все, о чем я прошу тебя, – не вмешивайся в это дело; если хочешь, говори, но будь осторожен в речах, а еще осторожнее в поступках. Дай мне сделать мое дело: твои руки чисты, а мне, мне терять нечего.
Филиппо. Делай – и увидишь.
Лоренцо. Пусть так, но запомни вот что. Видишь – в этом маленьком доме семья собралась вокруг стола? Не скажешь ли, что это люди? У них есть тело, а в этом теле душа. И все же, если бы мне пришла охота войти к ним одному, вот как сейчас, и заколоть кинжалом их старшего сына, никто не поднял бы на меня ножа.
Филиппо. Ты внушаешь мне ужас. Как может оставаться великим сердце, если у человека такие руки?
Лоренцо. Идем, вернемся в твой дворец и попытаемся освободить твоих детей.
Филиппо. Но зачем тебе убивать герцога, когда у тебя такие мысли?
Лоренцо. Зачем? Ты это спрашиваешь?
Филиппо. Если ты считаешь, что это убийство не принесет пользы твоей родине, как ты можешь его совершить?
Лоренцо. Ты решаешься спрашивать меня об этом? Погляди-ка на меня. Я был прекрасен, безмятежен и добродетелен.
Филиппо. Какую бездну ты раскрываешь предо мною! Какую бездну!
Лоренцо. Ты спрашиваешь, зачем я убью Алессандро? Что же, ты хочешь, чтоб я отравился или бросился в Арно? Хочешь, чтобы я стал призраком и чтобы, когда я ударяю по этому скелету (бьет себя в грудь), не вылетело бы ни единого звука? Если я стал тенью самого себя, неужели ты хочешь, чтоб я прервал единственную нить, которая еще связывает мое сердце с моим прежним сердцем? Подумал ли ты, что это убийство – все, что осталось мне от моей добродетели? Подумал ли ты, что я уже два года карабкаюсь по отвесной стене и что это убийство – единственная былинка, за которую я мог уцепиться ногтями? Или ты думаешь, что у меня нет больше гордости, потому что у меня больше нет стыда? И хочешь, чтобы я дал умереть в молчании загадке моей жизни? Да, конечно, если бы я мог вернуться к добродетели, если бы годы порока могли исчезнуть бесследно, я, пожалуй, пощадил бы этого погонщика быков. Но я люблю вино, игру и женщин; понимаешь ты это? Если ты, ты, говорящий со мной, чтишь во мне что-то, ты чтишь это убийство, может быть, именно потому, что ты его не совершил бы. Видишь ли, республиканцы давно уже кидают в меня грязью и поносят; давно уже звон стоит у меня в ушах, и проклятия людей отравляют хлеб, который я ем; мне надоело слушать, как болтуны горланят на ветер; пусть мир узнает, кто я и кто он. Слава богу! Завтра, быть может, я убью Алессандро! Через два дня все будет кончено. Те, кто вертится здесь вокруг меня, искоса на меня поглядывая, как на диковинку, вывезенную из Америки, всласть поработают глоткой и смогут пустить в ход все припасенные слова. Поймут ли меня люди или не поймут, станут ли они действовать или не станут, я все же скажу, что должен был сказать; я заставлю их очинить перья, если не заставлю отточить пики, и человечество сохранит на своем лице кровавые следы пощечины, нанесенной моей шпагой. Пусть они называют меня, как хотят, Брутом или Геростратом, но я не хочу, чтобы они забыли обо мне. Вся жизнь моя – на острие моего кинжала, и обернет ли голову провидение или не обернет, когда услышит удар, я бросаю природу человека орлом или решеткой на могилу Алессандро; через два дня люди предстанут на суд моей воли.
Филиппо. Все это меня удивляет, и в том, что ты сказал, многое печалит меня, а многое радует. Но Пьетро и Томазо в тюрьме, и тут я ни на кого не могу положиться, кроме себя. Напрасно я пытаюсь сдержать свой гнев; я потрясен слишком глубоко; быть может, ты и прав, но я должен действовать; я созову моих родственников.
Лоренцо. Как хочешь; но будь осторожен. Сохрани мою тайну даже от твоих друзей, – вот все, о чем я тебя прошу.
Уходят.








