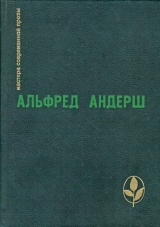
Текст книги "Отец убийцы"
Автор книги: Альфред Андерш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
Рекс спустился с подставки кафедры, некоторое время шагал взад-вперед вдоль первого ряда парт – молча, со скрещенными за спиной руками. Ну, и позер, думал Франц; потом Рекс остановился, посмотрел на классного наставника и спросил:
– Что вы предлагаете, господин доктор?
Кандльбиндер отошел наконец на два шага от двери.
– Занятия с репетитором, – сказал он.
Рекс вынул руки из-за спины и пренебрежительно и резко махнул ими. Затем произнес слова, от которых лицо Франца еще раз жарко вспыхнуло.
– Уроки с репетитором дорого стоят, – сказал Рекс. – Его отец не в состоянии их оплачивать. Он не может вносить даже плату за обучение. По просьбе его отца мы освободили Кина от платы за обучение в школе.
Вот собака, подумал Франц, подлая собака! Публично объявить, что мой отец не может вносить девяносто марок в месяц за обучение! Сто восемьдесят – вот сколько стоит школа, потому что и за Карла надо платить, а с тех пор, как отец заболел, он почти ничего не зарабатывает. Ну и скотина, думал Франц, это надо же – перед всем классом раструбить, что мы стали бедняками, скотина он, этот почитатель Сократа, сволочь, ну да черт с ними, пускай все знают, что Кины стали бедняками, пожалуйста, думал Франц, и лицо его снова стало нормального цвета, хотя он все еще продолжал про себя: вот собака! Даже последующее не лишило его спокойствия, он невозмутимо слушал, что говорит Рекс, только для видимости обращаясь к Кандльбиндеру:
– По просьбе его отца мы освободили Кина от платы за обучение в школе, хотя, согласно предписаниям, мы не имеем таких полномочий. Освобождение от платы за обучение можно предоставлять только выдающимся ученикам. Но я, – «я» сказал он сейчас, подумал Франц, – я думал, что могу сделать исключение для сына награжденного высоким орденом за храбрость офицера, который, вероятно, безвинно попал в трудное материальное положение. – Хорошенькое «вероятно», подумал Франц, мой старик ведь был лишь офицером запаса, и потому он не получает пенсии. – Я думал, – продолжал Рекс, – для такого ученика можно сделать исключение. И чем он отплачивает школе и своему бедному отцу?
Он сосредоточился, прежде чем подвести последнюю черту, а Франц настолько овладел собой, что мог при этом хладнокровно смотреть на него.
– Я даже позволил ему перейти в младшее отделение пятого класса, – сказал Рекс. – С единицей по математике и двойкой по латыни. Это была большая ошибка – я сам себя виню. Он ведь насилу одолел четвертый класс. Его успеваемость по латыни год от года падала. А теперь оказывается, что и с греческим он разыгрывает с нами такой же спектакль – ученик, который воображает, будто может просто не заниматься основными предметами.
Он снова зашагал взад-вперед – от холодной тусклой стены с дверью к светящемуся зеленым маем окну и обратно.
– Нет, – сказал он молчавшему Кандльбиндеру. – Это никуда не годится. Это просто никуда не годится. Ну скажите же: должны ли мы позволить ему еще целый год здесь сидеть, пока не выяснится, что и по греческому он получит единицу – единицу, и никак не больше?
Он задал вопрос не для того, чтобы получить ответ, – он его и не получил, разумеется, Кандльбиндер упорно молчал, (клонив голову набок, теперь Рексу незачем даже говорить, что он напишет моему отцу, подумал Франц, как отцу Грайфа, теперь ясно, что меня выгнали, что еще только несколько дней мне нужно приходить в эту клетку, в Вигтельсбахскую гимназию, вот здорово, подумал он вдруг, мне не нужно больше проделывать эту бесконечную скучную дорогу от Нойхаузена до Марсилац по Юта и Альфонсштрассе, по Нимфенбургерштрассе и Блютенбургершграссе до квартала казарм и пивоварен за Марсилац – до Артиллерийской казармы и пивоварни Хакера, – все сплошь пустынные улицы, которые я каждый день должен отмеривать, теперь с этим покончено, вот только отца жалко, это его подкосит, когда он узнает.
Рекс все еще стоял. Но смотрел он теперь не на Кандльбиндера, а на Франца
– Твой брат Карл – такого же сорта, – сказал он. – Для меня полнейшая загадка, как он добрался до младшего отделения седьмого класса. Я потребовал, чтобы мне показали его последние домашние задания. Сплошные ошибки! Одним только красивым почерком ему не справиться с годичной программой
Такого ведь быть не может, думал Франц, чтобы Карла тоже вышвырнули из гимназии! Обоих сыновей сразу! Отец этого не выдержит. Он ведь только этим и жил – надеждой, что мы поступим в университет.
Неожиданно Рекс сменил свой официальный и угрожающий тон.
– Как себя чувствует твой отец? – спросил он.
Франц опешил. Это же надо уметь, думал он, сперва выкинуть Карла и меня из школы, опозорив притом еще перед всем классом отца из-за платы за обучение, а потом справляться о его самочувствии! Подлый лицемер!
– Плохо, – сказал Франц угрюмо. – Он болен. Давно уже.
– О, – сказал Рекс, – мне жаль. Его не порадует известие о том, что его сыновья непригодны для обучения в высших школах.
Опять-таки ушат холодной воды! Немножко сочувствия, но только для того, чтобы показать: болезнь отца ничего не изменит в судьбе сыновей.
Как ни странно, вопреки опасениям Франца отец не принял плохую весть близко к сердцу. Он не разъярился, как обычно, когда Франц приходил домой со своими никудышными табелями. Франц решил, что сам сообщит об исключении из школы, он не хотел, чтобы отец узнал об этом из письма ректора. Возможно, отец не расшумелся потому, что после ужина прилег на софу; он тогда уже начал по разрешению врачей из Швабингской больницы впрыскивать себе морфий, чтобы заглушить боли в правой ноге, жжение в пальцах, которые вскоре предстояло ампутировать, большой палец на правой ноге уже почернел, отец бледный лежал на софе, это был уже не тот горячий человек с мгновенно вспыхивавшим лицом под черными волосами.
Софа стояла изголовьем к окну, за которым уже чернела ночь, лампа с зеленым шелковым абажуром освещала обеденный стол, с которого была уже убрана посуда, мать Франца положила на стол струганую доску и раскатывала тесто для лапши, доставая его из большого глиняного горшка, Франц смотрел, как она это делает, он любил смотреть, как мать раскатывает тесто для лапши. Его брат Карл молча слушал, пока Франц не закончил рассказа о школе – рассказа, касавшегося и его, – затем подсел к пианино и, как каждый вечер в последние недели, стал разыгрывать никак не удававшийся ему экспромт Шуберта, но Францу эта музыка все равно нравилась; в одну из пауз отец сказал:
– О моем здоровье он справился только потому, что у меня Железный крест I степени.
Вполне возможно, размышлял Франц, эти «герои тыла» втайне питают какой-то страх перед фронтовиками, почему-то боятся, как бы солдаты-фронтовики не сквитались с ними, потому они и прикидываются их закадычными друзьями, справляются об их самочувствии. Значит, что-то тут кроется, хотя, с другой стороны, имеет место и зависть, Рекс наверняка завидует отцову Железному кресту I степени. Дальнейшие же рассуждения отца Франц слушал скептически.
– Кроме того, – говорил отец, – старый Гиммлер хочет быть в добрых отношениях со мной, поскольку знает, что его сын – мой товарищ по «Рейхскригсфлагге».
В этом отец глубоко ошибается, подумал Франц. Если бы Рекс действительно знал, что мой старик в хороших отношениях с его сыном, молодым Гиммлером, он именно поэтому терпеть не мог бы отца.
Тут вмешалась мать. Она тонко раскатала скалкой тесто и начала нарезать его острым ножом на узкие полоски.
– Разве нет госпожи Гиммлер? – спросила она. – Я хочу сказать, что если есть госпожа Гиммлер, то должна же она стараться, чтобы ее муж и сын ладили друг с другом.
Франц Кин-старший не ответил, он закрыл глаза – боли ли его донимали, или он уснул, этого Франц не знал, возможно, отец нарочно отключился, чтобы не отвечать.
Ответил Франц.
– Старый Гиммлер носит широкое золотое обручальное кольцо, – сообщил он ей, подумав при этом, что и обручальное кольцо Рекса только часть маски, которую нацепил на себя сей великий педагог и таскает всю жизнь.
Жаль, что отец уже спал. Франц охотно рассказал бы ему, каково у него было на душе, когда сегодня в полдень в вестибюле гимназии задребезжал звонок. Рекс тотчас же вышел, чтобы не попасть в бесцеремонную толпу сорвавшихся с мест школьников, он лишь коротко кивнул ученикам и Кандльбиндеру, и двери класса снова как бы сами раскрылись перед ним – ему не пришлось и дотронуться до них. Франц, как и все остальные, быстро собрал свои книги и тетради и запихнул их в потертый кожаный портфель, все вокруг кричали, но ему никто ничего не сказал, хотя никто и не обошелся с ним недружелюбно, ему казалось, что все отводили глаза, если случайно встречались с ним взглядом. Обменялся ли Конрад Грайф с ним взглядом? Утверждать это Франц не мог бы; только штудиенрат Кандльбиндер пристально и укоризненно смотрел на него все время, пока он находился в классе. Франц поспешил выбраться из школы – на дворе было тепло, солнечный свет заливал безлюдные улицы, никто из одноклассников не присоединился к нему по дороге домой, но вторая половина дня протекала как всегда, он играл на Лахершмидском лугу в мяч, никто из игравших с ним не посещал Виттельсбахскую гимназию, Франц играл плохо, он чувствовал себя вялым, все время думал о предстоящем вечером › разговоре с отцом.
Вместо дребезжания звонка в школе он слышал теперь бренчание на пианино, но и оно скоро оборвалось. Маленький брат-восьмью годами младше Франца – уже спал в кровати, стоявшей напротив Францевой. При свете карманного фонаря, подперев голову правой рукой, Франц еще почитал «По дикому Курдистану», потом выключил фонарь и откинулся на подушку.
Perispomenon, подумал он, засыпая, properispomenon.
К ЧИТАТЕЛЯМ
1
Почему для пяти историй (представленная здесь – шестая), в которых описаны некоторые события моей жизни, я придумал человека по имени Франц Кин, персонажа, переживающего то, что в них описано? Разве не заявлял я уже несколько раз без обиняков, что истории о Франце Кине – это личные воспоминания, попытки написать автобиографию в форме повестей? Франц Кин – это я сам, но, раз так, почему же я беспокою его, а не говорю просто «я»? Почему повествую о себе в третьем лице, а не в первом? Ведь это меня, а не кого-то другого, старый Гиммлер экзаменовал по греческому языку и в результате скандального провала на этом экзамене выставил из гимназии. Почему же я, черт побери, прикрываюсь маской, этим Кином, каким-го именем, не более того?
Ответа я не знаю. Поскольку всякий изыск вызывает у меня такую же аллергию, как у школьника Франца Кина (моего второго «я») избитые сократо-софокловы тирады, произносимые обер-штудиендиректором, я прежде всего отказываюсь от отговорки, что Франц Кин обязан своим существованием моему желанию сохранить известную скромность. Самое сокровенное – так тешит себя автор – несколько утрачивает неловкий характер исповеди, если оно исходит из уст третьего лица, пусть и очень прозрачно замаскированного. Но на самом деле все как раз наоборот. Именно рассказ от третьего лица позволяет писателю быть максимально честным. Он помогает ему преодолевать скованность, от которой едва ли можно освободиться, если говорить «Я». То, что некий «Он» (например, Франц Кин в «Старой периферии») не сдержал данного друзьям слова, все же чуточку легче написать, чем напрямик признаться: я бросил товарищей на произвол судьбы. Так, во всяком случае, склонен считать автор. В конце концов, желание быть скромным относится к его лучшим свойствам, большинству читателей понятно это желание; им надоели авторы, все им выкладывающие, но автобиография не допускает, чтобы автор отчуждался, она не игра в прятки, кроме того, мне это ничего не дало бы, никто не поверит, что Франц Кин – эго Франц Кин. Скажут: причуда, скажут с раздражением или пониманием, но это не оправдывает прикрывшегося ею автора, если он не говорит о себе.
Но когда вспоминаю, что для других автобиографических вещей я, не раздумывая, использовал форму рассказа от первого лица единственного числа, выбор нынешней повествовательной манеры представляется мне еще более загадочным. «Вишни свободы» и «Вещевой мешок» – это воспоминания. С другой стороны, я написал от первого лица роман «Эфраим», но в противоположность Францу Кину Эфраим вовсе не тождествен мне, он совсем не похож на меня, я настаиваю на этом. Кстати, та книга завершается размышлением, не является ли «Я» наилучшей из всех масок. В работе писателя случаются такие противоречия.
Однако я подозреваю – и это единственная гипотеза, которую я позволяю себе по поводу существования Франца Кина, – что намерение вспоминать свою жизнь в повестях сыграло со мной злую шутку. Сама форма не то чтобы заставляет меня, но все же рекомендует воспользоваться Францем Кином. Он предоставляет мне известную свободу повествования, которую не допускает «Я», эта тираническая форма спряжения глагола. Я вижу – и это не позволяет видеть ничего другого, кроме того, что я вижу, видел или увижу, в то время как ему незачем так сурово сужать поле своего зрения. Я говорю здесь не о внутренней жизни Кина, не о роли фантазии в тексте – то и другое не вправе ни на волосок отклоняться от моей собственной внутренней жизни, от моей собственной фантазии, – а только о передвижных декорациях, выдвигаемых мной на сцену моей памяти, на сцену, на которой я позволяю ему играть. Приведу пример: эпизод с Конрадом фон Грайфом в «Отце убийцы» разыгрывался не на описанном в этой повести уроке греческого, а при других обстоятельствах. (В полной драм немецкой школе авторитарного воспитания никогда не было недостатка в случаях интерполяции сцены приспособления.) Если я выложу эту карту на стол, станет ли, согласно правилам автобиографии, повесть фальшивой, неправдоподобной? Не думаю. Напротив, благодаря этому она мне кажется более достоверной. Вообще автобиографии следует быть только достоверной – в пределах границ, которые ставит перед ней это требование, она вольна делать что вздумается. Что я хочу этим сказать? Если бы я утверждал, будто сам присутствовал при той истории со спесивым учеником на экзаменационном уроке, я не то чтобы солгал, но приврал бы. Однако я не вправе позволить себе даже такое невинное удовольствие. Кин же вправе выдавать себя за свидетеля. В его рассказе Виттельсбахская гимназия 1928 года предстает куда зримее, чем через строгое «Я» чистой автобиографии. У формы повествования сложные отношения с объектом жизнеописания. В таких произведениях остается нечто нерешенное, согласен. Но это даже входит в мои намерения.
Ну и довольно об этом Франце Кине. Строптивый он малый.
2
Единственные личные документы моего детства и юности, пережившие вторую мировую войну, – школьные табели. С подписью обер-штудиендиректора Виттельсбахской гимназии:
Гиммлер. Без имени, и я не вправе придумывать его. Единственное, что мною придумано о нем, – его утверждение, что он учился в епископальной гимназии во Фрайзинге. У меня нет сомнения, что такой человек, как он, обучался в кадровой школе баварского ультрамонтанства: в Эттале, Андехсе или Регенсбурге – неважно где. От других же известных мне и достоверных сведений о нем, напротив, пришлось отказаться, к примеру от того, что позднее, когда его сын стал вторым человеком в Германском рейхе, он с ним помирился. Почетный караул СС произвел над его гробом салют. Но может быть, это произошло вопреки его воле? Может быть, старый Гиммлер на смертном одре проклял своего сына? Значит, такие дополнительные сведения не столь уж и достоверны. Франц Кин не мог их привести, ибо знал о Рексе только то, что ему рассказывал отец и что он видел и слышал на том уроке греческого языка и во время краткой встречи с директором в школьной уборной. Взгляд в грядущее, сфабриковать который с помощью, так сказать, кадров из будущего, технически не составляет труда, но это совершенно разрушило бы характер повести как безусловно автобиографической; Рекс и Кин (мое второе «я») в ней могут быть только теми персонажами, какими они были в определенный майский день 1928 года, и никакими другими. Только тогда они, а вместе с ними и повествование, останутся незавершенными. Рассказчик в определенный майский день 1928 года не знал, что с ним, не говоря уж о ректоре Гиммлере, станет, и он надеется, что и его читатели предпочитают незавершенную историю законченной. Не следует писать рассказы так, как составляют документы – торговый договор или завещание.
Лишь название повести проецирует ее на будущее, ибо фиксирует непреложную истину, что старый Гиммлер был отцом убийцы. Характеристика «убийца» для Генриха Гиммлера слишком мягка; он был не просто какой-то особо опасный преступник – насколько хватает моих познаний в истории, он превосходил всех когда-либо существовавших истребителей человеческой жизни. Но название, выбранное мною для повести, фиксирует только исторический факт; оно не претендует на то, чтобы раскрыть индивидуальную, внутреннюю сущность этого человека– ‹ Рекса. Было ли предопределено старому Гиммлеру стать отцом молодого? Должен ли в силу «естественной необходимости», – согласно общеизвестным психологическим закономерностям, по законам наследования от поколения к поколению и по парадоксальной логике семейных традиций, – должен ли родиться у такого отца такой сын? Были ли оба, отец и сын, продуктами среды и политической обстановки или, совсем напротив, жертвами судьбы – как известно, неотвратимой, по излюбленнейшему у нас в Германии определению? Признаюсь, я не знаю ответа на эти вопросы, более того, я заявляю со всей решительностью, что не рассказал бы эту историю времен моей юности, если бы точно знал, что изверг и педагог непременно связаны друг с другом, и понимал, как эта связь возникает. Или что связь эта взаимно не обусловлена. Но тогда эта пара не интересовала бы меня. Интерес, толкающий меня к тому, чтобы сесть с карандашом за стопку чистой бумаги, вызывают не до конца раскрытые характеры, а не те, о которых я все совершенно точно знаю еще до того, как начать писать. И милее всего мне люди, остающиеся не до конца раскрытыми, таинственными, даже после того, как я закончил писать.
Больше я ничего не хотел бы сказать о содержании своей повести. Этот фрагмент комментария вообще дан здесь лишь для того, чтобы исключить грубейшую ошибку в истолковании: не следует думать, что «Отцом убийцы» я заклеймил весь род Гиммлеров, даже если Франц Кин в известном смысле это и делает, сочувствуя сыну, которого не знает, понимая его неприязнь к отцу, глубоко ему, Кину, несимпатичному.
На размышления наводит и тот факт, что Генрих Гиммлер – мои воспоминания об этом свидетельствуют – в отличие от человека, чьему гипнозу он поддался, вырос не в люмпен – пролетарской среде, а в старинной буржуазной, гуманитарно образованной семье. Разве гуманитарное образование ни от чего не защищает? Этот вопрос может ввергнуть в отчаяние.
Я спасся от него, попытавшись написать историю мальчика, который не хотел учиться. Но даже и в этом отношении она не однозначна – найдутся читатели, которые в столкновении между Рексом и Францем Кином примут сторону директора гимназии. Сам же я – ведь это мне позволительно-стою на своей собственной стороне.
3
По-видимому, прямая речь диалогов противоречит автобиографической и тем самым якобы документальной подлинности рассказа. Любой хоть сколько-нибудь критически мыслящий читатель заметит, что невозможно спустя более полувека помнить точный ход словопрений. Этих читателей я могу лишь просить еще раз подумать о функции образа Франца Кина, о возможностях, предоставляемых мне повествованием в третьем лице и помогающих избегать сослагательного наклонения, многочисленных форм прошедшего времени – всяких там конъюнктивов претерита, плюсквамперфектов и кондицииналиса, которыми полна косвенная речь, способная с легкостью сдержать темп рассказа, даже если для этого нет никаких причин.
Использованный для «Отца убийцы» способ повествования предельно прост-он совершенно линейный. Рассказывается, что происходило от первой до последней минуты на одном школьном уроке; только один раз в действие включается прошлое (сообщение о том, что Кин-старший поведал своему сыну Францу о Рексе) и один раз кадр из будущего (семейная сцена в конце). Ограничение повести единством времени и места и порождает, почти само собой, ту литературную форму, которую мы называем длинной новеллой.
Споткнулся я на проблеме сфер повествования. В этой истории их три. Первая – сфера писателя, то есть моя собственная; она обнаруживает себя в таких простых фразах, как «подумал Франц Кин», «думал Франц». Даже такая маленькая часть фразы, как эта, предполагает наличие кого-то, кто знает, о чем думал Франц Кин. Вторая, самая обширная, – сфера самого Кина; он не только носитель действия, но и относящихся к нему размышлений. И наконец, существует еще и третья инстанция, регистрирующая происшествие, – класс. Расположить эти три поля повествования таким образом, чтобы они друг друга покрывали, мне не удалось; и я думаю, что такая попытка и не может удаться, разве только если применить совершенно иные способы воссоздания материала.
Почему же вы ими не воспользовались? – могут меня спросить. Да, почему? Потому что линейный метод, при всех его недостатках, в данном случае показался мне наиболее подходящим. Мне хотелось во что бы то ни стало вытащить на свет божий эту «фотографию на память»: «Класс с учителями».
Рексу и штудиенрату Кандльбиндеру не положены собственные повествовательные сферы. Они только объекты наблюдения, и это дает им то небольшое преимущество, что некоторые читатели могут думать, будто по отношению к Рексу и учителю совершается вопиющая несправедливость. Сам я этого не считаю, но сознаюсь, что и спустя более пятидесяти лет все еще пристрастен в своем суждении. Рассказывать, вспоминать – дело всегда субъективное. Что вовсе не значит-неправдивое.
Самой трудной задачей оказалась верная передача мыслей и речи Кина и его одноклассников. Здесь надо было прибегнуть к словам и оборотам баварских школьников конца двадцатых годов и правдоподобно, а не как остроты, включить их в прозу. Так как я родился и вырос в Мюнхене и потому говорю по-баварски, напрашивался выход – изготовить этакий образчик диалектной литературы, но на это я не мог решиться. Я старался исключить все словечки нынешнего жаргона, что далось нелегко, ибо, поскольку тогда их у нас не было, пришлось отказаться от превосходного словарного запаса новейшей идиоматики. Я охотно позволил бы Кину говорить о Рексе как о «субъекте» или «фрукте», об учебной методе «слабака» Кандльбиндера как о фигне», а класс привел бы к единодушному мнению, что Конрад Грайф вел себя как «пижон». Но тогда мы не знали этих замечательных метких выражений, и потому мне надлежало придерживаться словарного запаса своей юности, из жаргона которого, кстати, многое обрело известную долговечность. Я пытался окрасить повествование в тон среды, в которой оно разыгрывается, по возможности незаметно. Для этого достаточно нескольких брызг. Язык, я убежден, всегда обновляется за счет разговорной речи. Живая литература ищет свои трудные пути между литературным языком и просторечием. Требования, которые я сам себе предъявляю. Удалось ли мне их выполнить? Не знаю. Я действительно не знаю. Но как бы то ни было, пусть мои читатели знают, чего я хотел.
*
Я благодарю госпожу д-ра Гертруду Марксер (Кихльберг) за
дружескую помощь в воссоздании описанного урока греческого.
*
Рукопись начата в мае 1979-го, закончена в январе 1980-го.
Берцона (Балле Онзерноне)А. А.








