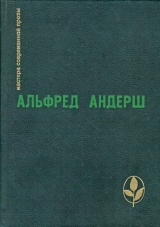
Текст книги "Отец убийцы"
Автор книги: Альфред Андерш
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Альфред Андерш
Отец убийцы
Бездарный гимназист посвящает эту повесть высокоодаренному, тому, кто стал одним из крупнейших мастеров немецкой словесности, – своему сверстнику и дорогому другу АРНО ШМИДТУ
Мы освободились от бандита,
Слышу я, и не нужна здесь жалость,
Ведь немало было им убито.
Ничего добавить не осталось.
Нет на свете этого бандита.
Впрочем, знаю: много их осталось.
Бертолът Брехт.
На смерть преступника (перевод Д. Самойлова)
Кажется, почти никто не чувствует, что преступления, ежечасно совершаемые по отношению к нашим детям, неотъемлемы от сущности школы. Но государства еще поплатятся за то, что превратили школы в такие заведения, где душа ребенка систематически убивается.
Фриц Маутнер. Философский словарь
Урок греческого должен был как раз начаться, когда дверь класса снова раскрылась. Франц Кин не обратил на это внимания; только увидев, что классный наставник, штудиенрат Кандльбиндер, смущенно, чуть ли не испуганно встал, повернулся к двери и спустился с двух ступенек, возвышающих его кафедру над классом, – чего он никогда не сделал бы, будь входящий лишь опоздавшим учеником, – Франц тоже с любопытством посмотрел на дверь, находившуюся впереди справа, около подставки, на которой стояла доска. И тут он увидел, что в класс вошел Рекс[1]1
Rex (лат.) – король, наставник; в немецкой школе – директор, ректор.
[Закрыть]. На нем был легкий светло-серый костюм, под расстегнутым пиджаком белая рубашка куполом покрывала живот, какое – то мгновение он светлым массивом помаячил на сером фоне коридора, затем дверь за ним закрылась; должно быть, кто-то, кто его сопровождал, но оставался незримым, открыл ее, пропустив его в класс, и снова закрыл. Она повернулась на петлях – и словно из автомата появилась кукла. Как на башне ратуши на Мариенплац выходят фигуры, подумал Франц Кин. Ошеломленный Кандльбиндер – он все еще выглядел так, будто бормотал «господи, помоги мне!», – запоздало крикнул: «Встать!», но ученики уже поднялись, не дожидаясь команды, и сели они тоже не тогда, когда учитель – опять пусть с секундным, но все же опозданием – выдохнул свое «Сесть!», а когда Рекс предупредительно поднял руки и сказал молодому штудиенрату: «Пусть садятся». Со сдвоенных скамеек, крепко сбитых со сдвоенными пюпитрами – между скамейками и пюпитрами они с трудом протискивались, ибо большинство из них в свои четырнадцать лет очень уж вымахали, – они наблюдали, как смущен был Кандльбиндер и как ловко Рекс отвел его попытку поклониться, протянув ему руку. Хотя Кандльбиндер был на полголовы выше тоже не малорослого Рекса (на взгляд Франца Кина-метр семьдесят), они все вдруг увидели, что их классный наставник рядом с пышущим здоровьем дородным обер-штудиендиректором попросту тощий, бледный и невзрачный человечишка, и внезапно поняли, что ничего о нем не знали, равно как и он о них ничего не знал и лишь ровным, почти никогда не повышавшимся и не понижавшимся голосом давал уроки, вероятно даже безупречные, но почему-то они, в особенности к концу, едва не засыпали. Боже праведный, что за скучняга этот Кандльбиндер, думал иногда Кин. И притом он ведь еще молод! Лицо бесцветное, а черные волосы всегда немножко растрепаны. Когда после пасхальных каникул Кандльбиндер принял их класс в младшее отделение пятого класса, Франц и все его однокашники с любопытством следили, не сделает ли он кого-нибудь любимчиком или козлом отпущения, но прошло уже почти два месяца, однако ничего подобного за учителем не наблюдалось. Вот только при столкновении с Конрадом Грайфом он едва не грохнулся, подумал Кин. Когда на переменках или на пути из школы они говорили об осторожности Кандльбиндера – что случалось нечасто, так как этот учитель мало их занимал, – всегда находился кто-нибудь, кто, пожимая плечами, замечал: «Да он просто всего боится».
Рекс повернулся лицом к классу; он носил очки в тонкой золотой оправе, из которых смотрели цепкие голубые глаза; сочетание золота и голубизны создавало на розоватом лице под прямыми белыми волосами впечатление чего-то искрящегося, живого, светящегося благорасположением, явной сердечностью, но Франц подумал, что Рекс, хотя и выглядел доброжелательным, вовсе не безобиден; его дружелюбию наверняка не следовало доверять, даже теперь, когда он, приветливый и тучный, смотрел на сидящих перед ним в три двойных ряда учеников.
– Так-так, – сказал он, – вот он, стало быть, мой младший «Б»! Рад вас видеть.
Он действительно Рекс, а не просто человек, чей титул в Виттельбахской гимназии сократили, превратив в это слово. В других мюнхенских гимназиях обер-штудиендиректоров тоже называли «рексами», но Франц сомневался, что все они выглядят как короли. Вот этот-да, крнечно. Весь светло-серо-белый, с безупречно лежащим на рубашке сияющим голубым галстуком, с округленным на углах золотисто-голубым визиром на лице, он стоял на фоне большой школьной доски, и, казалось, ни Кандльбиндера, ни учеников не задело, что он наделил класс притяжательным местоимением. Неужели только я, задался Франц вопросом, заметил, что он обратился к нам так, будто мы ему принадлежим? Он решил, что после урока спросит Хуго Алеттера, не находит ли и он наглостью то, что Рекс считает себя вправе называть их класс своим только потому, что он директор школы. Хуго Алеттер, его сосед по парте, не был его лучшим другом в классе^-среди одноклассников Франц вообще не имел близкого друга, – но это был единственный мальчик, кому он мог бы задать подобного рода вопрос, потому что с Хуго он не опасался даже рассуждать – они много рассуждали о политике – во время перемен, в углу школьного двора, пользуясь лексикой, подхваченной из речей своих настроенных в духе немецкого национализма отцов. Потому-то, а не из дружбы, они сели за одну парту. Другие тоже слышали дома слова, из которых складывалась политическая болтология мюнхенского среднего сословия, но они оставались к ним равнодушными; эти дети, как презрительно называли их Франц и Хуго, не интересовались политикой, но даже Хуго, наверно, не поймет, думал Франц, что мне не понравилось в обращенных к нам словах Рекса мой младший «Б», – я сам точно этого не знаю, да это и не политический вопрос вовсе. Он вдруг вспомнил отца, который в прошлую войну был офицером, хотя и офицером запаса; предаваясь фронтовым воспоминаниям, он тоже всегда говорил о своих солдатах, и мне еще ни разу не пришло в голову, подумал Франц, что это обозначение совсем не такое же само собой разумеющееся, как «мой отец».
– Греческий! – сказал Рекс. – Надеюсь, он дается вам легче, чем младшему «А»! – Он покачал головой. – Но может быть, они притворялись? Цэ-цэ-цэ! – прищелкнул он языком.
Он давал знать, что уже инспектировал параллельный класс; должно быть, только что-было одиннадцать часов, – ибо, если бы он заявился в младший «А» накануне или даже сегодня до первой перемены, учеников из «Б» уже предупредили бы их друзья из «А»: «Готовьтесь к приходу Рекса!» Ясно, что ректор хотел захватить всех врасплох, он, по-видимому, скрыл свои намерения от учительского совета, ибо даже Кандльбиндер понятия не имел о его предстоящем приходе на урок, иначе бы он так не растерялся.
Своим сообщением, в особенности заключительным прищелкиванием, ему удалось создать впечатление, будто он считает их способными разделить его озабоченность неважными успехами в параллельном классе. Он был огорчен и как бы призывал их разделить его чувства; класс «Б», разумеется, был полностью согласен, что негоже, просто-таки непонятно, как можно не успевать по греческому языку, – тут не болезнь, тяжелая, но излечимая, а порок, непостижимый, вызывающий горестное прищелкивание языком, будто этим и сказано последнее слово, во всяком случае, так Францу показалось, хотя из этого, кстати довольно неопределенного, впечатления он не сделал вывода, будто Рекс, возможно, плохой педагог. Напротив, он тоже попался на трюк с прищелкиванием, чувствовал себя польщенным доверием, оказанным им, и решил впредь более прилежно заниматься греческим.
Его не интересовало, как Кандльбиндер реагировал на те две фразы, которыми Рекс сообщил, что уже взвесил класс «А» и счел его чересчур легковесным. Увидел ли он в них угрозу, предупреждение о том, что ему, классному наставнику, грозит, если и его класс провалится на экзамене Рекса? Или, скорее, учуял в них шанс, потому что – ввиду его, правда перегруженных, но отличных, уроков, превосходные результаты которых были неоспоримы, – исключал возможность какой бы то ни было неудачи? Франц больше не думал об этом; этот тощий учителишка, с чьими уроками греческого он пока с грехом пополам справлялся, не настолько интересовал его, чтобы сосредоточиться на нем и упустить из поля зрения Рекса, который, в отличие от штудиенрата, так увлекательно-угрожающе увлекательно! – щеголял собой.
– Не беспокойтесь, господин доктор! – сказал он. – Продолжайте урок.
«Продолжайте» – ничего себе, с возмущением подумал Франц, он ведь вошел в класс в самом начале урока, это же просто нечестно-делать вид, будто Кандльбиндер вообще его начинал. С другой стороны, он сразу же постарался поднять авторитет учителя в глазах учеников, подчеркнув его звание-«доктор». Это было новостью для класса. Господин доктор. В том, что в школе гимназисты обязаны называть всех учителей, от младшего стажера до седоволосого обер-штудиенрата, господином профессором, не было ничего особенного, но они достаточно разбирались в академических званиях, чтобы знать, что учитель, написавший диссертацию – как они, даже четырнадцатилетние, уже научились выражаться, подражая профессиональному языку своих братьев или отцов, – представляет собой нечто большее, нежели штудиенрат, который, правда, именуется господином профессором, но, в отличие от их классного наставника, не написал докторской работы, не «защитился».
– Разумеется, господин директор, – сказал Кандльбиндер и вызвал к доске Вернера Шрётера. – Шрётер, – сказал он, – пойди – ка сюда!
Вот как, значит, они обращаются друг к другу, подумал Франц. Господин доктор. Господин директор. Нам они говорят «ты». Только в пятом классе с нами будут на «вы». Если я останусь на второй год-а я, наверно, останусь из-за единицы по греческому и математике, с единицей по двум предметам остаются на второй год, – тогда мне еще целый год будут тыкать. Да ладно. Мне это безразлично. Есть более серьезные вещи. Какие такие более серьезные вещи – этого Франц Кин не смог бы сказать.
– Шрётер, – сказал Кандльбиндер, – мы сейчас проходим фонетику. Напиши на доске сочетания согласных.
Кандльбиндер рехнулся, подумал Франц, он все еще не пришел в себя, его прямо-таки подкосило то, что Рекс инспектирует класс; это же чистое безумие – сразу выставить первого ученика, вместо того чтобы придержать его на случай, если кто провалится. Или чтобы позднее продемонстрировать его как гвоздь программы. Да и задачу он поставил перед ним детскую! Даже я смог бы написать эти три сдвоенные согласные. К тому же мы давно это прошли. Мы ведь уже проходим звуковые изменения в предложении, а в грамматике застряли на словообразовании. Кандльбиндер перескакивал в грамматике с пятого на десятое. Франц ухмылялся про себя. Если бы классный наставник догадывался, что в грамматике он знает немногим больше, чем названия глав, которые они как раз проходили! В домашних заданиях ему помогал старший брат, который продвинулся уже до младшего отделения седьмого класса Виттельбахской гимназии, продвинулся непонятным Францу образом – ведь по основным предметам, в особенности по иностранным языкам, его брат Карл был таким же отстающим, как и он сам. Как же это ему удалось добраться до седьмого класса? По мнению Франца, он пускает пыль в глаза своим потешным прилежанием, своим мелким, аккуратным, ровным почерком, каким исписывает страницу за страницей тетради для сочинений. Его домашние задания пестрят ошибками, как и мои, но они всегда словно выгравированы, а мне неохота этим заниматься, да я и не сумел бы так. Франц был мазилой, его почерк – сплошные крючки и загогулины, учителя качали головой, просматривая его домашние задания, а профессор Буркхардт, преподаватель природоведения, который хорошо к нему относился, хотя Франц не успевал и по его предмету, иной раз говорил: «Кин, постарайся хоть как-то улучшить свой почерк». Надо же, думал всякий раз Франц, это он-то говорит, а сам как мучается, когда старается нарисовать на доске очертания цветка, например лугового сердечника. Мел в руках у него все время крошится, потом он его отшвыривает, восклицая: «Раскройте Шмайля, там он есть!»
Когда вызвали к доске Шрётера, Рекс уселся за учительской кафедрой, взял лежащую на ней раскрытую греческую грамматику и углубился в чтение. Или он только делал вид, будто погрузился в учебный материал, который они сейчас проходили? Во всяком случае, казалось, он так же мало интересуется гимназистом у доски, как и тот – Рексом. Шрётер в своем репертуаре, думал Франц, глядя, как первый ученик сперва неторопливо начал вытирать угол доски, потому что он, конечно же, не мог использовать доску, которую дежурный по классу вытер только сухой губкой или тряпкой и которая поэтому не отливала, как положено, матовым блеском, а была грязно-серой. Не обращая внимания на присутствие властелина школы-обер – шейха, мельком подумал Франц, но Шрётер, конечно, мог себе позволить такое, – он невозмутимо направился к крану возле доски, смочил губку, слегка ее выжал и навел блеск на левый верхний угол доски, потом насухо вытер его тряпкой, а уже потом написал ф и попутно называя, не дожидаясь требования Кандльбиндера, а словно в разговоре с самим собой, одну за другой эти буквы: «Кси, пси, дси».
Кандльбиндер, в мучительном смущении то и дело поглядывая на восседавшего за кафедрой Рекса, все еще занятого изучением грамматики, ожидал, пока Шрётер закончит. Теперь наконец настала его очередь.
– Добавлять «и», – сказал он, – правда, принято, но, в сущности, неправильно. Речь идет о чистых сдвоенных согласных. То есть кс, пс, дс. – Он превосходно воспроизвел гортанные, губные и зубные звуки, начало лабиального «пси» у него получилось так замечательно, что Франц решил после урока переименовать его перед одноклассниками в «Кандль-п-индера». Он и не подозревал, что после этого урока ему будет не до шуток.
– Ну-ну, господин доктор, – сказал Рекс, подняв глаза от учебника грамматики и всего лишь двумя нёбно-глухими или, скорее, выпущенными через нос «у» отменив свое прежнее великодушно предоставленное Кандльбиндеру разрешение спокойно продолжать урок, – так уж точно мы не знаем, как древние греки произносили свой греческий. Все это только теория, византийские предположения, возможно и неправильные… – Он пренебрежительно махнул рукой.
Ученики видели, что их классный наставник собирается возразить Рексу. Если кто и знает что-нибудь о произношении древнегреческого, то это он, подумал Франц, вспоминая нудные доклады, где учитель распространялся о каких-то людях, которых называл гуманистами, но Кандльбиндер не стал демонстрировать Рексу своих познаний. Вот трусливый пес, подумал Франц. Кандльбиндер только и отважился на то, чтобы тихо, осторожно произнести:
– Но сдвоенные согласные…
– …фонетически, возможно, облегчаются, – закончил Рекс его фразу. – С этим я согласен. – Он сделал паузу, прежде чем положить конец всей этой, по программе давно пройденной и в особенности для первого ученика слишком легкой, истории со сдвоенными согласными. – Впрочем, классификацию звуков класс давно уже прошел – сказал он. – Да и скверно было бы, если бы ваши ученики спустя шесть недель после пасхи все еще топтались на азбуке. Не так ли, господин доктор? На альфе и омеге! – Он засмеялся – коротко, сухо, без улыбки. – Вы ведь давно уже дошли до произношения, до звуков и акцентов. – Он снова засмеялся своим невыразительным смехом. – Атоны и энклитики! Очень хорошо, очень хорошо! Даже учение о предложении вы уже начали, господин доктор, инфинитив, как я вижу. Быстро же вы продвинулись вперед, ничего не скажешь!
Довольно-таки неприятно для Скучняги, подумал Франц. Рекс сразу раскусил его и прямо в лицо сказал, на чем мы остановились в греческом. Хотя слова его как будто выражали похвалу, в них слышались первые, еще отдаленные, раскаты надвигающейся грозы. Так по крайней мере воспринял их Франц. В этот момент не могло уже быть сомнения, что урок ведет Рекс. Отныне Кандльбиндер будет только пешкой, каковой он уже сейчас стоял возле Шрётера у доски.
Шрётер же отвернулся от нее и обернулся к Рексу, вежливо, спокойно ожидая сложных задач, которые сейчас, наверно, поставят перед ним. Вернер отличный парень, подумал Франц, он вовсе не выскочка, а просто все умеет и совсем не виноват в том, что все умеет. Франц Кин был с Вернером Шрётером ближе, чем большинство других, они единственные в классе обучались игре на скрипке – факультативному предмету, предлагавшемуся гимназией; два раза в неделю в конце дня они вместе с несколькими учениками из других классов встречались в музыкальной комнате школы; сейчас они проходили третий регистр, у Вернера был более полный звук, чем у Франца. Может быть, его скрипка лучше моей, думал Франц, но, когда он смотрел, как Вернер клал инструмент между головой и плечом, сосредоточенно и умно, он понимал, что, когда какая-нибудь осваиваемая ими череда нот у Вернера не так царапает ухо, как у большинства других, дело не в скрипке. Шрётер был не высокий, но и не маленький, не коренастый, но крепко сбитый, и в лице его тоже было что-то крепкое, гладкие черные волосы, темно-голубые глаза, нос широкий в переносице, но не толстый, а четко очерченный над твердым и прямым ртом, редко утруждаемым для разговора. Хотя и молчаливый, Вернер всегда был готов помочь; когда он видел, что Франц с чем-то не справлялся, он, не дожидаясь его просьбы, становился рядом и поправлял своего соученика, то и дело бравшего фальшивую ноту; молча и не выказывая никакого превосходства, он клал его палец на нужное место струны, которая извлекала из скрипки нужную ноту. А однажды он своими смуглыми крепкими руками чуть сдвинул подставку на скрипке Франца – на какую-то долю миллиметра, – и некоторое время она звучала красивее, чем прежде. Ах, Франц разочаровался в музыке, эти упражнения в первом регистре не принесли ничего похожего на то наслаждение, которого он ожидал, он не предполагал, что скрипка без аккомпанемента звучит так скучно, так, в сущности, пусто. Если бы я только мог учиться играть на рояле, как Карл, думал он, но в последние два года-1927, 1928-й – у больного отца уже не было денег на преподавателя по музыке; Карл еще застал хорошие времена, часто думал Франц с завистью, для меня же хватало только на эти уроки игры на скрипке. То есть что значит «хватало»? Они вообще ничего не стоят, школа не требует за это ни пфеннига, а скрипку мне подарили Пошенридеры, она лежала у них в чулане. О господи, с каким видом они преподносили ее, они вели себя так, словно эта скрипчонка – святыня, только потому, что их покойный сын на ней играл.
Рекс отвлек его от воспоминаний о друзьях его родителей, чете Пошенридер, живших в мрачной фешенебельной квартире на Софиенштрассе, – приходилось часто навещать их по воскресеньям после обеда, даже в хорошую погоду; Франц отметил про себя, что Рекс на Шрётера не обращал никакого внимания, вообще не замечал ученика у доски, предупредительно, но без раболепства ожидавшего пожеланий, какие выскажет высокий гость, – более того, он продолжал свою критику общеупотребительных в преподавании правил произношения, делая вид, будто он все еще погружен в учебник грамматики и говорит сам с собой.
– «Музыкальный акцент! – процитировал он, с явным усилием подавляя язвительный смех. – Слог, на который падает ударение, отличается от безударного слога большей высотой звука».
Внезапно он повернулся к классу.
– Только не верьте всему, что здесь написано! – воскликнул он, решительно ткнув правым указательным пальцем в книгу, которую все еще держал в поднятой левой руке. – По крайней мере не безоглядно! – Он сделал паузу, прежде чем продолжать. – Да, если бы грекам уже был известен граммофон…
Он снова задумался, затем, обратившись к Кандльбиндеру, многозначительно сказал:
– Пластинка с голосом Сократа-о большем и мечтать нельзя. Вы согласны, господин доктор?
Штудиенрат не мог придумать подходящих слов, он лишь кивнул – ревностно, как и в ответ на все, что произносил Рекс, – вероятно, он ждал только возможности продолжить наконец демонстрацию знаний Шрётера.
Ошибался Франц или Рекс и впрямь не проявлял интереса к Шрётеру? Не только интереса, но и симпатии, кажется даже, что Шрётер ему не очень нравится, думал Франц, да нет, наверно, мне это просто чудится, с чего бы ему иметь что-нибудь против Шрётера, во всяком случае, он нисколечко не повернулся к Шрётеру, который только что повернулся к нему. Хочет он лишь положить конец демонстрированию лучшего ученика или же Шрётер ему не по душе? По крайней мере дружелюбного слова он мог бы его удостоить! Но оно не сошло с губ Рекса, и темноволосый, крепко сбитый, вежливый юноша тотчас положил мел, который все еще держал в руке, на бортик внизу доски и направился на свое место, услышав, как Рекс, осматриваясь вокруг, сказал:
– Теперь я хотел бы послушать еще кого-нибудь из ваших учеников, господин доктор.
Тон его уже не был приветливым. Отец школы, благосклонно заглянувший в один из своих классов, – с этим было полностью покончено; там наверху, за кафедрой, словно в засаде, сидел теперь охотник, явившийся на урок, как на охоту, толстый, неприятный, из породы жирных владельцев охотничьих угодий и метких стрелков. Тридцать учеников младшего отделения пятого класса, сидящие внизу в три ряда, по двое на скамье – последние ряды парт пустовали, – сжались. Меня Кандльбиндер не вызовет, подумал Франц, не отдавая себе отчета, откуда, собственно, взялась у него эта уверенность, что его имя не будет названо на этом уроке. Конечно, Конрада, подумал он с облегчением, когда обернулся, чтобы увидеть, на кого классный наставник указывает, он вызывает одного за другим лучших учеников, никакой опасности, что очередь дойдет до меня, и он смотрел, как с последней парты правого ряда вскочил тот, кому Кандльбиндер сказал: «Пойди-ка сюда!» Франц задался вопросом, заметил ли Рекс, что Кандльбиндер не назвал этого ученика по фамилии.
Сама манера, в какой тот поднялся – быстро, но без рвения, нарочито вскинув верхнюю часть туловища и тем самым придав всему движению комический характер, – давала классу надежду, что предстоит потеха, и ждать ее пришлось недолго, ибо не по возрасту долговязый, неуклюжий парень, нагловато скособочась, пробирался между рядами парт к доске и подмосткам кафедры и, явно решив позабавиться, повторял:
– С большим удовольствием, господин доктор Кандльбиндер!
Это была типичная для Конрада Грайфа дерзость: в подражание Рексу назвать своего классного наставника только что услышанным титулом и по фамилии, да и вообще, вместо того чтобы молча выполнить приказание, ответить на него этим тщательно продуманным и произносимым с карикатурной вежливостью «с большим удовольствием». Гимназисты скалили зубы.
Один-ноль в пользу Конрада, думал Франц, вот что получил Кандльбиндер, вызвав Конрада только потому, что тот в греческом едва ли не сильнее, чем Вернер Шрётер. Кандльбиндер простак, он, наверно, вообразил, что Конрад воздержится, раз Рекс инспектирует класс, но тут он просчитался – именно потому, что здесь Рекс, Конрад и дал себе волю, как шесть недель назад, когда Кандльбиндер его впервые вызвал. «Грайф», – сказал он тогда, ничего не подозревая, и Конрад встал, но не насмешливо, как сегодня, а надменно, холодно и бесстыдно сказал: «Фон Грайф, с вашего разрешения!» Кандльбиндер был вне себя, он побледнел как полотно, потом сказал: «Это неслыханно…», выскочил из класса и только спустя долгое время вернулся; с тех пор он редко вызывал Конрада, хотя тот все время поднимал руку и все задания по греческому выполнял на пять или пять-четыре, и никогда больше Кандльбиндер не называл его по фамилии. Так Конрад поставил его на место, но зачем это ему, собственно, ведь от нас же он не требует, чтобы мы называли его «фон Грайф», он знает, что нам наплевать на его «фон», мы говорим ему «Грайф» или «Конрад», и он не возражает, – просто подло с его стороны воспользоваться теперь случаем, и показать Рексу, как бесцеремонно он может обращаться с классным наставником; непостижимо, что Кандльбиндер не предвидел такого и вызвал его, как раз теперь ему бы остаться при своем принципе-не иметь любимчиков, но и не показывать, что кого-то он терпеть не может, вместо этого он сперва вызывает первого ученика, а потом единственного ученика, которого наверняка ненавидит, хотя и после того, как Грайф потребовал, чтобы учитель называл его фон Грайфом, он никогда не проявлял этого. Хотел бы я знать, что он делал тогда, когда выскочил из класса: пожаловался Рексу или спросил, что ему делать, или забежал в уборную, чтобы сблевать? Конрад все еще стоял на месте, когда Кандльбиндер, вернувшись в класс, сказал только: «Садись!» – и никогда больше не называл его по фамилии. Тем более глупо было сейчас его вызывать, этот идиот полагал, что Конрад поведет себя по отношению к нему корректно, а Конраду только того и надо, он только тем и одержим, чтобы опозорить штудиенрата перед Рексом. Но зачем, спрашивается? Вонючий аристократ! Этим наглым «С большим удовольствием, господин доктор Кандльбиндер!» он хотел вывести учителя из себя, спровоцировать на окрик «Грайф, что вы себе позволяете?», что снова дало бы ему желанную возможность перед лицом Рекса выдать свое «Фон Грайф, с вашего разрешения!».
Весь класс радостно предвкушал пререкания, которые должны были воспоследовать – наверняка не в пользу классного наставника; гимназисты безжалостно наблюдали за побледневшим и онемевшим Кандльбиндером у доски, но они не взяли в расчет Рекса, который с такой молниеносной быстротой, какой Франц никак не ожидал от человека подобной комплекции, включился в происходящее.
– Ах, – сказал он, холодно смерив голубым в золотом обрамлении взглядом вышедшего вперед ученика, – вот он, наш молодой барон Грайф! Я уже много слышал о тебе, Грайф. Говорят, ты отличный грек. Но если тебе еще раз захочется сделать заявление о своем усердии, когда тебя вызввут, или если ты еще хотя бы один-единственный раз допустишь вольность по отношению к классному наставнику и скажешь ему «господин доктор» вместо положенного «господин профессор», я тут же накажу тебя арестом на час. Понял, Грайф?
Рекс, значит, знает Грайфа, подумал Франц. Стало быть, Кандльбиндер после стычки с Конрадом побежал к нему, пожаловался на Конрада. Или же он всех нас знает? Тогда он чертовски деятельный, если знает каждого из нас. Имя и все прочее.
Как он отчитал этого Грайфа! В этот момент весь класс восхищался Рексом. Он применил ту же методу, что и по отношению к Кандльбиндеру: так же, как он пустил в ход докторское звание, чтобы вызвать к учителю большее почтение, он сперва повысил и Конрада Грайфа в титуле; он обратил внимание класса на то, что в лице Конрада они имеют в своих рядах не просто носителя частицы «фон», а нечто более значительное – барона, но если ученую степень штудиенрата он и дальше подчеркивал-«не так ли, господин доктор?», – по крайней мере до сих пор и невзирая на то, что с тихим громыханием в голосе предостерег его от попытки втереть очки по поводу изучаемого материала, то, назвав ученика бароном, он два раза подряд обратился к нему без всякой дворянской частицы, просто по фамилии. Отважится ли Конрад так же поставить на место Рекса, как шесть недель назад классного наставника?
Казалось, он хочет рискнуть это сделать.
– Но вы же сами… – начал он, но Рекс не дал ему договорить.
– Значит, так, – сказал Рекс невозмутимо, не тихо, но и не громко, – час ареста. Сегодня пополудни, с трех до четырех. – Он повернулся к Кандльбиндеру. – Мне жаль, господин доктор, но я вынужден испортить вам послеобеденное время, – сказал он, намекая, что классному наставнику придется надзирать за арестантом. – Однако подобного сорта господам нельзя ничего спускать. – Внезапно он рассмеялся. – Ну и барон!.. Заставьте его позубрить историю сегодня после обеда, – добавил он, – с историей он далеко не в таком ладу, как с греческим. – Рекс покачал головой. – Собственно говоря, странно, что человека, который так гордится своим дворянством, столь мало занимает история.
Он полностью информирован о Конраде, подумал Франц, он даже в курсе его успехов по другим предметам. Франц наблюдал за этой сценой, за Рексом, который явно наслаждался видом класса, пораженного тем, что Рекс знает Грайфа до мозга костей, за Грайфом, переставшим дурачиться, покрасневшим, никак не ожидавшим ареста на час.
Рекс снова непосредственно занялся наказанным. Он стал терпеливо, хотя, как показалось Францу, и коварно, поучать его.
– Ты хотел подчеркнуть, Грайф, – он снова произнес его фамилию без всякой частицы, – что я сам обратился к твоему классному наставнику «господин доктор». Возможно, мне следовало дать тебе договорить до конца, чтобы ты, как положено, сказал мне: «Но вы сами, господин обер-штудиендиректор», ибо для тебя я ведь не просто кто-то, к кому ты можешь обратиться с одним только «вы», а все же твой обер-штудиендиректор, запомни это. Беда, что мы теперь в Германии не имеем права держать армию, иначе ты бы усвоил, что нельзя говорить «да», а только «так точно, господин лейтенант». Уж в армии тебе бы показали, что такое дисциплина, – сказал он.
Нелогично, подумал Франц, даже если бы мы имели настоящую армию, а не эти сто тысяч солдат рейхсвера, что нам разрешили англичане и французы, нас только после окончания школы научили бы, что лейтенанту нельзя сказать «да», а надо «так точно, господин лейтенант», нам ведь всего четырнадцать лет. И хотя Францу тоже хотелось, чтобы была армия, потому что его отец в войну был офицером, мысль об армейских порядках, сквозившая в тоне Рекса, была Францу не особенно приятна. Воевал ли Рекс тоже на фронте, как мой отец, трижды раненный, подумал Франц. Рекс никак не походил на фронтовика или человека, который хоть раз был когда-либо ранен.
– Надо надеяться, всем вам еще придется служить в армии, – добавил Рекс, обращаясь ко всему классу, – надо надеяться, рейх вскоре снова станет достаточно сильным. – И почти без перехода вернулся от воспоминаний о своей службе в армии к Конраду Грайфу. – Но даже если бы ты правильно обратился ко мне, назвав титул, – сказал он, – я не позволил бы тебе обратиться к классному наставнику так же, как я. – Его самого, видимо, утомили все эти «если» и «бы». Во всяком случае, голос его прозвучал чуть равнодушнее прежнего, когда он добавил: – Особенно неподобающе то, что ты назвал господина профессора по фамилии. «Кандльбиндер», – процитировал он. – Цэ-цэ-цэ! За одно это ты заслуживаешь ареста на час.








