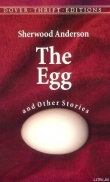Текст книги "Рай давно перенаселен"
Автор книги: Алёна Браво
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
«Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу». Она тоже хотела выбрать для себя. Ей показали ее место.
Как это? А вот так: мой умный, образованный отец, отстрадав сколько положено, по своей первой невзаимной любви и будучи вольной птицей и в матримониальном полете, во всех (всех!) черновых, неудавшихся семьях покидал не только жен, но и детей, мальчиков и девочек. Бросал с концами, так топят следы преступления в болотной жиже: ни звонка дитятку в день рождения, ни встреч по выходным, и лишь бабушка Вера своей бесконечной любовью выплачивала те долги за сына; при этом отец считался в провинциальном социуме достойным человеком и сделал великолепную карьеру. И точно так же поступал отец моей сестры, и сотни других мужчин. А моя мать? Какой «полет» оставался ей под нашими с сестрой взыскательными взглядами исподлобья?
Ты что, вчера на свет родилась? «Женщину, религию, дорогу» выбирают только мальчики, для девочек и стишка соответствующего нет. Мальчики могут сами выбрать вариант контрольной работы по предмету под названием «жизнь», девочки должны тихо ждать, пока учитель соизволит ткнуть в них указкой. Вот, дети, типовой набор вариантов для девочек, что вам достанется – не ваше дело: а) неработающая домашняя хозяйка (редкость); б) работающая домашняя хозяйка; в) мать–одиночка; г) партийная активистка.
Она попробовала все роли, кроме первой. Возможно, потому–то ей и казалось, что в недосягаемом для нее положении свекрови заключено некое небывалое блаженство. Никто не взвешивал чужих крестов; ей ни разу не пришла в голову эта простая мысль. Ей выпал наиболее типичный в провинции вариант «в». В качестве дополнительного задания к контрольной работе (успевают сделать только отличницы) – стандартные потуги ощутить, что ты все–таки не полностью превратилась в бессмысленный, отупевший от грошовой службы механизм: принять отца своей младшей дочки, забежавшего из новой семьи (и кто он ей теперь – муж, любовник?), потом долго стоять под душем, смывая липкий мужской пот предательства. Чувства зрелой женщины – это адская смесь из модельных сапог, которые к вечеру уже не застегиваются в голенищах, отеков, возникающих от передозировки импортных ночных кремов; а у любовника дома имеется собственный агрегат, генерирующий женские гормоны в опасной для его здоровья концентрации, для него и это чрезмерно. Что ж, осознание своей ущербности без мужчины как раз и есть прямая от него зависимость, хоть она и считается самостоятельной женщиной, способной содержать себя и дочерей.
А что же еще, дети, преподается в той школе–то, а? Да нехитрая наука: минимализм желаний. Единственный способ получить хоть какое–то удовольствие от жизни при рабской доле. Встать в полшестого. Выпить чашку кофе (она заваривает кофе так, что ложка стоит в гуще). Кофе и шоколад – нехитрые антидепрессанты в краю, где хронически не хватает солнца, а оттого у всех от рождения серотониновый голод. Путь на нелюбимую работу спиной к спине в тряском автобусе, саму работу и, с заходом в гастроном, обратный путь опустим. Дома с удвоенным остервенением мыть полы, готовить еду, орать на детей. И, наконец, заслуженная награда в конце трудового дня – выпить чашку чаю с припрятанной плиткой шоколада… Что–о–о?! Кто из вас, сучонки, сожрал шоколад?! Да пропадите вы обе пропадом! Да когда же вы, наконец, уберетесь из моего дома?! Да когда же я, наконец, сдохну?!
Три десятилетия тратит человек на то, чтобы выгрызть себе минимум житейских благ. Выгрызает. Ну и? Теперь он (из–за возраста, нажитых болезней) прикован к заданным обстоятельствам прочнее, чем шуруп, загнанный с размаху молотком пьяного слесаря. Но одна–един– ственная точка и загнанность человека в нее и есть прообраз смерти. Так формулировать свои мысли она, конечно же, не умеет, да и боится так чувствовать. Поэтому гонит от себя прочь горькую догадку, предпочитая оставаться полуслепой. Но горечь возвращается снова и снова – тупой тоской калеки, страдающего от фантомных болей в культе. Она делит сумму прожитых лет на ноль шансов найти в этой жизни саму себя и получает в итоге бесконечность разочарования. И от того, что все вокруг старательно делают вид, что «нам счастье досталось не с миру по нитке», пытка не до конца понятного ей самой отчаяния еще сильнее. Нет, она вовсе не хочет отличаться от других – она, половину жизни положившая на то, чтобы соответствовать! Но подражание плакатным образцам больше не спасает.
Фотография с какого–то заводского застолья. Ей лет сорок пять: в толпе танцующих фотограф навел резкость на нее одну – опасный эксперимент. Полные, очень белые руки, стиснувшие голову, искаженное гримасой отчаяния лицо состарившейся нимфы…
Декольте, туфельки на каблуках, вельветовая юбочка. Партконференция, вакуум–аспирация, уксусная эссенция. Воодушевление, разочарование, депрессия. Водка, тазепам, сигареты. Ранний климакс, дряблая кожа шеи, одиночество. Вот и все, нехитрая женская программа выполнена. Что дальше? Все. Все?! Ну да, а ты чего хотела? Еще осталась пенсия со своим типовым набором: варикоз, остеохондроз… метампсихоз. Старость не приносит ни мудрости, ни умиротворения, лишь ядовитую зависть по отношению к тем, кто молод и еще может прожить свою жизнь как–то иначе. Вот только как это – иначе? Об этом в сентиментальных книжках и фильмах ничего не сказано, а государственные бонзы, точно попугаи, перенимают один у другого заученные песенки.
Под поезд бросаются только в романах. В жизни ты продолжаешь все это, даже если тебя давно нет. «Кончена жизнь», – говорит мать, с ненавистью глядя на нас, дочерей. Мы с сестрой поедали, как гусеницы, зеленый листок, ее единственную жизнь. Мы не были в этом виноваты. Фатальные враги (или друзья по несчастью), спутницы по навязанному кем–то безрадостному маршруту.
В одно из тех редких мгновений, когда она не молчала, сжав губы, и не кричала, в одно из тех, повторяю, крайне редких мгновений она призналась мне: в школе, в эвакуации, ее главным страхом был гардероб. Не война, которая шла где–то далеко, а закуток со множеством железных крюков, где она постоянно что–нибудь теряла: то голубой шарфик, то варежки (за что бывала нещадно бита своей матерью). Догадывалась ли она, что эти потери были лишь предвестниками грядущих утрат? Кто–то носил голубую утреннюю тень ее последнего довоенного лета, донашивал узорчатые варежки, и она замирала от нехороших предчувствий: если этот дьявольский ветер потерь станет дуть непрерывно, что останется от нее? У нее есть тело, но принадлежит ли оно ей? О душе и вовсе говорить не приходилось, у души обнаружилось вдруг множество хозяев, начиная от гипсового болвана в пионерской комнате до учителей, комсоргов, партогов, которые нахально черпали шеломами неисчислимой рати ту живую сверкающую среду, в которой ее душа резвилась, словно маленькая рыбка, словно будущий ребенок в околоплодной жидкости, – ее время. Ее прошибал пот от мысли, что в толкучке и тесноте гардероба кто–то по ошибке заберет ее пальто, и ей придется влезть в чужую вещь, как будто вместе с одеждой ей могут подменить судьбу и выдадут не ту, которая ей предназначена. Она будет жить чужой жизнью и сама не будет понимать, что с ней не так. Этот навязчивый страх вернулся через несколько лет, в техникуме: она панически боялась перепутать свое пальто с таким же самым ее сокурсницы Иры по прозвищу Ириска, дочери продавщицы из продмага. Некрасивую девочку с ее судьбой, торчащей за плечами, словно горб, она не раз видела в магазине, где та помогала своей матери.
Хочешь, Ириска, расскажу, что будет дальше? Ты закончишь техникум и сядешь за кассу, скорей всего, в этом же гастрономе. Мимо тебя будет ежедневно течь бесконечная серая река покупателей, обтекая с двух сторон твою кассу, и так же незаметно будет течь время. Вон я стою с пакетом молока в длинной очереди в кассу, что справа от твоей, гляжу на кассиршу – твою товарку – и вижу тебя через десять лет: уже расплывшуюся, с маленькими злобными глазками. У тебя двое сыновей, муж–работяга на химкомбинате, тебя поколачивает, – а где, кстати, твои передние зубки, Ириска? Заведующая магазином, прекрасно осознавая твою беспомощность, заставляет тебя регулярно перерабатывать, и ты терпишь, потому что другой работы в городке нет, да и к дому близко, а младший, паразит, уже нюхает клей. Теперь я перейду к кассе слева от твоей (там очередь поменьше) и в кассирше снова увижу тебя, но уже через тридцать с лишним лет, перед пенсией: злобная растрепанная бабища с лицом в багровых прожилках, старший сын в тридцать пять – спившийся инвалид, у младшего третья ходка в ЛТП. А потом у магазина будет юбилей, заведующая позвонит в местную районку и заискивающим голосом зазовет корреспондента, и он придет, и заведующая, проведя его по торговому залу, ради этого случая образцово–показательному, ткнет в тебя маникюром: «Вот наш ветеран труда!» И он станет задавать тебе вопросы. И тебе нечего будет сказать, кроме одной фразы, которую ты будешь тупо повторять в диктофон: «Да… сорок лет… вот за этой кассой…» Ты усердно наморщишь лоб, пытаясь вспомнить хоть что– нибудь, но вспомнишь только засаленные бумажки дензнаков, и серую, без лиц, толпу, текущую мимо тебя, огибающую тебя, как река – сгнившее бревно. И озадаченный корреспондент при всей своей лихости сможет выжать из себя только десять строк, заключающих в себе всю твою скудную биографию, десять строк, набранных на первой полосе газеты под твоим одутловатым портретом; если отойти подальше и взглянуть на тот жирный шрифт, он покажется сплошной горизонтальной чертой, вроде прочерка, который ставят между датами рождения и смерти.
Так что же, страх моей матери сбылся? Ей подменили судьбу?
Ведь ей было назначено совсем другое, когда она, сидя на валуне и целеустремленно вглядываясь в морские волны, мечтала о любви…
Но ведь я, я любила ее! Любила как никто в мире и бешено страдала от ревности, потому что ее не интересовало ничто, кроме горечи ее несбывшейся жизни, горечи, которой она отравила наше детство (только к яду мы с сестрой оказались чувствительны по–разному, как, впрочем, и бывает у разных организмов). Разве могло удовлетворить ее жажду обожание рожденного ею существа? Во мне она с отвращением видела саму себя. А именно себя–то и приучена была ценить «дешевле всего», оттого так яростно искала подтверждения собственной значимости то в брачных играх, то в социумных бирюльках.
Не нашла, да и не могла найти.
Кто научил ее голыми руками тянуть нить из костра? Может, ее собственная бабушка? Пряди свою пряжу, внучка. Но я же сгорю! Не сгоришь, а если и обожжешься, это ничего, заживет. Огонь ласкал ее ноги и бедра, а она пряла и пела высоким голосом от боли, ведь когда у тебя нет других способов почувствовать, что ты живая, единственным способом становится боль. Правда, от слишком сильной боли наступает все та же оцепенелость, и в конце концов вовсе перестаешь что–либо чувствовать.
Из огненной пряжи ее старшая дочь, которая искала любовной зависимости, но слишком дорожила своим одиночеством, выткала мужскую рубаху. Но подарить ту рубаху оказалось некому, и она стала носить ее сама.
***
Недавно на одном из американских сайтов по гелиосейсмологии я увидела изображение Солнца. Половина светила была синей, половина – желтой, точь–в–точь как на моем детском рисунке. Сообщалось, что ученые разработали метод наблюдать за тем, что происходит на темной стороне Солнца, и даже предсказывать, какая там будет погода. Я очень рада за американских ученых, для которых Солнце – всего лишь пылающая гелием звезда, распространяющая рентген и ультрафиолет в межпланетном пространстве.
Но мне по–прежнему кажется: на обратной стороне стоит нетронутая тишина только что выпавшего снега. На той стороне Солнца живет Тот, Кто давно не смотрит на нас. Что мы прочитаем в Его глазах, когда Он обернется? Презрение? Гнев? Эмпатию? Или равнодушие белого, нетронутого снега?
А пока моя дочь продолжает анализировать структуру планктона (Rotifera), ассоциированного с тростником (Pragmites australis), – именно из этого научного исследования я почерпнула имя для своей «отрицательной» героини. «Ты не точна в определениях, – замечает дочь. – Коловратка для тростника не паразит. Это называется комменсализмом живых организмов». Пусть так. Я не стану спорить с моей разумной дочерью. Лучше я сниму с книжной полки блокнот с атласной, экологически чистой белой бумагой. Этот блокнот сестра привезла мне из Парижа. Привезла два года назад. До сих пор я не осмелилась что–нибудь написать на этих шикарных страницах. Именно сейчас я сделаю это, преодолев комплекс национальной неполноценности.
«Возможно, мир стоит на комменсализме живых организмов, одни из которых со вкусом пожирают других, а тем, другим, от рождения назначена роль жертв», – напишу я. (Пока со мной была бабушка Вера, я твердо знала: мир стоит на любви). Я хотела бы жить вдали от его трубящих горнов и скрежета челюстей, ведь только на обочине растут простые и добрые цветы: ромашка, пастушья сумка, цикорий, которые так любила она. Мой труд неблагодарен, как и ее труд, и мое слово, написанное на ее родном языке, неслышимое грохочущему миру, уходит, как вода, без отклика в эту оглушенную землю, поит ее деревья, цветы и травы. Хватит ли мне любви до конца моего земного срока, чтобы противостоять той силе, которая сожрала жизни дорогих мне женщин, а теперь пытается уничтожить мою, той силе, которая превращает мир в гекатомбы и устанавливает длину прокрустова ложа, чтобы отрубить
в конечном счете и голову, той силе, в безликую фатальность которой я не верю? Но, может быть, я ошибаюсь, и это всего лишь сила энтропии, приводящая все к единому знаменателю: живое – к застывшему, каталепсию – к смерти.
На моем рабочем столе рядом с компьютером – одна из унаследованных мною фотографий. Это место называется Пески; наша река, совершающая здесь плавный изгиб, похожа на зеркальное дно огромной чаши, краями которой являются высокие, покрытые чистейшим белым песком берега. Кроны сосен создают узорчатый край чаши, почти уже сливающийся с небом. Сосны отбрасывают длинные тени на крутой берег, тени тянутся к самой воде, где влажный песок становится медовым, а потом переходит в чистое светлое дно. И вот чуть дальше этой отмели, ближе к дну чаши на воде покачивается лодка с широкой полосой по борту. В ней сидят мои молодые родители и бабушка, а дед, лихо зажав в зубах папироску, бредет по воде, толкая лодку все дальше и дальше от берега. Моя красивая мать поправляет прическу, на коленях у нее лежит букет только что срезанных кувшинок. Бабушка в простом ситцевом платье с повязанной вокруг головы косынкой не сводит озабоченных глаз с кормы, где мой загорелый отец держит на коленях девочку, очень похожую на него, одетую в матросскую рубашечку и белые сандалики.
Я хотела бы знать, куда плывет та лодка.
Перевод с белорусского автора.