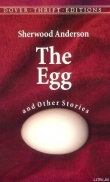Текст книги "Рай давно перенаселен"
Автор книги: Алёна Браво
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
О том, что муж ей неверен, она знала, конечно же, давно. Как и о том, что у той, другой женщины, растет сын от него. Но заговорила об этом, то есть позволила себе показать ему, что знает, лишь теперь, когда он уже не мог оставить ее. Возможно, так в ней проявился инстинкт не самосохранения – сохранения родового гнезда, которое было единственным в мире домом души для детей, внуков, племянников, – потому что она понимала, не могла не понимать: если бы она раньше устроила мужу сцену, он просто собрал бы вещи. Так что если и имел место поединок между дедовыми женой и любовницей, то это был, в противоположность коловраточьей расправе, бессловесный поединок фантастических терпений.
Мне трудно вообразить, как это бывает.
Молча терпеть тридцать, сорок, пятьдесят лет – срок, несоизмеримый даже с тюремным заключением! – чтобы отравить ядом упреков дни последней, мужней и своей, старческой немощи. И ведь она видела, что эти разборки на краю отпущенного им земного времени лишь приближают смерть обоих, но, по–видимому, ничего не могла с собой поделать. После таких сцен к деду обычно вызывалась «скорая». А утром на кухне, где жизнерадостно подпрыгивало на высоком деревянном стульчике дитя, бабушка сожалела о своей несдержанности и плакала: «А если вдруг он… я же не смогу без него!» Но там, где лицевыми и изнаночными петлями вяжутся узоры судьбы, проявили к ней милосердие, очевидно, поняв, что «тунеядка» устала больше, чем ее трудолюбивый муж.
Квартирка, куда после обмена перевезла стариков Коловратка, оказалась маленькой и грязной; типовой отечественный гарнитур «Ольга» не вмещался в габариты кухоньки, являя некий изъян в логике Системы, задуманной по принципу детского конструктора, все элементы которого обязаны подходить один к другому. В пригороде не было нормального продуктового магазина, а до ближайшей поликлиники надо было добираться с пересадками. Зато теперь все происходило под бдительным оком Коловратки, все шло по плану, помехой была только я – нежелательная конкурентка. Коловратка медлила, прицеливаясь, с какой стороны лучше подплыть к деду на предмет прописки. Но на сей раз чуткий, как сейсмограф, инстинкт подвел.
В тот день я собиралась на очередной университетский экзамен. Ночью опять была «скорая», деду лучше не стало, и сейчас бабушка Вера стояла в тяжком раздумье над стареньким телефонным аппаратом, выбирая между страхом за деда и резонным опасением, что в диспетчерской ее обругают. Я ничем не могла ей помочь, да и опаздывала на электричку; два часа спустя в старинной минской квартире–сталинке моя велеречивая преподавательница литературы, восторженно обмерев, поставила мне в зачетку высший балл.
Вернувшись, я застала бабушку в необычной позе: она полулежала в кресле. Моя дочь, которая еще не ходила, стояла рядом, держась за ее колени. Бабушка пожаловалась, что очень болит сердце. В это мгновение дочь, оторвавшись от кресла, сделала несколько неуверенных шагов на кривоватых ножках, обернулась и с любопытством посмотрела на нас. «Ты пробовала валидол?» – спросила я. «Смотри, Ирина пошла», – ответила бабушка. Стараясь не думать о привычном медицинском хамстве, я позвонила в «скорую». Усталый врач, взглянув на кардиограмму, сказал, что надо обязательно в больницу, а до машины надо на носилках. Бабушка посмотрела на врача с брезгливым удивлением, поднялась с кровати и, отстранив медиков рукой, направилась к двери, но в коридоре опустилась на табуретку. «Найду я в этой квартире сапоги или нет?» – с необычным для нее требовательным раздражением спросила бабушка. Я бросилась за сапогами, и, заглянув в зал, увидела, как моя дочь, в суматохе оставленная без присмотра, сосредоточенно топает по комнате хорошими, крепкими шагами. Бабушка с усилием встала и прошла мимо меня к выходу, не взглянув в мою сторону, не попрощавшись, словно шла за хлебом или молоком.
В ту ночь мне приснилось: я поднимаюсь по лестнице многоэтажного больничного корпуса. Стекло, кафель, запах хлорки. Голые окна. Беззвучие. Стылый неуют казенных пролетов. Безлюдность. Возможно, в отделениях мертвый час, а персонал пользуется лифтами.
Для чего я здесь? Кого пришла навестить, навеки опоздав?
Утром я отправилась зачем–то к матери. Дверь мне открыла сестра. «А твоя бабка умерла», – сказала сестра. Сказала с торжествующе–удо– влетворенной интонацией застарелой детской ревности. У нее такой бабушки не было. Теперь не стало и у меня.
Старик, младенец и женщина – мы осиротели. Внезапность беды оставляла надежду: то, что с нами происходит, – не взаправду. Думаю, когда дед, сев около телефона и поминутно забрасывая в рот таблетки, набирал далекие города и громко говорил срывающимся голосом: «Твоя мама умерла…» или «Твоя тетя умерла…» – в глубине души он не верил в то, что речь идет о Вере. А иначе почему ни разу не назвал ее имени? Умерла чья–то мать, сестра, тетя, но не его жена. Не моя бабушка. Ибо моя бабушка не могла вот так по–предательски разлечься посреди комнаты, бросив в раковине немытую посуду, а в ванне – замоченные детские штанишки. Моя бабушка не могла без нас! Спокойное лицо старухи с желто–синими страшными руками, связанными бинтом, которую обрядили в пошитое бабушкой к юбилейному дню ее рождения платье и, словно в насмешку, намазали губы свекольного цвета помадой, – это безмятежное лицо под варварским гримом было совершенно и обращено не к нам. Я вдруг поняла смысл стихотворной строки Пастернака, до того от меня ускользавший: «Лицом повернутая к Богу…» Я чувствовала ревность к этому Богу, забравшему у меня бабушку, обиду и гнев: время боли еще не пришло. На тумбочке лежало начатое вязание – спицы воткнуты в клубок, несколько петель спустились – и ее очки. Я механически их надела, чтобы довязать ряд до конца. Предметы расплылись.
«Вера меня опередила, без очереди влезла», – говорила моя деревенская бабушка Зинаида, обращаясь ко второй сестре Тамаре. «Она попадет прямо в рай», – убежденно отзывалась Тамара и крестилась на свечку в рюмочке с песком. Криминальный авторитет Петенька слонялся по квартире, в которой уже расположилась Коловраткина сестра со своими отпрысками, предлагал мне «перекантоваться» в какой–то воровской «малине» и вполголоса материл моего отца. Бабушкина племянница Нинка, ровесница моей матери, на кухне кормила с руки восемнадцатилетнего фавненка кавказской национальности, которого привезла с собой из Москвы. Чужие люди в полушубках топтались в прихожей, кашляли, ждали священника, священник задерживался, потом прибыл, близким родственникам раздали тверденькие от мороза свечи, батюшка торопливо бубнил, люди вокруг крестились, я не могла креститься, не могла смотреть на бабушку, воск капал мне на руки, я ничего не чувствовала…
В день похорон было минус двадцать пять. Лоно земли пришлось раздирать железом, как при трудных родах или хирургической операции.
В свидетельстве о смерти, которое и сейчас хранится у меня, сказано: «повторный инфаркт миокарда». А когда же был первый? Не могу вспомнить. Кажется, в кардиологии она не лечилась ни разу.
…Бабушка – говорила мне в детстве: «Сестра в пять лет умерла от скарлатины. Очень я тогда испугалась, прямо на кладбище сомлела. Не ела, не спала. Тогда мама придумала сказку, чтоб меня успокоить: живет, мол, в Москве Великий Иосиф, и есть у него машинка вроде швейной, с большим таким колесом. Умрет человек, Великий Иосиф крутанет свое колесо – тот и вскочит живехонек! Когда через год хоронили маму, я хваталась за гроб, не давала опускать, кричала: «Великий Иосиф, Великий Иосиф! Оживи мою маму!»
Великий Иосиф не помог, и бабушку опустили в стылую землю. И во мне все смерзлось в железный ком. На кладбище я не вытиснула из себя ни слезинки. На фоне тщательно продуманной истерики Коловратки это выглядело звериной черствостью. Родственники поражались моей неблагодарности. А на следующее утро ясный, как зимний день, и такой же холодный ужас жизни (ни малейшей надежды не оставляющий именно потому, что ясный и холодный) стиснул мне сердце до невозможности дышать. За одну ночь мое время из золотой лодочки, плывущей в Вечность, превратилось в смрадную тюрьму. Разве можно сравнить это с олитературенным до последнего удара пульса, а потому совершенно не страшным страхом смерти!
ОНО черное и заостренное, как достигающий звезд колпак карлика, попросившего у властелина асуров кусочек земли в три шага, а затем с дьявольским хохотом принявшего свой настоящий вид и в три гигантских шага накрывшего всю Вселенную. Через НЕГО совсем нельзя дышать, можно только слышать, как где–то рядом, на непреодолимом расстоянии вытянутой руки, монотонно шевелит плавниками будущее, точно рыбьи стаи о днище затонувшего корабля, в котором ты жадно глотаешь последние пузырьки воздуха. Начнешь задумываться о жизни и оказываешься словно бы в незнакомом городе, где на твое «который час?» встречные враждебно молчат, как будто каждый из них боится, заговорив, утратить человеческий облик. Кем они окажутся, когда примут свой настоящий вид: рептилиями? волками? обычными маленькими детьми, пугливыми и жестокими? С тех пор я так и не научилась жить среди них. Но приспособилась делать вид, что умею это. Возложила множество забот, словно камень сестрицы Аленушки, себе на грудь, как это делала ОНА. Бабушка Вера спасает меня и оттуда своим жизненным примером.
Дед Борис умер через два месяца после бабушки. Оказалось: это он без нее не мог. Был апрель, земля лежала расслабленная, готовая легко принять в себя и легко отдать. Когда мы ехали на кладбище на стареньком, выделенном автопарком ЛиАЗе, следом торжественно плыли такси, и в каждом горело по скорбному зеленому оку. Я не знаю, сколько их было. Прохожие останавливались, глазея на диво. Когда подъезжали к кладбищенским воротам, все водители одновременно дали сигнал. Пронзительный вой вспорол тишину, ударился о низкое замурованное небо и, не найдя ни щели, чтобы пробиться в обитель света, осыпался серой штукатуркой дождя.
Дед умирать боялся. Он глотал множество таблеток, заваривал какие– то коренья и часто перебирал маленькие, не больше спичечного коробка, черно–белые фотографии. Однажды в детстве, открыв ключом сервант в поисках лекарства для бабушки, я обнаружила эти бережно припрятанные, крепко пахнущие корвалолом снимки человека в военном френче, чей облик ни о чем мне тогда не сказал. А потом, когда я узнала, какому это солнцу тайно поклоняется дед, и высказала ему свое дерзкое подростковое негодование. Помню, как он жалобно защищал своего кумира, не отступая ни на йоту, словно умоляя: «Не трогай!» Сейчас мне стыдно за свою тогдашнюю наступательную категоричность. А тогда я считала, что он предает бабушку тем, что хранит портреты человека, полстраны сгноившего в лагерях. После бабушкиной смерти дед уже открыто носил снимки в нагрудном кармане вместе с таблетками, на ночь клал на тумбочку в изголовье, и я не препятствовала.
Великий Иосиф не крутанул колесо своей машинки, молитвы генералиссимусу не спасли от второго инфаркта. А я всей тьмой своего искаженного зрения с удивлением смотрела на деда: как он может бояться смерти? Если бы я в те годы была способна сделать вывод из бабушкиной пожизненной обиды, из дедовой растерянности перед небытием, тогда я, перескочив некую промежуточную стадию, немедленно стала бы тем, кто есть теперь. Но хитрая природа не позволяет октябрю прийти раньше апреля: она впрыскивает тебе под кожу наркотик любви, поит вином иллюзии, пока еще может использовать тебя для ее, природы, божественных детских игр. Но как только с этим кончено, одним холодным утром ты внезапно просыпаешься на обломках своей фертильности, лишенная всех роз и радуг, просыпаешься той бесполой «тварью», которая «ревела от сознания бессилья» в гениальном стихотворении Гумилева.
Христианский Бог оттого так многотерпелив, что понимает, какое это великое искушение и какая боль: родиться на Земле человеком. И это понимание Его не позволяет наступить возмездию немедленно по свершении нами всех наших гнусностей (не терплю фарисейское слово «грех»). И, заранее за нас болея, ибо, в отличие от нас, видя наше будущее, видя всю нашу жизнь со своей высоты, – а если бы мы все это Его глазами увидели, то жить бы уж точно не смогли, – Он за нас вместе с нами страдает и нас прощает. Бабушка была наделена состраданием Распятого, состраданием ко всем детям человеческим, состраданием, от которого и разорвалось в конце концов ее бедное сердце.
«За нас», «с нами», – что ты все про себя да про себя? «А она, она», – кричит во мне тонкий жалобный голос. У нее–то не было ничего «для себя»! Разве я, двадцатилетняя, вдруг получившая в жадные протянутые руки непомерную гору даров – молодости, свободы, неизвестного (эге ж…) будущего, вконец ошалевшая от стольких богатств, – разве могла я понять ее? Я просыпалась с легкой головой, я подводила глаза и сварганивала прическу, я убегала, звеня браслетами, туда, где меня ждали, а она оставалась дома готовить еду и мыть детские бутылочки, и ее прохладные вялые щеки, и сморщенные мочки ушей, в которых посверкивали единственные ее сережки – рубиновые капельки, и ее руки в гречневых пятнах вызывали у меня лишь одно желание: почаще смазывать свои лицо и руки импортным кремом, чтобы они никогда не стали такими. Мне казалось это естественным: ее абсолютная, полная жертвенность.
Да и что еще может делать со своей жизнью женщина, которой уже не нужно любви?!
Я ошибалась. Любовь была ей тогда необходима еще больше, чем прежде, ведь ее слабость с каждым днем возрастала.
В ее экспериментальном доме – во всех домах, где она жила! – были тесные и темные комнатки – настоящие каморки: сколько ни драй окна старой газетой, солнца больше не становилось.
Но она родила двух прекрасных сыновей! А дедов незаконный отпрыск ничего не унаследовал от его роскошной самцовской красоты: вот вам и дитя любви. Мне как–то показали его: ничего в нем, лысом, как колено, с покатыми узкими плечиками и гнилыми зубами, не оказалось от бабушкиных сыновей, густоволосых, белозубых. Говорили, что этот внебрачный сын переехал впоследствии куда–то в Евпаторию, сдавал отдыхающим комнатку, очень грязную и запущенную. Говорили еще, что имел он слабое сердце, как все дедово потомство, и был не чужд искусству: рисовал моментальные портреты курортников на залитой солнцем набережной. После первого инфаркта картинки забросил и занялся какими–то хитроумными дыхательными упражнениями, в которых достиг большего успеха, чем в малевании.
Вода без отдыха поит деревья, цветы и травы. Без нее они не могли бы расти. Нужна ли эта непрерывная работа самой воде? И когда она отдыхает? Детские, то есть самые серьезные, вопросы…
Мое тело – часть того мира, от которого я хотела бы зависеть как можно меньше. Тело мне даже не сообщник, а притворяется другом. Ему невозможно втолковать, что его хитрости напрасны. Нет способа достучаться, заговорить с телом и добиться взаимопонимания, его язык – не мой язык. Возможность прямого контакта между нами давно утрачена. Сейчас я научилась противостоять произволу этой биомашины, а в юности она управляла мной и творила, что хотела, да еще заставляла мой разум видеть сны наяву. Теперь этого нет, но тело с упорством механизма продолжает со мной свои игры, цикличные, как Вселенная. На каком языке возразить снегу или жаре? И я с улыбкой говорю телу на своем, иностранном для него, языке: «Больше ты меня не обманешь, я не попадусь в расставленные тобою сети, нежные, как прикосновение паутинки, и крепкие, как колючая проволока. Здесь, где человеческие ничтожества нагло уселись на загривок жизни, я не стану близоруко подносить к глазам твои волшебные стеклышки, по–детски воображая их вместилищем солнца. Я не стану во второй раз смотреть навеянный тобою дивный сон и не обреку на страдания невинное существо, вызвав его из золотой скорлупки Вечности. Женщина, став матерью, уже отдала свой голос за этот мир; она не может забрать его назад, не пожелав смерти собственному ребенку. Я не хочу больше невольно способствовать укреплению жестокости и лицемерия, которые творятся в мире именем всех матерей. Прилежный ловец жемчужин вселенской мудрости, я догадывалась, что когда–нибудь даже кассирша общественного клозета, похожая на старшую Мойру, грозная баба с пронзительно–кровавым облупившимся маникюром, особенно разящим в сочетании с перчатками, в которых для удобства счета денег отрезаны пальцы, откажется принять в уплату за свой сомнительной чистоты сервис те давно вышедшие из употребления тугрики. И поэтому вещество усталости, от которого кровь делается вязкой и медленной, откладывается на сосудах сердца, срывая его привычный ритм. Так, я больше не хочу никого вынуждать приходить в этот мир, смотреть грезы других спящих и притворно рукоплескать белым одеждам псевдозначительности, которые напяливают на себя хозяева жизни».
А если бы моя бабушка променяла свой честный ночной сон на подобные размышления? Лишись она иллюзий, только и делающих жизнь женщины выносимой, позволь себе проснуться, как ее слишком разумная внучка; начни она смывать с глаз сентиментальный кисель, который варится на крахмале традиций, устрой бунт против своей доли, рабской и убогой (безусловно!) и, устремляясь в пространства внутренней свободы, отбрось вместе с атрибутами суеты и свою внучку, просто предоставь меня моей собственной судьбе – что тогда? Вместо того, кто пишет эти строки, было бы другое существо: искалеченное и озлобленное; а может, я закончила бы свои дни еще подростком в сладостном полете с крыши многоэтажки или эмигрировала в веселую страну наркотического кайфа – кто знает? Из той любви, которую подарила мне Вера, я и появилась на свет, как из капель крови убитого Озириса выросли земные цветы.
Ее любви хватило и на мою дочь, ее правнучку.
Но разве стоит моя жизнь той цены, которой она была откуплена?
Римский стоик считал, что истинный человек добра рождается раз в пятьсот лет, как Феникс. Вот только временной промежуток, определенный воспитателем Нерона, вызывает у меня сомнение: земля, что лежит между Россией и Польшей, таких женщин способна рождать чаще, чем раз в полтысячелетия. Именно здесь они и приходят в мир: фениксы добра и запредельного, другим народам непостижимого, до хруста позвонков и крошения зубов, терпения.
А как же с наградой за сверхтерпение? «Она попадет в рай», – сказала Тамара. Думаю, мегаполис Рай давно перенаселен – не то, что во времена Адама и Евы. И потому тамошняя администрация вынуждена ограничивать прописку всяческих лимитчиков, а может, даже отселять вновь прибывающих за сотый километр. Резко уменьшить количество праведников на этой земле – тоже неплохой антикризисный ход.
***
Человек слишком поздно просыпается от золотого сна детства – поздно относительно краткости его земного срока. Проснувшись, человек видит перед собой ночь, похожую на огромное чернильное стекло. Далеко не у всех имеется просвет между тьмой золотой и тьмой черной; и если этот промежуток ясности зрения тебе дан (точнее – ты сама отвоевала его, сознательно отбросив иллюзии и усилием воли отодвинув наступающий мрак), хочется расширить просвет для идущих за тобой. Эта надежда никогда не сбывается. Каждое поколение начинает с начала, и люди обречены повторять все ошибки, совершенные до них.
Но я все же продолжу свой рассказ.
Теперь понимаю, что даже по советским меркам жили старики очень скромно; а учитывая, что дед был все–таки начальником, суровая простота их уклада и вовсе была загадкой для родственников: скромный комод, плюшевый ковер на стене, на котором бессмертные сородичи Актеона зависли в трагическом прыжке над артемидиным ручьем, телевизор – на нем стояли два величественных фарфоровых тигра с лицами фараонов, подаренные деду на пятидесятилетие коллективом автопарка. Родные подозревали экстраординарную страсть к накопительству. После смерти деда из разных углов «единого и могучего» слетелась родня, до этого известная мне лишь по открыткам: делить богатство. Приехала даже год не встававшая с постели дедова племянница из Тбилиси. Но делить оказалось нечего: старая мебель, чайный сервиз, ковер, телевизор, бабушкина швейная машинка, горка с никому не нужными стекляшками… Старики все отдавали детям, не оставляя себе ничего на черный день. Распоряжалась процессом дележки Коловратка. В итоге цирковых манипуляций с флаконом корвалола, истерических выкриков и угроз немедленно «уйти навсегда», которые могли обмануть лишь моего доверчивого отца, ковер с актеонами забрала местная племянница, чайный сервиз – племянница из Тбилиси, а все остальное поглотила Коловраткина утроба.
Следует сказать, что суперприза – квартиры – Коловратка не получила. Сразу же после смерти бабушки она принялась обрабатывать деда, чтобы тот как можно скорее прописал на жилплощадь давно запланированную деревенскую сестру. Дед же неожиданно заартачился: может, начал прозревать относительно характера невестки, а может, печалился сердцем о правнучке, которая уже обживала коленками и ладошками крохотную комнатенку под самой крышей рабочего общежития без удобств. Зато там разрешалось повесить книжную полку и можно было читать и писать ночи напролет, что и явилось главным удобством для ее матери. Коловратка гоняла моего оказавшегося подкаблучником отца в исполком, требовала «поднять все связи», изливала в атмосферу мегатонны яда, но тщетно: без согласия деда нельзя было сделать ничего. Грубое давление, безусловно, ускорило его смерть; старик так и не успел оформить свою последнюю волю по всем правилам советской административной казуистики, и двухкомнатный улов заграбастало своей вездесущей сетью государство. После этого пришла очередь моего отца свалиться с инфарктом: Коловратка таки отыгралась на нем за упущенный кусок пирога.
Мне, в дележке сознательно не участвовавшей, родичи доставили в казенный дом настольную лампу с желтым абажуром (при ее золотом свете мне и сейчас так уютно пишется по ночам!) да картонную коробку с семейными фотографиями: эти вещи никому не понадобились. Лучшего наследства, притом достаточно компактного, чтобы сопровождать меня в моих скитаниях по свету, я и желать не могла.
Через двадцать два года после тех событий я перекладывала старую коробку в другое место и нечаянно оторвала картонное дно, оказавшееся двойным. На пол упали неизвестные мне фотографии моей матери. По– видимому, их успешно прятал от глаз своих ревнивых жен, посвященный в тонкости криминальных тайников, отец.
«Моей матери», – написала я. Но хорошо знакомый мне образ и этот никак не совмещались. Не амбициозная эгоистка, сама Женственность взглянула на меня с тех черно–белых карточек. Брови–ласточки, предгрозовое облако темных волос, капризные пухлые губы, но главное – глаза, вернее, их выражение: мечтательное, доверчивое, беззащитное. Длинное светлое пальто с отложным воротником – и это там, где идеальной одеждой считается «немаркое». Одна ножка в модном ботинке с высокой шнуровкой грациозно отведена назад. Да ей, кажется, идет любой наряд! Вот, играя с младшим братом, выглядывает из–за забора, сложенного из плоской гальки, а улыбка! При нас, детях, она никогда не улыбалась, мы не были достойны ее улыбки, от которой, оказывается, сразу же вспыхивает, словно подсвеченное изнутри, пышное облако волос. Простой черный сарафан, тонкий кожаный ремешок вокруг осиной талии, тяжелые косы за спиной – сидит на прибрежном камне сама Ассоль, ожидающая свою единственную любовь; а вот, прижимая к груди букетик полевых цветов, склоняется в шутливом поклоне. И откуда у дочки пьянтоса–моряка такие позы? Крохотный букетик фиалок в волосах. А это уже в городе, в техникуме: модный джемпер с пуговками на плече, волосы забраны в тугой узел. Вот и фотография с экскурсии в Москве; на той, что хранилась у нас дома, мать сфотографирована сбоку. Здесь же она обернулась: детски ясный лоб, гладко зачесанные назад волосы, лакированная сумочка прижата к большому круглому животу. Отец со счастливым видом поддерживает ее под руку.
Так вот какой она была! И что же с ней случилось? Передо мной фотографии, сделанные после развода: возле подшефной школы, заводского клуба, на фоне цехов и лозунгов. Она пытается держать марку: высоко поднятая голова с модным начесом, в глазах целеустремленная непреклонность. Ее наивность – лакомая пища для вдохновителей ТВ и газет, задуривающих мозг штампами–образами: партийной активистки, простой свинарки, женщины с веслом, работницы и крестьянки; в команде обманщиков играют и ее хитрые подруги с их липкой дружбой, в первую очередь, названная в честь «Капитала». Мечты закончились; теперь она – разведенка с двумя малышками. Раздавленная неожиданным результатом, она просит других, «умных», научить ее жить. Но как ни старается вписаться в их ряды, в ней чувствуют чужую. На какой–то конференции ее посадили под огромным, в четверть стены, портретом Карла Маркса. Среди махнувших на себя рукой товарок с тройными подбородками и мужиков в мешковатых пиджаках она смотрится как чужеземная птица, случайно залетевшая в курятник. Новая модная стрижка «а-ля гаврош», глаза с французистыми «стрелками», короткая замшевая юбка – уже вызов. У нее крохотная, как у Золушки, ножка. Она всю жизнь страдала из–за неходового размера, но хрустальных башмачков на местном стеклозаводе не производят. Что ж, даже резиновые сапоги можно носить элегантно, держа при этом под руки двух явно нетрезвых охломонов в помятых шляпах и пальто. А этот снимок сделан на сельхозработах: склонилась над разложенным на газете все тем же нехитрым натюрмортом, сопровождавшим ее всю жизнь, как родимое пятно, – огурцы, селедка, самогон. Рожи мужчин и женщин, жадно хватающих руками еду, одинаково безобразны в своей тупости. На ней уже вытянутые на коленях треники, грязный свитер и уродливая, похожая на распухшего паука, мохеровая шапка – как у всех, как у всех, как у всех…
Быть как все. Повторять чужие жесты, старательно заучивать иероглифы очередного дацзыбао, и тогда тебе выдадут нужную бирку в скромно декорированном гетто, позволят быть инкубатором для двух слившихся гамет (изолятором для двух сумасшедших гамет!); а потом, когда у тебя окончательно отнимут волю, ты выйдешь из поезда на станции Маятник, – туда–сюда, туда–сюда, – но это будет все то же оцепенение, чтобы не помнить себя, все та же каталепсия.
Но началось с того, что она не захотела приносить себя в жертву, как делали ее мать и свекровь. Вздумала поиграть в варианты. Она же такая молодая и красивая! Найти свою любовь вместо того, чтобы жить с положительным, но нелюбимым мужем. Анне Карениной можно, а ей нет? Разве ее вина в том, что в ней от природы заложено больше жадной витальной силы, чем требует от нее существование в заданных рамках? Целый мир желаний разлагается в ней, отравляя кровь. Сжигать трупики убитых желаний помогает водка – это она хорошо усвоила по родительскому дому, да и в этих местах, где ей предстоит прожить всю жизнь, люди поступают точно так же. Ничего другого нет. Где набралась она этой дури: мечтаний о красоте? Вот она в своем светлом пальто с отложным воротником, в грациозных сапожках, за которые переплачено фарцовщику втридорога, идет на работу по окоченевшей ноябрьской листве. Ее голубые перламутровые клипсы конкурируют с небом (потом она спрячет их в шкатулку и уберет подальше). Ржавая перекрученная колючая проволока над бетонным заводским забором – о, каким бесконечным! – словно вздыбленная в агонии чешуя на спине мертвого чудовища. Ржавое «солнышко» решетки на окнах административных зданий. Два господствующих цвета: ржавчина и серость. За окном ее кабинета – отбеленная заводскими выбросами, когда–то голубая ель кажется уменьшенной копией вышки электропередач. Окно, в которое она смотрит, с обеих сторон зажато выступами стены, и поэтому взгляд упирается в кирпичный зарешеченный мешок. Щель почтового ящика, грубо изнасилованная толстыми скрутками газет. Ни глотка чистого воздуха, живого чувства. А как же любовник, которого она боготворит? Она наряжает его, как новогоднюю елку, в благородство и рыцарство, каковых за ним сроду не водилось.
А что же по воскресеньям? Непробиваемо самодовольные супружеские пары идут с сельскохозяйственного рынка, похожие на откормленных свиней. Вон и тот, который, хватив лишку на заводском сабантуйчи– ке, признавался ей в любви, вон он семенит за своей грозной коровистой «мамкой», преданно несет авоську с помидорами. В честном бою захомутавшие самцов жены злобно косятся на нее, вспоминая, в каком ящике стола хранятся партбилеты их дрессированных мужей. Система на их стороне: красота опасна, а потому нужно сделать всех одинаково уродливыми. В магазинах – длинные панталоны с начесом, серые пиджачные костюмы, ортопедическая обувь. Красота и притягивает, и отпугивает местных донжуанов: краснорожих вояк, пьяненьких работяг, громил из пожарной команды, потных строителей, гориллообразных электриков.
Не влезай – убьет!
Не разжигай!
Не дыши!
Другие не живут – и ты не смей!
Она продержалась дольше, чем эти «другие», уже после первых родов грубо оплывшие и покорно принявшие вид окружающего пейзажа. Возможно, она была более жадной к жизни, чем они, умерщвленные еще в колыбели. Она, как умела, противилась, не смогла смириться сразу; а потом, когда смирилась (а что ей еще оставалось?), вымещала горечь поражения на детях («Зла на вас не хватает!»). Была слишком эгоистична, чтобы дать отчаянию тихо тлеть внутри нее, постепенно превращаясь в рак матки или груди, как это происходило с другими женщинами городка. Ей требовалось распахнуть свое нутро, вывернуться наизнанку и залить своим отчаянием всех: в первую очередь – детей, а потом и тех, кто пытался под видом сочувствия устроить из ее несчастья распространенный аттракцион под названием «кому–то еще хуже, чем мне». Аттракцион, неизменно поддерживающий грошовую дозу оптимизма в тех, кому жизнь чего–то не додала.
Была ли она хоть немного счастлива со своим божком? Вряд ли, поскольку продолжала стыдиться своего тела, этого принадлежащего «обществу будущего» придатка, который имел достаточно развитые тазовые кости, чтобы рожать легко и безболезненно, но был, несомненно, виновен в ее беззаконных снах, напоминающих неприличные картинки из немецкого журнала, который приволок ей однажды Брюхатый. Те картинки она успела увидеть лишь мельком, поскольку демонстративно разорвала у него на глазах вражеский глянец, как и подобает партийной женщине.