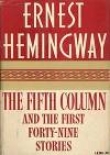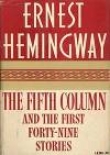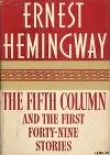Текст книги "Идеальный официант"
Автор книги: Ален Зульцер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
13
Через несколько дней после того, как Америка объявила войну, 7 декабря 1941 года, Юлиус Клингер и его жена отправились в оперу, но вернулись домой раньше, чем предполагали, потому что жена Клингера в этот вечер неважно себя почувствовала. Клингеру настолько не понравился спектакль, что он без всякого сожаления уехал из театра после первого же акта.
Когда они вышли на улицу, там шел снег. С тех пор как они переселились в Нью-Йорк, машины у них не было, они приехали домой на такси, у подъезда их встретил Якоб, которого портье заранее предупредил об их приезде.
Госпожа Мозер в этот вечер ушла куда-то с подругой. Йозефа сидела в библиотеке и раскладывала пасьянс. Макси, по словам Якоба, с раннего вечера удалился к себе в комнату, чтобы позаниматься, и с тех пор не показывался. Когда Клингер спросил о самочувствии Максимилиана, Якоб пожал плечами, из чего Клингер мог заключить, что Якоб ничего не знает. Когда он попытался прикоснуться к Якобу, тот уклонился, и рука Клингера, как это часто случалось теперь, схватила лишь пустоту. Он в тот момент и представить себе не мог, что все это – в последний раз. Клингер проводил Якоба взглядом. Когда он видел тело Якоба, вожделение в нем по-прежнему оставалось таким же непоправимо безграничным и ненасытным, горестным, но все же не совсем безнадежным. Между тем ему исполнилось пятьдесят три. А Якобу двадцать пять.
Тишина, царившая в квартире Клингера, падающий снег за окном, приглушенный свет – все отвечало его внутреннему состоянию, до лучших времен было, казалось, рукой подать. Вступление Америки в войну, готовность Соединенных Штатов любой ценой сокрушить Гитлера, даже ценой потери собственных солдат, – все это вселяло надежды и позволяло Клингеру дышать свободнее. Он сейчас с удовольствием поговорил бы с кем-нибудь о будущем, но, зная, с какой неохотой дочь отрывается от пасьянса и сколь мало его сына, изучающего юриспруденцию, интересуют идеи отца, Клингер оставил свое намерение. К Максимилиану и без того было трудно подступиться, со времени их переезда в Америку он все больше и больше отдалялся от семьи, был скуп на слова и замкнут.
Клингер посмотрел на часы: была половина одиннадцатого. Он выглянул в окно: снег пошел еще гуще. Он продолжал бесцельно бродить по квартире. Пора было заканчивать день, но та стремительность, с которой убегали ночные секунды, заставляла его еще помешкать. Ему некуда было торопиться. Не таится ли за этой благостной тишиной что-то тревожное? Он ничего не мог обнаружить. Примерно через час он попросит Якоба принести ему чашку чая в постель. А там видно будет, стоит ли рассчитывать на продолжение.
Марианна Клингер тем временем удалилась к себе. До утра она больше не выйдет из своей комнаты. Ее комната была одиноким островом, на котором вместо пальм пышно и бескрайне разрастались воспоминания, – воспоминания о прежних временах, поддерживаемые бесчисленными сувенирами, которыми она себя окружала: Марианна уже давно жила своей, отдельной жизнью. Было без двадцати одиннадцать, по-прежнему шел снег, когда Клингер погасил свет в кабинете, соединявшемся с его спальней, рядом с которой находилась комната Якоба, откуда тоже вела к нему дверь. Якоб был всегда с ним рядом, Якоб был ему нужен, Якоб был под рукой. Клингер покинул кабинет, где стоял его письменный стол, а рядом – маленький столик Якоба, всегда чисто прибранный, на котором громоздилась американская пишущая машинка внушительных размеров. «Адлер» Клингера остался в Германии.
Пока дочь раскладывала пасьянс, а Якоб хозяйничал на кухне, Клингер все слонялся по просторной квартире, располагавшейся на девятом этаже восемнадцатиэтажного дома. Проходя в третий уже раз мимо комнаты Максимилиана, он боролся с искушением постучать в дверь, за дверью было так тихо, он наверняка заснул за своими занятиями. Если же он и вправду заснул, то Клингера он не заметит, но, поразмышляв, Клингер передумал заходить, ведь он отнюдь не собирается сыну мешать, – и вот он опять отправился дальше, от одной комнаты к другой, в каждой комнате горел свет, приглушенный свет, всегда неяркий, в каждой комнате стояла как минимум либо настольная лампа, либо торшер, он в очередной раз прошел мимо библиотеки, дочь на секунду подняла на него глаза, оторвавшись от пасьянса, улыбнулась, слегка кивнула ему и быстро отложила в сторону две карты. Она казалась такой взрослой, такой старой, такой отстраненной. Неужели у нее не было подруг или друга? Одиннадцать часов, он вошел в гостиную, открыл дверцу в корпусе напольных часов, с которыми с давних пор не расставался, и завел их, как делал каждый вечер. Он сел, подождал, прислушался. Все тихо. Не слишком ли тихо? На сколько шагов удалены от него сын, дочь, жена, Якоб, – он никогда этого не узнает, в тот момент подобные вещи казались абсолютно неважными.
И вот в эту мирную тишину ворвался грохот распахнувшейся двери, потом он услышал торопливые шаги, приближавшиеся к гостиной. Они, вне всякого сомнения, приближались именно к нему, он хорошо знал эти шаги, поэтому ничуть не удивился, когда в дверях появился Якоб.
Якоб встал в дверях, и выражение его лица было столь же красноречивым, как перед тем беспокойный стук его быстрых шагов. Что-то случилось, что-то такое, чего не должно было произойти. «Макси», – тихо сказал Якоб, словно другие не должны были слышать того, что он собирался сказать. «Макси», – повторил он снова, и тут голос ему изменил, а Клингер, который не мог понять, что случилось, почувствовал, что нет времени задавать вопросы; он ничего и не спросил. Он вскочил и пошел следом за Якобом, они прошли по коридору, Якоб шел впереди, Клингер чувствовал, что вот-вот потеряет самообладание, еще не зная причины, сейчас все выяснится, и он сможет сохранить выдержку.
Клингер следом за Якобом вошел в комнату Макси. То, что неясный страх, пронизывавший его, был обоснованным, подтвердилось очень скоро. В нескольких метрах от него лежал его сын, вытянувшись на кровати, лицо у него было восковое, желтоватого оттенка, это было не живое лицо, это была сама смерть. Как он оказался в комнате Максимилиана, когда Макси не мог его позвать? В комнате горел свет. Кто включил его? На Макси был темный костюм, которого Клингер на нем никогда раньше не видел, возможно новый, и из штанин торчали голые белые ступни. Ни ботинок, ни носков. Брюки, белая рубашка, темно-синий галстук, золотая булавка с зеленым камнем. Рубашка, брюки, галстук, булавка.
Рубашка, брюки, галстук, булавка. Темно-синее и золотое. А из штанин выглядывают босые ступни – ступни почти мальчика, желтоватые, как и лицо, их нагота была еще более явной, чем нагота лица. Как будто он после смерти вышел из собственного тела, склонился над самим собой и привел себя в порядок, возможно даже уголки рта сам себе приподнял, чтобы смерть не выглядела столь пугающе. Но это ему не удалось, ибо он сам был смерть, он сам выглядел пугающе, не важно, было ли у него при этом просветленное или же мрачное выражение лица. Он забыл застегнуть молнию на брюках и лежал без нижнего белья, Клингер отвернулся в смущении, охваченный мучительным чувством стыда: его сын был мертв, и на нем не было нижнего белья. Если он все продумал, стараясь исключить любую случайность, то почему вдруг такое случилось? Ему показалось, что он увидел его член, возможно, это была всего лишь фантазия, игра обманчивого света, он не хотел этого видеть, но долго ему смотреть туда и не пришлось, потому что Якоб немедленно сделал то, что должен был сделать он, отец. То, что, казалось, естественно должен был сделать отец, явилось естественным вовсе не для него, а для его слуги и любовника; не он, а Якоб наклонился над Макси, пальцы, которые он так часто сжимал в своих, застегнули молнию, причем так бережно, словно Якоб боялся сделать больно мертвому, так он укрыл мертвую плоть сына от взглядов отца, прикрыв кусочек плоти, призванный порождать радость и жизнь. К горлу Клингера подступила дурнота, какой он не испытывал никогда прежде и никогда после и которую он, полагавший, что если еще не все в жизни описал, то уж точно способен описать все что угодно, никогда не смог бы описать: он был не властен над судьбами живых, а если они были мертвы, то мертвыми и оставались, и не было средства, не существовало такой резинки, такого пера, чтобы стереть или перечеркнуть смерть реального человека, – вот суровая правда: его сын мертв. Но он умер не своей смертью. Предметы, находившиеся ближе всего к нему перед самым концом, внятно говорили сами за себя: бутылка джина, снотворные таблетки, он с этими предметами разговаривал, и они отвечали ему, но теперь он умолк, и они говорили сами с собой. Юлиус Клингер находил все новые и новые слова для своего непереносимого состояния, но странным образом подходящие случаю чувства у него не возникали. Он не мог понять, что произошло.
Можно было подумать, что, умирая, Максимилиан пытался сложить руки на груди, но также можно было подумать, что пришел кто-то посторонний и пытался разнять его руки, и ему это почти удалось. Поэтому пальцы рук у Макси только чуть соприкасались. Да что же это такое, его собственный сын, его родной сын умер в Нью-Йорке! Двадцать два года. На три года моложе Якоба, на тридцать один год моложе, чем он сам. Что означают его голые ноги, почему он без носков, почему в черном костюме, в чистой рубашке, с галстуком, но без обуви? Что бы это означало в каком-нибудь романе, в его собственном произведении? Было нетрудно догадаться, что произошло, было нетрудно представить себе, что обрушится сейчас на него и на его семью, все это Клингер видел перед собой очень отчетливо. Теперь именно ему предстоит постучаться в спальню жены, позвать ее, подготовить к «очень плохой новости» и отвести ее в комнату мертвого сына, ее любимого, единственного сына: рано или поздно он это, конечно, сделает, но пока он по-прежнему стоял неподвижно, в метре от изножья смертного ложа и не двигался: он смотрел на босые ноги сына, и, с удивлением наблюдая, как Якоб склонился над Максимилианом, просунул руку ему под затылок и слегка приподнял его голову, словно хотел его поцеловать, Клингер краешком глаза заметил, что между страницами какого-то кодекса, лежавшего на письменном столе, заложен конверт, без лишних колебаний взял его и сунул в карман. Якоб ничего не заметил. Позже он разглядел, что на конверте не был указан адресат. Умерший был его сыном, и поэтому последнее его письмо принадлежит ему, отцу.
Итак, удивляясь тому, что делал Якоб, а также тому, как он это делал, Клингер, который до сих пор так ни разу и не прикоснулся к мертвецу, к своему собственному, единственному сыну, – взял письмо сына себе, ибо догадывался, что его содержание несет угрозу для него и для мира его семьи, – это было всего лишь догадкой, но догадкой, похожей на уверенность. Возможно, написанное на этом клочке бумаги гораздо опаснее для него, чем смерть Максимилиана. Что за отвратительная мысль, он думал только о себе, он шел по тоннелю, где в конце не видно света, но знал, что однажды доберется до света, не сейчас, не завтра, каждый, кто идет сквозь тоннель, выходит в конце к свету – к свету или к свободе.
Клингер наблюдал за своим любовником и смотрел на сына, он наблюдал за тем, как Якоб большим и указательным пальцами закрывал Макси глаза, он видел сцену, в которой для него не предусмотрено было роли. Только теперь Клингер сообразил, что, собственно, произошло, причем произошло давно, и его вдруг охватило совершенно неуместное чувство: он ревновал.
Он же никогда ничего такого не замечал. Он сам создал всю эту ситуацию, а вовсе не Якоб и не сын. Какой спрос с мертвеца? Разве он может нам что-то сказать? Или прогнать? Неужели это катарсис, вызванный кульминацией драматического развития? Вместо того чтобы позвать жену, он молчал, вместо того чтобы сказать Якобу: прекрати, не лапай его, это мой сын! – он молчал. Он смотрел на поле проигранного сражения – это все, на что он был способен. Он был обречен оставаться репортером и батальным живописцем. Он делал то, что обычно делает писатель, – смотрел вокруг, примечал детали и инстинктивно их запоминал. В один прекрасный день они ему пригодятся, но только при условии, что ему позволительно будет изменить антураж по своему усмотрению. Кровать налево, шкаф направо – и чтобы никакого Якоба в комнате.
Верхний свет освещал комнату с беспощадностью, подобающей мертвому и предметам, обеспечившим эту смерть. На ночном столике стояла пустая бутылка из-под воды и большой стакан, на полу валялась другая, опрокинутая бутылка с джином; жидкость, пролившаяся на ковер, уже впиталась, об этом свидетельствовало темное пятно на ковре и тяжелый запах можжевельника, наполнявший комнату. В этой луже расплылись белые таблетки снотворного, превратившись в белые ватные бугорки. Маленькие ватные точки на ковре у постели Максимилиана. Эти таблетки оказались лишними и выпали у него из рук. Никто больше не узнает его последних мыслей. В остальном в комнате царил идеальный порядок.
– Врача, – прошептал Клингер.
– Поздно, – спокойно сказал Якоб, – поздно. Он мертв.
– Почему?
Якоб удивленно на него посмотрел:
– Что значит «почему»?
У Клингера появилось неясное чувство, что кто-то стоит за спиной и ждет от него знака, а он до последнего момента ничего вокруг не замечал, все его внимание было поглощено тем, что не двигалось, но, услышав за спиной шелест, не более чем легкое дуновение, он уже знал, что это его дочь, которая, видимо, уже несколько секунд стояла позади него. Она долго сидела у себя в комнате за пасьянсом, прислушивалась к звукам, глядя в пустоту, а потом не выдержала. Она не стала дожидаться, пока ее позовут. Сосредоточиваться на своей одинокой игре она больше не могла, ей покоя не давали эти странные звуки, доносившиеся из комнаты Максимилиана, внезапно она оказалась за спиной отца и заголосила так громко, выкрикивая имя Максимилиана так пронзительно и с такой мукой, что Клингер непроизвольно обернулся и сделал то, чего не делал еще никогда, – он ударил ее, он влепил ей затрещину, он нанес удар такой силы, что дочь отшатнулась к двери. Он тут же пожалел об этом и одновременно почувствовал облегчение, но не извинился. Учтивость была неуместна в этой ситуации. Как и следовало ожидать, на крик Йозефы прибежала, как по тревоге, Марианна Клингер.
Все пятеро толпились в комнате Максимилиана, когда через четверть часа домой вернулась госпожа Мозер. За спинами собравшихся покойника было совершенно не видно, и она не сразу поняла ситуацию. Только молчание, тяжким грузом нависшее надо всеми, подсказывало ей, что произошло нечто очень значительное.
На улице сгущались сумерки, а Клингер все продолжал рассказывать бесцветным голосом о том, как в ту же ночь испытал сомнительный соблазн «узнать всю правду». Поскольку свет в комнате не горел, Эрнесту был виден только силуэт Клингера, и все же он не вставал, чтобы включить светильник под потолком в виде желтой алебастровой чаши. Темнота была ему нужна, он не хотел видеть Клингера, но жаждал узнать, что же тогда произошло. Во рту у него пересохло, он дрожал, пот струился по спине и бедрам. Ему казалось, что он уже несколько дней не мылся. Откуда-то доносился цветочный запах, хотя у него в квартире никогда цветов не бывало, и от Клингера тоже такой запах исходить не мог.
После того как врач, венский эмигрант, заполнил свидетельство о смерти и, наконец собравшись уходить, сунул в руку Марианне таблетку успокоительного, Клингер оставил всех и отправился к себе в кабинет. Он изнутри закрыл дверь на ключ. Сел за письменный стол, за которым писал свои книги, диктовал письма и воззвания, – и вскрыл конверт, где лежало посмертное послание его сына, листок бумаги с его последними словами, написанными в исступлении. Клингер перечитывал письмо все снова и снова, и каждый раз его взгляд неустанно блуждал по скачущим словам.
– В ту ночь я прочитал это письмо не раз и не два, а раз двадцать или тридцать, я сначала пробежал его все бегло, а потом уже вгрызался в каждое слово, и каждое слово вгрызалось в меня самого, вновь и вновь. Не знаю, что думали про меня остальные, почему я был не с ними, почему я их не утешал, не поддерживал. Может быть, они думали, что я хочу избавить их от своих собственных страданий, а я просто не хотел, чтобы они лицом к лицу столкнулись с правдой. Нет, я попросту скрыл правду, ведь, если бы она открылась, мне пришлось бы туго. Нет, у меня никогда не было намерения раскрыть перед всеми правду обо мне и моем сыне. Ни тогда, ни потом.
– Так почему же сейчас вы это сделали?
– Потому что вы мне позвонили. Потому что теперь и Якоб мертв. Я ведь его почти забыл. А может быть, и потому, что смерть сейчас ко мне ближе, чем все остальное. Настоящего объяснения нет.
– Я-то еще жив.
– Да, и вам эта правда по плечу. Вы, как я уже сказал, идеальный официант.
– Что ж, не скрою, я всегда к этому стремился, я хотел, чтобы Якоб тоже стал идеальным официантом. Но у него, к сожалению, это не совсем получилось.
– Как знать.
Эрнест хотел было встать, но когда он обеими руками оперся о ручки кресла, то почувствовал на себе взгляд Клингера и опустился обратно.
– Позвольте, я доскажу до конца.
Не было никакой возможности увильнуть от разговора и прервать Клингера он тоже не мог.
– Прощальное письмо было коротким и грубым, в нем рассказывалось о жизни Максимилиана, начиная с того дня в Гисбахе, когда Якоб вошел в нашу жизнь, да-да, в мою жизнь и, как я узнал в тот вечер из письма, в жизнь Макси тоже. За два-три дня до трагедии ему, как он думал, открылась вся правда о том, какой фальшивой жизнью он жил, жизнью, построенной на лжи, в которую я внес значительную лепту. Когда у него случайно – каким образом, где и благодаря кому, он не пишет – открылись глаза на то, что происходит за его спиной между мной и Якобом, ему не оставалось иного выхода, кроме самоубийства. Не знаю, может быть, он сам что-то подслушал. Возможно, дома ходили сплетни насчет меня и Якоба. Могло случиться, что мать в минуту беспечности проболталась и открыла ему правду. В те времена я считал свою жену наивной, но сегодня я сильно сомневаюсь в ее неведении.
Эрнест молча слушал старика. Еще несколько слов, и его жизнь осветится совсем другим светом, чем прежде, тусклым и ровным светом, который лишает красок все предметы, который превратит его тоску по Якобу в непристойный собачий скулеж пса, для которого побои хозяина столь же ужасны, сколь желанны. Ему бы встать и этим решительным движением положить конец рассказу Клингера, стряхнуть с себя оцепенение и зажечь свет, но он продолжал сидеть, впившись глазами в тень, которая маячила перед ним, становясь все больше по мере того, как слова звучали все тише и все торопливее срывались с губ Клингера, который теперь заговорил быстро. Тень, сидевшая перед ним, казалось, поглощала все, что ее окружало, в том числе прошлое Эрнеста и ту неприкосновенную часть картины этого прошлого, которую он сам создал.
– Для него было важно сделать меня ответственным за самоубийство, которое он собирался совершить сразу после того, как напишет письмо. Нет, ответственным я чувствовал бы себя и в том случае, если бы он меня не обвинял, потому что, в отличие от него, мы оба были свободны, и я, и Якоб. А он был связан по рукам и ногам. Я хотел что-то от Якоба – и получал, Якоб тоже хотел от меня кое-что – и получал. Несмотря на разного рода зависимость, мы в определенном смысле были независимы друг от друга, одним словом – взрослые люди. Но мой сын верил в любовь и в исключительность. Он верил Якобу.
Двойная жизнь и фальшь – эти два понятия все время повторяются в его прощальном письме, несомненное эхо Ибсена, которым он зачитывался еще в юности. Меня он упрекал в том, что я веду двойную жизнь, в которой для него нет места. Он бросил этот упрек и матери, нам всем, он видел в нас участников заговора, цель которого – личная польза. Он писал, что не может уйти и не может остаться, он вообще не может больше двигаться. С тех пор как увидел ясно всю эту ложь, в которую мы его втянули без его ведома, он погиб. Его раздавили. Удушили. Он любил тайно и был убежден, что его тоже тайно любят, но как ему теперь оценивать то минувшее время? Он писал, что обманулся, потому что его обманули. Он задавал себе вопрос, что за средство было у меня в руках против Якоба, чтобы полностью его себе подчинить, но этот вопрос он, в сущности, задавал не мне. Он умер в уверенности, что на Якоба оказывали давление, что Якоб вынужден был покориться мне против своей воли. Как сильно он любил его и как мало знал! Ему не хватило духу поговорить об этом с Якобом, он оказался таким же трусом, как и я. Он и со мной не смог об этом поговорить. Ни с кем не смог. В каком ужасном отчаянии он прожил последние дни перед самоубийством! Если бы он решился поговорить со мной, я бы все ему объяснил. Но возможно, он мне и не поверил бы. И кто знает, может быть, я стал бы все отрицать. Разве я не ревновал? Разве я не был самодоволен и тщеславен? Разве я не был трусом? Из его письма я узнал, что Якоб соблазнил Макси еще в Гисбахе. Макси легко дал себя соблазнить в семнадцать лет, не оказывая особого сопротивления, добрый, но отнюдь не невинный мальчик, – тогда же, когда Якоб соблазнил меня, привязав к себе, и в то же самое время, когда вы с Якобом жили вместе, в одной комнате, делили не только комнату, но и постель, и даже, может быть, общий идеал любви.
Якоб шустро успевал повсюду, переходя от отца к сыну, а от него – опять к другому, обвораживая и заманивая всех.
– Когда Макси сделал свое ужасное открытие, поняв, что отец обманывает его с человеком, которого он любил больше всего на свете, с человеком, который, как он писал, привязывал его к жизни, мир его мгновенно рухнул. Он думал, что я знаю о его наклонностях. Он считал, что я именно ради него нанял Якоба и взял его с собой. Что за безумие нас всех тогда охватило? И вдруг он узнаёт, что я нанял Якоба вовсе не для того, чтобы обеспечить ему, Макси, жизнь без проблем, а из собственных корыстных интересов, «как всегда», пишет он. А на самом деле мне бы никогда не пришла в голову мысль, что у моего сына с Якобом сложились отношения, выходящие за рамки отношений с наемным помощником. Я украл у него любовника. Он не мог пережить этого. Что ж, я его понимаю.
Клингер, похоже, подошел к концу своего рассказа, к концу истории, в которой Эрнесту не нашлось места, кроме одного – того самого идеала любви, о котором говорил Клингер и который в действительности оказался только неудачной попыткой добиться того, чтобы тебя любили. Но Эрнест не покончил с собой. У него даже в мыслях никогда такого не было.
Эрнесту видны были только белки глаз Клингера, остальное – зрачки, веки, ресницы – слилось с фоном, на котором выделялась его сидящая фигура, чуть сгорбленная, но исполненная упрямой упругости, словно он готов был вскочить в любую минуту. Наблюдал ли старик за ним – об этом Эрнест мог только догадываться. Клингер поведал и объяснил ему все, что он жаждал узнать и понять, все, что он в течение долгих лет непрерывно обдумывал, но это не принесло Эрнесту облегчения. В доме напротив по-прежнему горел свет, соседка его не погасила, похоже, теперь свет горит у нее непрерывно. Эрнест видел этот свет, хотя стоял спиной к окну, но за спиной Клингера висело зеркало, и в нем отражалось освещенное окно квартиры напротив.
Любовь Якоба к Эрнесту была лишь коротким сценическим эпизодом, и это, наверное, самое лучшее, что можно о ней сказать, потому что в этот краткий период Якоб, вполне возможно, вкладывал серьезный смысл в то, что говорил, и, как поется в песенке, et alors voila quun soir i lest parti, le postilion de Lonjumeau [11]11
Как-то вечером он уехал, почтальон из Лонжюмо, вот и все (Фр.).
[Закрыть].
Сраженный смертью сына, Клингер, заглянувший в его жизнь с совершенно неожиданной для себя стороны, получил такой удар, который можно было парировать только ответным ударом. И он решил нанести его в тот же день, хотя прекрасно понимал, что ранит тем самым себя самого. Причин, приведших к смерти Макси, было достаточно, чтобы немедленно выставить Якоба из дома. Его нельзя было не выгнать. Удастся ли также стереть его из памяти, не играло в тот момент никакой роли, время покажет.
Якоб, которого он вызвал к себе еще до завтрака, прежде чем повидаться с кем-нибудь из домашних, выглядел жалко и ничего не оспаривал, но его вид стал совсем несчастным, когда Клингер сообщил ему об увольнении. Он ни слова не возразил. Не оспаривал свою вину в смерти Максимилиана и не пытался переубедить Клингера, хотя, возможно, это было бы не так уж трудно, как в тот момент думал Клингер. Клингер вообразил, что возмездием за самоубийство сына может стать грубый произвол по отношению к Якобу. И если с бессмысленной смертью сына он ничего уже поделать не мог, то уж по крайней мере мог ответить за одну несправедливость другой несправедливостью. Позже он понял, насколько мелочным и несоразмерно жестоким был этот поступок, но тогда все выглядело для него иначе; в тот момент, когда нельзя было уже ничего исправить, он хотел совершить нечто решительное. И если ничего путного этим не было достигнуто, то одно ему все-таки удалось: он сумел наказать самого себя. И никогда потом не раскаивался в этом поступке.
В воздухе ослепительно-светлого, солнечного зимнего утра кружились редкие снежинки. Мелкие и прочные, как песчинки, они медленно опускались вниз, к людям, которые ничего не подозревали о несчастье тех, кто высоко над их головами смотрел во мрак наступившего дня, в котором ничего было уже не поправить. Якоб стоял перед Клингером, он выглядел опустошенным и был очень бледен. Он стоял, безвольно опустив руки, и смотрел в пол. А Клингер смотрел мимо него в окно, куда-то сквозь толщу воздуха на стену противоположного дома, где какой-то парень опасно перевесился из окна и что-то делал с древком флага, хотя самого флага видно не было.
Клингера мало волновало, что подумают остальные, узнав, что он уволил Якоба, столь долго прослужившего у него, причем уволил, казалось бы, в самый неподходящий момент. В хозяйстве без Якоба вполне можно было обойтись, не то что без госпожи Мозер. Просто его больше не будет, и все, и только много позже Клингер по зрелом размышлении будет удивляться, что почему-то никто не поинтересовался, за что, собственно, он его прогнал. Ни Марианна, ни его дочь ни разу не спросили о причине, из чего он заключил, что она была им известна.
Клингер попросил Якоба немедленно собрать вещи и уйти в тот же день, и чем скорее, тем лучше. Напоследок он вручил ему конверт с жалованьем за три месяца. Как-нибудь он прокормится, опыт у него есть, знакомства тоже. В полдень Якоб покинул квартиру. Никто не попрощался с ним у дверей, сам Клингер никакого значения не придавал разным там рукопожатиям, все остальные были слишком заняты налаживанием дел, которые разладились со смертью Максимилиана, чтобы думать о Якобе.
Впрочем, вечером Марианна Клингер рассказала мужу, что Якоб всю ночь провел возле их сына. Когда она в восьмом часу утра вошла в комнату Макси, Якоб, с прямой спиной, сидел на стуле, сна ни в одном глазу, и, пока он ее не заметил, он, похоже, разговаривал с покойным. «Можно было подумать, что у них есть какой-то свой, особенный язык». И это был последний случай, когда при Клингере упоминалось имя Якоба, до того самого дня, когда Эрнест ему позвонил и попросил о встрече.
Чемодан у него был небольшой, и спешить ему было некуда. До отъезда оставалось достаточно времени, чтобы собрать вещи; их было немного – двое брюк, две пары обуви, два пиджака, четыре рубашки, белье, носки, туалетные принадлежности, бумага и ручка, документы, деньги. Эрнест сидел на кровати, обхватив колени, и смотрел, как Якоб собирается. Он хотел запомнить каждое движение, ведь он знал, что будет жить этими воспоминаниями еще долго. Чемодан лежал на кровати открытый, и Эрнест мог запросто коснуться его ногой, но он не шевелился, он молча и неподвижно смотрел на Якоба, который, переходя в нерешительности от кровати к шкафу, собирал все то, что накопилось за последние месяцы, сплошь свидетельства его присутствия здесь; одно за другим они исчезали в чемодане, пока наконец не осталось ничего, словно Якоба тут никогда и не было. На Якобе были только кальсоны, потому что под крышей даже сейчас было уже очень жарко. Скоро восемь, а пароход в Интерлакен отправлялся в одиннадцать часов. Самое долгое в жизни путешествие ему еще предстояло.
На стуле возле умывальника сложены были вещи, которые он наденет сегодня, в день отъезда: легкие белые брюки из льна, тонкая белая рубашка, светлые носки, коричневые ботинки; все это он купил на днях в Интерлакене, как и элегантный чемоданчик, который он упаковывал с невероятной тщательностью, поразившей Эрнеста. Деньги на чемодан и на новую одежду ему дал Клингер, который отправил Якоба в универсальный магазин Шауфельбергера, снабдив его бланковым чеком и веля одеться прилично. Поскольку Клингер относительно его гардероба никаких распоряжений не давал, он носил то, что ему нравилось.
Отправляясь в Интерлакен, Якоб попросил Эрнеста составить ему компанию, и, хотя Эрнест не строил никаких иллюзий насчет того, зачем Якоб вызвал его с собой, он согласился. Вот так и получилось, что на целых полдня прежняя беззаботность, которая так поразительно гармонировала с этим сияющим днем, вернулась, как старая знакомая.
Двое друзей на прогулке. Двое друзей в кафе Шу. Ни Эрнест, ни Якоб ни слова не проронили о том, что ждало их впереди, ни слова о разлуке, предстоявшей через три дня, ни слова о путешествии до Марселя и потом на пароходе в Америку. Ни слова о Клингере и о том, что они безвозвратно теряли. На время их прогулки по маленькому, привычному Интерлакену ближайшее будущее перестаю существовать, никакого завтра и послезавтра не было. Они шли по бульвару вдоль озера и по торговым улицам Интерлакена совсем рядом, так что их плечи, локти, ладони при ходьбе то и дело соприкасались, сначала случайно, а потом, возможно, и намеренно, и ни Эрнеста, ни Якоба эти прикосновения не пугали. Это было так же естественно, как дышать или ходить. Эрнест согласен был годы напролет идти вот так, идти дальше, через весь Интерлакен и через другие города, как по эту, так и по ту сторону известного ему мира. На ходу он закрыл глаза, и во тьме, пронизанной красноватыми точками, прорезаемой молниями яркого солнечного света отражавшегося на сетчатке, годы с Якобом стремительно проносились, ничем не омраченные, никем не прерываемые. Вот они сейчас проходят рядом по городу и точно так же могли бы проходить годы.