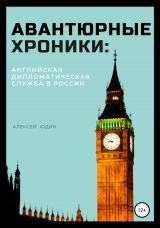
Текст книги "Авантюрные хроники: английская дипломатическая служба в России"
Автор книги: Алексей Юдин
Жанр:
Научпоп
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Если предположение о роли Боуса и доктора Джейкоба в отравлении Ивана Грозного имеет под собой основание, то следует признать, что записки Горсея стали первым примером «литературного прикрытия» специальной операции англичан за пределами национальной территории и заложили «добрую традицию» многих английских дипломатов и разведчиков «объяснять» читателям своих воспоминаний суть переворотов и революционных событий, свидетелями которых они стали, но в которых «отнюдь не участвовали».
Кстати, идея насильственной смерти Ивана Грозного отнюдь не нова. Этой теме посвящено исследование, написанное уже упоминавшимся крупнейшим советским и российским историком–славистом, членом-корреспондентом РАН Борисом Николаевичем Флорей8686
Флоря Б.Н., «Иван Грозный», глава «Последние годы»
[Закрыть]. В своей книге об Иване Грозном, он цитирует одну из псковских летописей: царь «на русских людей… возложи свирепство», а затем и вовсе собрался «бежати в Аглинскую землю и тамо женитися, а свои было бояре оставшии побити». Но «не даша ему тако сотворити, но самого смерти предаша, да не до конца будет Руское царство разорено и вера християнская». При этом вину за отравление царя возлагали на ближайшего вельможу царя, главу аптекарского приказа Богдана Яковлевича Бельского, что, как уже было показано, явно противоречило интересам и перспективам царского любимца.
Вместе с тем Флоря, ссылаясь на записи переговоров Бельского с Боусом, подтверждает версию о подписании Боусом союзного договора. Вот, в частности, что он пишет: «Переговоры о союзе не пошли гладко. Соглашаясь на заключение такого соглашения, королева устами своего представителя настаивала на том, что, прежде чем начинать войну с «недругом», следует вступить с ним в переговоры, предлагая, чтобы он «воздержался от дальнейших обид и согласился на честные условия мира». Лишь после неудачи таких переговоров Елизавета соглашалась оказать своему союзнику помощь войсками и вооружением. Такую процедуру царские советники нашли не только излишней, а прямо вредной («толко обсылатца с недругом и недруг в те поры изготовитца»), а царь с раздражением заметил, что Елизавета «хочет с нами быти в докончании (союзе. – Б.Ф.) словом, а не делом». Другая трудность состояла в высокой цене, которую требовалось уплатить за заключение союза. Елизавета соглашалась на заключение договора лишь в том случае, если объединению торгующих с Россией английских купцов – «Московской компании» – будет предоставлена монополия на торговлю во всех портах севера России, которые закроются для голландских, французских и других купцов. Царские советники дали ясно понять послу, что они хорошо представляют себе последствия такого шага, тот огромный ущерб, который это соглашение нанесет России («опроче аглинских людей торговати на Русь ходити не учнет нихто, и они станут свои товары дорожить и продавать дорогой ценой по своей мере, как захотят»), но Джером Боус, следуя инструкциям Елизаветы, упрямо стоял на своем.
… Царь оказался перед нелегким решением, но желание отомстить врагам оказалось у него столь сильным, что он решил пойти на жертвы, чтобы добиться заключения союза. Советники, возражавшие против уступок англичанам, были отстранены от ведения переговоров, а к английскому послу отправился Богдан Бельский, который поставил перед ним один единственный вопрос: если царь даст английским купцам монополию на торговлю с Россией, будет ли заключен союз против царских «недругов» – Стефана Батория и шведского короля Юхана III. Ответ посла был положительным: «королевна для тое дружбы станет с тобою, государем, заодин на литовского и на свейского». После этого по приказу царя Богдан Бельский подготовил новый проект русско-английского договора, включавший в себя обязательство сторон «стояти заодно… доставати Лифлянские земли».
Воодушевленный успехом, Боус обещал содействовать продолжению переговоров о новом браке царя, так как выяснилось, что помимо Мэри Гастингс у королевы есть и другие родственницы – «и ближе тое племянницы есть их до десяти девок». Боус обещал сам позаботиться о том, чтобы в Лондоне были написаны их портреты и отосланы в Москву с тем послом, который поедет к Елизавете для окончательного оформления договора о союзе8787
Джером Боус «Посольство Ер. Бауса», http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bauth/text.phtml?id=85
[Закрыть].
Царь, несомненно, был доволен успехом переговоров. В его представлении новый посол, которого он намеревался отправить в Лондон, должен был доставить ему официально утвержденный текст договора, условия которого были согласованы с представителем Елизаветы. Но до Боуса начало доходить то, что он допустил непростительную дипломатическую и политическую ошибку. Далее Флоря пишет: «… Знакомство с инструкциями, которые Елизавета дала своему послу, показывает, что она стремилась и далее уклоняться от вмешательства в конфликты в Восточной Европе на стороне Ивана IV, и условия договора, подготовленные в Лондоне, существенно отличались от тех, которые стали итогом переговоров в Москве. Получение «Московской компанией» монополии на торговлю с Россией вряд ли повлияло бы на изменение этой позиции. Помимо того что главные цели, которых стремилось добиться в начале 80-х годов XVI века правительство Елизаветы, требовали от него активной политики совсем в другом регионе Европы – во Франции и Нидерландах, еще больше, чем в торговле на севере России, английское купечество было заинтересовано в торговле с Речью Посполитой (Англия была одним из главных потребителей польского хлеба) и никто не хотел ставить эти интересы под угрозу, ввязываясь в новую войну Ивана IV с Баторием»8888
Флоря Б.Н, там же, глава «Последние годы»
[Закрыть]. И это действительно так: в инструкциях королевы на переговоры в Москве нет ни слова о возможности размена – союзный договор против монополии английским купцам на северную торговлю8989
Толстой Ю.В. «Первые сорок лет…», с. 206.
[Закрыть]. Недаром Андрей Щелкалов высказывал в ходе переговоров сомнения в наличии у посла Боуса необходимых полномочий, и допускал, что «вообще посол он ненастоящий».
Вкупе с рассуждениями о других родственницах королевы, которых Боус взялся приискать Ивану IV, по возвращении на родину английского посла в лучшем случае могла ожидать позорная отставка. И далее Флоря пишет: «Когда 17 февраля 1584 года завершились переговоры Богдана Бельского с английским послом, оставался всего один месяц до смерти царя». В течение этого месяца Боус, надо полагать, все глубже осознавал всю опасность своего положения, в которое он поставил себя своей самонадеянностью и неосмотрительностью. Судя по всему, он пришел к выводу, что в случае смерти царя союзный договор превращался бы в никому ненужную бумагу и его промахи можно было бы скрыть. Исполнить задуманное было не просто но возможно: к его услугам был английский врач при царской особе, Роман Якобий. Складывается впечатление, что Боус действовал не очень аккуратно. Флоря прямо пишет об этом: «Боус находился в постоянном контакте с английским доктором». Стоит ли удивляться, что Боус после смерти Ивана Грозного был арестован и в ходе следствия «посол, сэр Джером Баус, дрожал, ежечасно ожидая смерти и конфискации имущества; его ворота, окна и слуги были заперты, он был лишен всего того изобилия, которое ему доставалось ранее»9090
Флоря Б.Н., там же.
[Закрыть].
Следует, вероятно, еще раз повторить, что от смерти Боуса спас только Борис Годунов, только благодаря его заступничеству английскому послу позволили безнаказанно возвратиться на родину. Это была благодарность за непрошенное содействие: скоропостижная кончина Ивана Грозного открыла ему путь к власти и в дальнейшем – к престолу. Маловероятно, чтобы Боус действовал в сговоре с Борисом Годуновым, хотя полностью исключать подобную вероятность не стоит. Можно, однако, с высокой степенью уверенности утверждать, что Борис Годунов понимал ситуацию в деталях. Именно поэтому Годунов пошел даже на то, чтобы скрыть факт подписания Боусом союзного договора. Под видом жалоб на английского посла он выгораживал Боуса в послании к королеве Елизавете, давая понять, что переговоры провалились и военный союз создать не удалось. Еще одним алиби для Боуса стало послание царя Федора Иоанновича, которой вслед за Боусом привез в Лондон Роман Бекман, толмач Московской компании. В послании Федор Иоаннович писал: «И посол твой будучи у отца нашего, в. г[осу]д[а]ря ц. и в. князя, многие непригожие слова перед отцом нашим говорил, чего никоторому послу говорить перед великим государем не пригоже; а на бояр наших докладывал ложь, будто они не с теми словы к отцу нашему приходили, что с ним говорят; а делу никотору толку не дал, толко искал своей беспутные чести да корысти, чтоб ему кормы многие давали, а дела никоторого не говорил»9191
СИРИО, Т. 38, с. 148.
[Закрыть]. Изложенные выше дополнения к версии Бориса Флори по поводу смерти Ивана Грозного и степени вовлеченности в них Бориса Годунова можно признать неубедительными только в одном случае – Борис Годунов был полностью отстранен от переговоров с Боусом и ничего не знал о подписании союзного договора.
Впрочем, нельзя исключать и еще одной версии, в соответствии с которой отравление царя Ивана IV было заранее спланированной операцией. С точки зрения интересов Лондона русский царь превратился в серьезный раздражитель, его настойчивые попытки подписать с Англий союзный договор создавали ненужные и даже опасные сложности для реализации замыслов английского правительства в Европе. Во-первых, начала вырисовываться перспектива союза Московии с Габсбургами, на чем настаивал думный дьяк Посольского приказа А. Щелкалов. С начала 1580-х годов в Москве заметно активизировалась деятельность иностранных дипломатов. С 1581 года в Москве находился папский нунций Антонио Поссевино, отметивший серьезность и тщательность, с которыми велись переговоры с ним об обращении русских в католическую веру с сохранением православной обрядности. Историки в большинстве своем склонны полагать, что Иван Грозный шел навстречу Поссевино только в расчете на его посредничество в мирных переговорах со Швецией, но никаких обещаний папскому иезуиту не давал, а если и давал, то выполнять их не собирался. Несомненно, для таких утверждений можно найти серьезные основания, но Габсбурги были весьма настойчивы, и им активно помогал Андрей Щелкалов. Проявляли активность император Священной римской империи, король Рудольф II и Филипп II Испанский, пытавшиеся создать союз против Оттоманской империи, что становилось все более важным и для русских. Более того, Филипп II намеревался добиваться изгнания английских купцов из русских портов и даже был готов захватывать английские корабли. Допустить союз Габсбургов с Россией означало для англичан не только получить против себя мощнейшую коалицию континентальных держав, но и лишиться основного источника стратегических товаров, необходимых для строительства английского флота.
Во-вторых, с окончанием Ливонской войны Иван Васильевич получал возможность вернуться к реформам молодости, заняться хозяйственными вопросами в масштабах централизованного государства, которое к тому времени по площади равнялось половине Европы. Для этого уже были созданы важнейшие предпосылки. Опричнина позволила ослабить сопротивление старинного боярства и конфисковать боярские вотчины, необходимые для создания нового дворянства на основе принципа «нет службы – нет земли»9292
При этом, как утверждает историк А.В. Пыжиков, крайне важно уточнить, что отнюдь не все боярство было подвергнуто репрессиям. Традиционный подход историков вольно или невольно скрывает основных пострадавших. Историк С.Б. Веселовский провел анализ синодиков, в которые аккуратно заносились жертвы репрессий. Из его анализа следует, что около 30–40 процентов репрессированных – выходцы из Новгорода и Пскова, старые враги московского княжества. Из оставшихся почти половина, то есть ещё треть, – литовско-украинские выходцы и их слуги.
[Закрыть]. В Московском царстве была создана довольно эффективная система государственного управления, включавшая систему приказов в Москве, а также местное самоуправление в лице наместников, волостелей, выборных губных и земских старост. Еще в первые годы царствования Ивана Васильевича была проведена денежная реформа, введена единая денежная единица – московский рубль. Были отменены «кормления», а сбор налогов и торговых пошлин были переданы в приказ Большого прихода. Удалось осуществить унификацию налоговой системы на базе «большой сохи»9393
Большая соха – участок земли в 400-600 га, с которого в зависимости от плодородия почв взималось «тягло», т. е. натуральные и денежные повинности.
[Закрыть], а также отменить налоговые льготы для монастырей, что позволило создать определенную финансовую базу для решения первоочередных задач. Среди этих задач, как показала Ливонская война, на первом месте стояла недопустимо высокая зависимость страны от привозных «орудий войны». Пушкарскому приказу предстояло без промедления заняться созданием мануфактур и заводов для производства современных пушек и мортир, пороха и прочего военного снаряжения, а это грозило запустить в Московии процессы хозяйственного развития, лишая английских купцов важного рынка сбыта произведений английской промышленности. Россия же получала шанс превратиться в мощную централизованную Российскую империю. В официальных бумагах английского правительства того времени, которые приводит в своих сборниках документов, известный историк английских завоеваний Ричард Хаклит, Ивана IV официально именуют «императором» России, царем и великим князем московским. Со смертью Ивана Грозного фактически пресекалась династия московских Рюриковичей. Его сын Иван погиб или был убит, второй сын Федор, по словам самого Ивана Васильевича, был «постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый». Неизбежная в таком случае борьба за царский престол грозила неисчислимыми бедствиями и разорением государства. Таким образом, мотивы для устранения Ивана Васильевича у англичан были вполне основательные. Как известно, по венецианской традиции за создание угрозы государственным интересам виновный по приговору Совета десяти полагалась смерть.
Царь Федор Иоаннович и Борис Годунов
Еще одна миссия Горсея
После коронации Федора Иоанновича в мае 1584 года Годунов, еще только один из пяти членов опекунского совета, отправил Горсея в Лондон в качестве посла нового русского царя с известиями о происшедших в России событиях, а также с просьбой о поставках металлов, меди, олова и свинца, «что к ратному делу пригождаеца»9494
Следует отметить, что поставки железа, меди, свинца, олова и различного оружия стали после сукна важнейшими товарами в английском экспорте в Россию. Как утверждает историк А.Н. Волынец, только в 1604 году английские и голландские корабли доставили в Архангельск различных металлов на 16088 рублей. Следует иметь в виду, что цены на европейское железо были весьма высоки. В начале XVII века один пуд (16 кг) русского железа стоил у производителя около 60 копеек, стоимость пуда импортного шведского железа достигала 1 рубля 30 копеек. Пуд импортной железной проволоки стоил еще дороже – от рубля до трех. При этом лошадь тогда оценивалась в 2 рубля, а купить холопа стоило от 3 до 5 рублей. Главным поставщиком железа в Россию в XVII веке стала Швеция. Только в 1629 году царская казна купила 25 тысяч пудов высококачественного железа из Швеции – то есть свыше трети всего железа, появившегося в России в том году. На протяжении XVII века свыше 90% стоимости всех закупок русских купцов в Швеции составляли медь и железо, в отдельные годы этот процент был еще выше – например, в 1697 году, буквально накануне начала Северной войны, 97% всех русских денег, потраченных в Стокгольме, ушло на покупку железа и меди. Мощная металлургическая база превратила к XVII столетию Швецию в ведущую сверхдержаву Балтийского региона, сделав эту страну могущественным и сложным противником России во время будущей Северной войны.
[Закрыть]. Вез Горсей и специальное послание о посольстве Боуса. По дороге Горсей заехал в Ригу и выполнил весьма важное поручение Годунова. Ему удалось получить доступ к вдовствующей королеве Ливонии Марии Владимировне, дочери Владимира Старицкого, двоюродного брата Ивана Васильевича, убитого по его приказу еще в 1569 году. Мария Владимировна и ее малолетняя дочь в случае смерти бездетного царя Федора Иоанновича становились прямыми претендентками на царский престол. Горсею эти обстоятельства были хорошо известны. В Рижском замке Мария Владимировна и ее дочь содержались, по сути, на правах пленниц. Пользуясь расположением Юрия Радзивилла, ливонского наместника польского короля, Горсей получил разрешение встретиться с Марией Владимировной. Он передал ей приглашение Федора Иоанновича вернуться в Москву, чтобы не испытывать лишения на чужбине, и обещая ей все блага, соответствующие ее статусу. (Судьба Марии Владимировны оказалась предсказуемой – около 2 лет она пользовалась милостями нового русского царя, но затем по неизвестной причине ее постригли в монахини Подсосенского монастыря, где при невыясненных обстоятельствах скончалась ее малолетняя дочь.) Мария Владимировна несмотря на определенные сомнения приняла приглашение царя. Обстоятельства ее бегства до сих по не ясны. По одной версии Годунов, получив известие о согласии Марии Владимировны вернуться в Россию, организовал конные подставы на всем пути следования и обеспечил ее безопасность. Подобная операция представляется многосложной и отнюдь не безопасной. Более вероятно, что при содействии Горсея беглянка воспользовалась английским кораблем, стоявшем в Рижском заливе, который доставил ее к устью реки Невы. За оказанную услугу царский шурин обещал щедро наградить англичанина и добиться у государя особых привилегий для купцов Московской компании9595
Таймасова Л.Ю. «Английский проект колонизации русского севера, или золото «земли Писид», «Исторический формат», №1, 2020 год, с.100.
[Закрыть]. Правда, награды Горсею пришлось дожидаться очень долго. В июне 1604 года Борису Годунову было доставлено его послание, в котором он напоминал о данном обещании9696
Бантыш-Каменский Н.Н. там же, с. 100.
[Закрыть]. Послание было доложено Годунову только в январе 1605 года, а затем Годунов неожиданно скончался. Как утверждают историки9797
Таймасова Л.Ю. там же, с. 110.
[Закрыть], долг был погашен только в 1630 году при Анне Иоанновне. Настойчивость Горсея, а затем и английского правительства, вызывает удивление, но в этом есть своеобразная логика «суконщиков», как называл англичан царь Петр. В Лондоне якобы рассматривали действия Горсея при освобождении Марии Владимировны как миссию официального представителя Московской компании и лично королевы Елизаветы, и поэтому вопрос был вынесен на официальный дипломатический уровень. В рамках версии бегства Марии Владимировны на английском корабле официальное требование со стороны английского правительства возмещения понесенных затрат и вознаграждения выглядело вполне логично.
В Лондоне Горсей явился к сэру Фрэнсису Уолсингему, который устроил ему аудиенцию у королевы. «Ее величество, – писал об этой встрече Горсей, – приняла письма царя и мою речь очень благосклонно и с большими похвалами мне; [она сказала, что] рада иметь слугу столь верного и опытного в делах, что ему дает поручение такой великий иностранный государь»9898
Джером Горсей, «Путешествия…», с 34.
[Закрыть]. Про послание Годунова Горсей в мемуарах вспоминает вскользь, потому что при докладе королеве произошло досадное «недоразумение». Горсей, как уже отмечалось, по просьбе Боуса несколько смягчил в своем переводе смысл послания Годунова по поводу пребывания Боуса в Москве. Как утверждает Горсей, несколько позже он по настоянию своего шефа, лорда Уолсингема уточнил содержание послания и якобы Боуса от дел удалили, а Горсею пришлось отправиться обратно в Москву. Ему было поручено передать две грамоты. Одна была адресована царю Федору Иоанновичу, и в ней Елизавета сообщала о том, что конфликт улажен и «промеж нас будет вечная любовь»9999
Там же, с. 170
[Закрыть]. Вторая грамота по совету Горсея была адресована лично Годунову. Елизавета полагала, что в лице Годунова она нашла «защитника английских интересов», «ласкателя англичан» при царском троне, который мог бы сбалансировать влияние Андрея и Василия Щелкаловых.
Андрей Щелкалов, думный дьяк посольского приказа, как уже отмечалось не любил английских купцов, не считал нужным предоставлять им монополию на торговлю через русский север в ущерб голландцам и немцам. Союз с Англией Щелкалов считал невозможным в виду уже чисто географической разобщенности двух стран и указывал царю на Габсбургов как естественных союзников в борьбе с Оттоманской империей, которая угрожала обоим государствам. Горсей утверждал потом, что голландцы ежегодно платили Щелкалову пять тысяч рублей.
Горсей о ситуации в России
Возвращение Горсея в Россию было многообещающим. Все поручения Годунова были успешно выполнены, королева тоже осталась довольна. В Москве Горсея ожидало качественно новое положение фаворита русского неофициального правителя. «Я выехал из Англии, хорошо снаряженный, с девятью добрыми купеческими кораблями, и благополучно прибыл в бухту св. Николая, затем добрался до Москвы, проехав 1200 миль, и явился к лорду-правителю, теперь сделавшемуся князем провинции Вага. Он радостно встретил меня и после длинной беседы повел задним ходом к царю, который, казалось, был рад моему возвращению, потчевал (pochivated) меня, развлекал, а затем отпустил. На следующий день князь-правитель прислал за мной и рассказал мне много странных происшествий и перемен, случившихся за время моего отсутствия в Москве. Я был огорчен, услышав о заговорах родственников царицы, матери царевича Дмитрия (Charivwich Demetrius) и отдельных князей, объединенных с ним [Борисом Годуновым] в регентстве (comission)100100
В состав опекунского совета вошли бояре князь Иван Федорович Мстиславский, боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев, князь Иван Петрович Шуйский, а также служилые люди Богдан Яковлевич Бельский и Борис Федорович Годунов, хотя в духовной Ивана Грозного имя Годунова не значилось.
[Закрыть] по воле старого царя, которых он, зная теперь свою силу и власть, не мог признавать как соперников. «Ты услышишь многое, но верь только тому, что я скажу тебе» [сказал мне князь-правитель]. С другой стороны, я слышал большой ропот от многих знатных людей. Обе стороны скрывали свою вражду, с большой осторожностью, осмотрительностью и дипломатией взвешивая свои возможности, это, однако, не могло хорошо кончиться ни для одной из этих сторон». Как представляется, Уолсингем и королева были немедленно проинформированы о начинающемся соперничестве различных придворных группировок.
Переписка Елизаветы с Годуновым
Переписка Елизаветы и Годунова в этот период омрачилась в связи с тем, что главный агент Московской компании Роберт Пикок в своей деятельности выходил за рамки чисто торговых операций. В одном из писем Годунов жаловался на то, что Пикок без дозволения отправляет гонцов в Вильну и в Варшаву «как бы лазутчиками» в то время, как война с Польшей не окончена. Купцы Московской компании, пользуясь льготным положением, платят по сравнению с другими иностранными компаниями половинную пошлину и при этом требуют вообще запретить другим иностранным купцам пользоваться северным маршрутом, открытым англичанами, сами привозят на своих кораблях купцов, которых выдают за англичан, торгуют не английскими товарами, да еще в розницу. В январе 1586 года царь Федор Иоаннович урезал английские привилегии. По новой грамоте Московской компании было запрещено выдавать за английские товары иного происхождения, а также вести розничную торговлю на территории английских подворий в Москве и других русских городах. Федор Иоаннович и его опекун Годунов явно не собирались оставаться «ласкателями» англичан, у них были самостоятельные планы.
Годунову стали также известны «проделки» самого Горсея. В 1587 году Горсей был отправлен вновь послом в Лондон. В письмах, которые он вез с собой королеве, содержались серьезные претензии в отношении его недобросовестной «коммерческой» деятельности, а также просьба никогда больше не направлять его в Россию. Его присутствие в Москве стало обременительным. Горсея в открытую называли шпионом, а его влияние при дворе настолько ослабло, что вопреки его хвастливым утверждениям о том, что в 1587 году ему удалось добиться восстановления привилегий Московской компании, положение английских купцов напротив ухудшилось.
Горсей тем не менее в том же 1587 году попытался тайно вернуться в Москву. На этот раз его путь пролегал сушей через Европу, где он совершил несколько остановок, в том числе в Варшаве и Вильне. По его утверждениям, в Варшаве, где его пребывание затянулось, он передал письма Елизаветы королю Сигизмунду I и решал коммерческие споры с польскими купцами, которые задолжали своим английским контрагентам. В Вильне, как он сам признался, у него не было поручений от королевы, но тем не менее он встретился с великим князем Радзивиллом. «Он принял меня, – записал позднее Горсей, – с почетом и пышностью, говорил, что хотя мне ничего не поручено передать ему от королевы Англии, но он столь высоко ценит, почитает и восхищается ее добродетелями, заслугами, что примет меня как ее посланника…».
Чем конкретно занимался Горсей в Варшаве и Вильне доподлинно неизвестно, но следует иметь в виду, что в обеих столицах концентрировались оппозиционные русскому царю силы. Неудивительно, что в Смоленске его арестовали. Он попытался въехать в Россию под чужой фамилией, что само по себе было серьезным преступлением, однако его узнали, задержали и препроводили в Москву и поселили под надзором, а по сути, под арестом в доме суздальского епископа.








